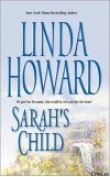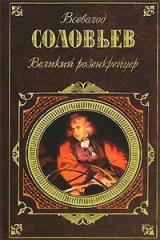
Текст книги "Волхвы"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XV
Захарьев-Овинов первый прервал молчание.
– Князь, – сказал он, – я приехал в Петербург, вызванный письмом моего отца. Отец мой болен, и хотя болезнь его не угрожает жизни, но параличом он прикован к постели. Он потерял почти одновременно жену и дочь три года тому назад, и это несчастье было причиной его болезни. У него оставался сын, единственный после него представитель старого имени князей Захарьевых-Овиновых. Теперь ровно полгода как жестокая горячка в несколько дней унесла этого тридцатилетнего человека, полного сил и здоровья. Вы его знали, князь, он служил под вашим начальством и пользовался, как мне кажется, вашим вниманием.
– Да, я знал довольно близко вашего брата, он был способный и хороший человек, и я думал, что ему предстоит хорошая дорога, – произнес Потемкин, поднимая на собеседника свой уже успокоенный, полный всегдашней силы взгляд.
– Но суждено было другое, – продолжал Захарьев-Овинов, – отец едва перенес это новое горе, но все же перенес его. Он остался совсем одиноким. Тогда он вспомнил обо мне, своем старшем, но непризнанном, незаконном сыне… впрочем, он никогда не забывал обо мне, только мы не видались около пятнадцати лет… Он обратился к государыне с прошением о передаче мне всех прав и родового имени и титула. Государыня исполнила это желание. Я ничего не знал и был очень далеко. Письмо отца, извещавшее меня обо всем происшедшем, совсем изменило и значительно расстроило мои планы. Но я не мог отказать отцу в его настоятельной просьбе приехать… Я здесь и поэтому – ибо в природе нет ничего, что не вытекало бы одно из другого как следствие и причина – я нахожусь теперь в сфере неизбежных причин и следствий, образующихся уже помимо моей воли…
– Что вам угодно этим сказать? – довольно небрежно проговорил Потемкин.
– Только то, что я уже сказал: единственным моим свободным действием – из нежелания оскорбить отца, из желания хоть несколько примирить его с судьбою и успокоить был мой приезд в Петербург. Все последующее, пока не произойдет чего-либо нового и серьезного, пока я нахожусь в сфере влияния моего свободного действия, то есть приезда сюда, уже не мое дело, а дело обстоятельств, вытекающих одно из другого…
– Вы, государь мой, философ! – улыбнулся Потемкин.
– А вы сами разве не философ?
– Да, и моя философия должна сказать мне, что все ваше обстоятельное, философски повествовательное слово вы вели к тому, чтобы объяснить мне нижеследующее: приятностью видеть вас я обязан не вашему желанию, а только силе обстоятельств?
– Совершенно так.
«Светлейший» не хотел сердиться, но он решительно не привык к таким разговорам, и ему невольно становилось не совсем по себе.
– Я вас не держу, коли так! – неопределенным тоном проговорил он.
– Нет, князь, – и блестящий, смущающий взгляд Захарьева-Овинова остановился на Потемкине, – нет, если я подчиняюсь обстоятельствам, подчинитесь и вы. Вы должны по обещанию, данному вами государыне, разглядеть меня хорошенько, расспросить и передать ей свои заключения. Исполняйте же это, а я буду помогать вам.
Потемкин сделал быстрое движение и отбросил от себя подушку. В нем поднималась нервная возбужденность, он начинал заинтересовываться, хотя и не мог еще определить чем именно. Этот новый русский князь, этот бывший господин Заховинов, так не похожий на других людей, повторил сейчас слова государыни, которых не мог ни слышать, ни знать. Странная случайность!
Захарьев-Овинов между тем продолжал:
– Скажу вам прямо, ибо с вами я хочу говорить прямо: я подчинялся неизбежности ехать к вам с некоторым неудовольствием. Но теперь я чувствую себя хорошо и доволен, что я у вас и с вами. Несмотря на то что я жил очень далеко и своей собственной жизнью, я в эти последние годы не мог не встретиться с вашим именем – оно слишком громко. Я не раз останавливался на вас мыслью, но долго останавливаться мне было некогда, и потому я плохо знал вас. Вижу теперь, что и вообще вас очень плохо знают…
«Странно! странно! – думал Потемкин. – Что он такое говорит, как может он так говорить, и зачем я его слушаю? Это какой-то дерзкий маньяк… какой-то глупец с претензиями…» Однако он его слушал с все возраставшим интересом и невольно любовался его лицом, прекрасным в своем ледяном спокойствии, его светлыми глазами, из которых изливались непонятные лучи. Его влекло к этому дерзкому маньяку, и в то же время он чувствовал в себе что-то как бы даже страшное.
Князь Захарьев-Овинов продолжал:
– Да, вас очень плохо знают… Но это так и нужно… таких людей, как вы, всегда плохо знают…
– Вы говорите, как будто вы-то меня вдруг, мгновенно узнали! – перебил Потемкин и засмеялся. Но это был не самый искренний смех.
– Я теперь вас знаю, Григорий Александрович, – очень твердо и очень спокойно сказал Захарьев-Овинов.
«Григорий Александрович!» Кто же теперь осмеливается так называть его? Но Потемкин этого даже и не заметил.
– Как же вы меня понимаете, государь мой?
– Я понимаю вас как очень несчастного человека.
Потемкин ничего не сказал. Он весь превратился во внимание.
– Вы очень несчастный человек, – продолжал Захарьев-Овинов, – и сами хорошо знаете это. У вас есть все, что вы считали за счастье, а счастья все же нет и никогда не было. Ибо можно ли назвать счастьем краткие мгновения удовлетворенного самолюбия и гордости, преходящие в чувственные удовольствия? Все это может быть счастьем для многих, но не для таких, как вы. Ведь вы знаете, что за такими краткими мгновениями всегда наступают часы и дни пущей тягости и томления… Достигнуто, выпито до дна – и ничего кроме горечи, ничего кроме сознания, что достигать не стоило! Так ли это, князь? Верно ли я понимаю?
– Верно, – мрачно произнес Потемкин.
– А если верно – значит, я не дерзкий маньяк, не глупец с претензиями, как вы меня сейчас назвали!
– Помилуйте, князь, когда же я… так называл вас?
Лицо «светлейшего» побледнело.
– Все равно – подумали.
Потемкин порывисто встал с дивана и тяжелыми шагами стал ходить по комнате. Брови его сдвинулись, на лбу выступила глубокая морщина. А в голову среди наплывавшего тумана так и стучало: «Что же это? Я сплю?.. Я брежу?..»
Странный гость говорил:
– Почему же вы несчастны? У вас есть все, что имеет цену в глазах людей: того, что у вас есть, достаточно с избытком на целую толпу людей, жадных до земного блеска, почестей и славы. Чего же вам надо? Чего вы ищете? Я жду ответа.
И Потемкин ответил:
– Я не знаю, чего ищу, не знаю, чего мне надо; но мне надо чего-то – и я что-то ищу всю жизнь…
– Какое жалкое бессилие при такой силе! – воскликнул Захарьев-Овинов. – Как же вы, человек глубокого разума, не знаете, чего вам надо? Разгадка проста. Если ничто земное не дает удовлетворения, не может напоить и насытить, если голод и жажда остаются те же, значит, надо искать пищи и питья не на земле, а где-нибудь в ином месте…
– На земле у человека есть обязанности, есть долг… назначение! – сказал Потемкин.
– Правда, но я не хочу сказать, что вы должны покинуть землю, я только говорю, что и на земле не все – земля. И вы хорошо понимаете это, доказательством тому – эта читанная вами книга… Но не в книгах дело! Если вы хотите чего – умейте взять! Вы часто думаете, что вам все доступно. Вам доступно многое, но вы захватили слишком много излишнего и ненужного, и эта ноша вас давит… Сбросите ли вы ее когда-нибудь? Погибнете ли под ее тяжестью?..
Потемкин тяжело дышал. В лице его изображалось смущение, тревога.
– Остановитесь! – глухим голосом произнес он, хватая руку Захарьева-Овинова и крепко сжимая ее своей сильной рукою. – Довольно!.. Это тяжело!.. Но кто же вы, читающий в душе человека, видящий его мысли? Откуда вы пришли, где научились всему этому?.. Кто вы?
– Я человек, которому ничего не надо… Так и скажите обо мне государыне…
XVI
Проходили минуты, прошел час, уже кончался другой, а Потемкин не замечал времени, увлеченный беседой со своим странным гостем.
Теперь он уже перестал смущаться необычностью этой беседы, перестал бороться с нежданным влиянием на него человека, осмелившегося не только прийти к нему как к равному, но даже глядеть на него, «светлейшего, всемогущего Потемкина», как-то сверху вниз с какой-то дерзновенной, смущающей и непонятной высоты.
Привычка властвовать, повелевать, видеть как должное и естественное общее преклонение и подобострастие забылась. Потемкин уже не думал о том, что он – Потемкин. Он был теперь только человеком, глубоко неудовлетворенным в своей высшей жажде, томившей его всю жизнь, и жадно впитывал в себя странные, таинственные речи, казавшиеся ему именно той живящей влагой, какую он до сих пор напрасно искал. «Тот, кому ничего не надо», после первых минут борьбы сразу победил его, кому так много было надо и в ком так нуждались. «Маньяк» заворожил его и овладел всем его существом так же всецело, как овладел, даже помимо своей воли, юной и чистой душой «весталки» праздника в Смольном, как овладел томящейся по жизни и счастью душой красавицы графини Зонненфельд.
Потемкин, наконец, забыл, где он, с кем. Он будто беседовал со своею собственной душою, от которой у него не было и не могло быть никаких тайн. Он переживал снова всю свою внутреннюю жизнь и, останавливаясь на некоторых, особенно памятных ему, мгновениях этой жизни, вопрошал, требовал разъяснений. И всякий раз он получал эти разъяснения и оставался ими совершенно удовлетворенным. Он не имел теперь никакого сомнения в том, что тот, кого он вопрошает, знает все, что ему нечего рассказывать, сообщать какие-либо подробности. Тот, кто говорил с ним, действительно знал всю его внутреннюю жизнь как свою собственную, только знал ее глубже, совершеннее, чем он сам.
Когда наконец чары рассеялись и Потемкин вернулся к материальной действительности, увидел себя среди знакомой обстановки, в халате и туфлях на босу ногу, а пред собою князя Захарьева-Овинова, ему показалось, что он только что проснулся. Что такое было все это? Может быть, действительно, сон? Да и разве это не могло быть сном? Он уж почти хотел спросить об этом своего гостя, хотел перед ним извиниться, что заснул… Он взглянул на часы. Однако этот сон продолжался более двух часов! И гость все здесь, он не изумлен нисколько; его интересное бледное лицо с ясными, жутко блестящими глазами все так же спокойно…
Нет, то был не сон! Но что же? И вдруг Потемкин почувствовал, что не следует, нельзя останавливаться на этом вопросе. Да он и не имел силы на нем остановиться. Его поглотило другое ощущение, другое сознание: он, так многих презиравший, холодный, равнодушный, одинокий, и самого-то себя любивший как будто только по привычке из необходимости, полюбил этого странного человека всем своим мгновенно отогретым сердцем. Он будто возродился, будто вернулся ко дням своей мечтательной юности.
С него вместе с этой вспыхнувшей любовью спала вся тягость лет, почестей, славы, гордости, величия. В его любви была и нежность, и робость, почти поклонение. Произошла сцена, действительности которой вряд ли поверил бы посторонний свидетель. Но такого свидетеля не было и не могло быть – в апартаменты «светлейшего» никто не смел являться без зова.
Потемкин раскрыл свои могучие объятия и с преображенным, прекрасным лицом привлек к себе на грудь князя Захарьева-Овинова.
– Брат! – шептали его губы. – Тебе ничего не надо, но мне надо, чтобы ты был братом, чтобы ты спас меня от тоски, отчаяния и зла.
Захарьев-Овинов спокойно ответил:
– Да ты брат мне; но вряд ли я спасу тебя…
– Разве ты видишь мою неминуемую гибель?
И голос Потемкина невольно дрогнул, и сердце его почти перестало биться в ожидании ответа.
Ответ был:
– Мы всегда стоим над бездной… один неверный шаг – и бездна может поглотить нас… и чем выше мы поднялись, тем гибель наша ужаснее. Я не могу спасти тебя, ибо не я повелеваю судьбою… Я могу только предостеречь тебя и предостерегаю: опасность близка, она стучится у раззолоченных дверей твоих. Тебе предстоит роковая встреча. Ты еще раз обольстишь себя чарами женской красоты, забудешь, что такое эти чары и чего они стоят, что скрыто за ними… Но в самую опасную минуту я буду с тобою… Это я тебе обещаю… Только захочешь ли тогда моей помощи?
– Князь, такая опасность, сдается мне, для меня не очень опасна? – сказал Потемкин, и улыбка скользнула по его лицу.
– Ошибаешься и напрасно столь надеешься на свои силы: цепи, сплетенные из цветов, труднее разорвать, чем железные цепи.
– В таком случае, я буду ждать тебя, по твоему слову, в самую опасную минуту… А государыне так и скажу, что ты «человек, которому ничего не надо». Или нет, не скажу ей этого: она таких не встречает и не знает, а потому почувствует в тебе большую необходимость. Ты же должен оставаться вполне свободным. Так ведь?
– Если мне ничего не надо, то, значит, я равнодушен и к рабству, и к свободе. Делай, как знаешь, я полагаюсь на твой разум…
Они обнялись еще раз, и князь Захарьев-Овинов вышел.
XVII
Перед подъездом «светлейшего» дожидалась карета, дверцы которой были украшены гербом с княжеской короной. Захарьев-Овинов молча сел в эту карету. Кучер на мгновение замешкался, ожидая приказания, но так как приказания не последовало, он решил, что, значит, надо ехать домой. Вороные кони тронули быстро, ровною рысью, и минут через пятнадцать карета остановилась перед домом внушительного и барского вида. Старый почтенный камердинер, очевидно, дожидавшийся у входных дверей, стал было сходить с каменных ступеней, чтобы отворить каретную дверцу, но Захарьев-Овинов уже предупредил его и быстро поднялся по ступеням. Камердинер едва успел распахнуть перед ним тяжелые дубовые двери и в то же время доложить:
– Их сиятельство изволили дважды вас спрашивать и приказали доложить вашей милости, что они ждут вас.
– Хорошо! – сказал Захарьев-Овинов, передавая свой плащ и шляпу камердинеру и направляясь к широкой парадной лестнице, ведшей во второй этаж, где находились парадные комнаты и где также помещался хозяин.
В доме царила глубокая тишина, да и вообще этот красивый, богато обставленный дом производил впечатление покинутого, опустевшего жилища. Здесь прошла смерть, унесла одну за другою три жизни, и это, как и всегда, чувствовалось, если только было кому отдавать себе отчет в своих тонких, но тем не менее не мнимых, а действительных ощущениях.
Захарьев-Овинов прошел обширную залу, где с белых лоснящихся стен глядели старинные, по большей части искаженные неумелой кистью, лики родовых портретов, прошел еще несколько комнат, откуда так и веяло на него следами недавно прерванной и чуждой ему жизни, и постучался у запертой двери.
– Кто там? – расслышал он изнутри.
– Это я, батюшка.
– Войди.
Он вошел, и его взгляд остановился на старике, погруженном в огромное, обложенное подушками кресло. У старика было изнеможденное, желтое, как старый воск, лицо, с почти потухшими глазами, с чертами, уже, очевидно сильно измененными жизнью и страданиями, но все же не лишенными большой привлекательности. Почти вся правая сторона тела старика была парализована. Нога совсем не действовала, рука с трудом поднималась. Несмотря на то что в комнате было жарко, почти душно, старик кутался в меховой халат.
– Здравствуй, сын, – произнес он слабым голосом, кладя на стол книгу, читанную им перед тем.
Сын подошел, наклонился и приложил свои губы к холодной, старческой руке отца.
– Я полагал, что ты уже давно вернулся, – заговорил старик, – и посылал за тобою. Ведь ты сказал мне, что съездишь только к Потемкину. Где же ты был все время?
– Я и был только у Потемкина и теперь прямо от него…
– И то правда я чаю, у него народу видимо-невидимо не доберешься до его новозданной светлости…
– Сегодня у него ни души…
– Так ты, что же, – все время с ним беседовал? – как-то недоверчиво спросил старый князь.
– Да, все время.
Отец поднял на сына свои потухающие глаза и долго глядел на него с неопределенным выражением. Несколько минут продолжалось молчание. Наконец старик прервал его
– Если тебе тяжело со мною, уйди, оставь меня, – сказал он, и голос его задрожал, и в этом голосе послышался вздох.
Сын придвинул себе кресло и сел рядом с отцом. Его спокойное и холодное лицо осталось неизменным, хотя он понял и взгляд отца, и вздох его.
– Батюшка, – произнес он, – мне нисколько не тяжело с вами, тяжело не мне, а вам, и я очень бы желал снять с вас эту тягость.
– Так сними же ее с меня! – и глубокое страдание изобразилось на старом лице князя. – С тех пор как ты со мною, мы еще ни разу не оставались долго наедине… не было времени. Знаю я это… но сегодня я приказал никого не принимать… я хотел бы говорить с тобою и объяснить тебе многое… Да, сними с меня тягость… дай мне почувствовать, что меж нами нет никаких средостении… что ты прощаешь мне свое прошлое.
– Батюшка, мне нечего прощать вам… я благодарен вам за все…
– Нет, не то это, не то! – внезапно оживляясь, забывая свою слабость, свои страдания, воскликнул старый князь, – это слова, я слышу их, но не чувствую…
Сын пристально, своим, как сталь, блестящим и холодным взглядом глядел на отца.
Старик продолжал все с тем же возбуждением:
– Конечно, ты можешь, не зная многого, обвинять меня… Я никогда и ни о чем не говорил с тобою… мы не видались пятнадцать лет, да и последнее свидание наше было кратко. Ты мало знаешь меня, и я мало тебя знаю.
«Кто же виновен в этом?» – пронеслось в мыслях сына и замерло. Он слушал:
– Что было, того не вернуть и не изменить. Оправдываться перед тобой я не могу и не стану. Но я скажу тебе. как все было. Давно, далеко это! Я был молод и жил одними лишь удовольствиями. Проказам моим и счет терялся… Был близок ко двору. Покойница государыня Елизавета Петровна ко мне благоволила, и был я в ее близком кругу еще в трудное ее время, при Анне Иоанновне… Повздорил я как-то с Алешей, ну, знаешь, Разумовским… он, певчий, хохленок, зазнался больно предо мною. Я и отчестил его как подобало… Он бы и ничего, да нашлись другие… доложили. И получил я такое повеление: «Коли не желаю впредь лишиться милостей, отъехать мне в мою новгородскую вотчину Заселье, сидеть там смирно в одиночку, ни с кем не сноситься, одуматься, остынуть и ждать милостивого разрешения вернуться…» Вот я и отъехал, и сидел смирно, ни с кем не сносясь. Как ехал, думал помру с тоски да скуки. А не прошло и десяти дней – началась моя радость. В доме у нас, в Заселье, еще при матушке вырастала Аленушка, дочка покойного отца Никиты, нашего сельского священника. Помнил я ее малым ребенком, а как приехал тогда, вижу: девица красоты несказанной. И как взглянул я на нее, так с той самой минуты ничего другого кругом и не видел. Она и она, везде и во всем она! Полюбили мы – я ее, а она меня – без оглядки, не разлучались ни на час один. И так шли недели, месяц, другой, третий, прошло полгода…
Старый князь остановился весь преображенный. Он даже выпрямился в своем кресле, даже в тусклых глазах его загорелся огонь жизни. Лицо сына оставалось спокойным, только оно как бы слегка потемнело, как бы постарело даже.
Отец продолжал:
– Через полгода пришло ко мне писание за подписью: «Елисавет». Приказано прибыть. Я отписал, что болею… Через месяц новый приказ. Я опять пишу: «Болен-де зело, а как поправлюсь – буду». Еще через месяц третий приказ, строжайший. Нельзя было не ехать. А разлучаться нам с Аленушкой тяжело. Везти ее хотел с собою, да надумал, что обождать надо… не таково было тогда ее здоровье. Тосковал я без нее в Петербурге и дни считал… Вот уже недолго!.. А тут гонец из Заселья: Аленушка родила мне сына, а сама при смерти… Света я не взвидел. Добрая матушка наша Елисавета Петровна как узнала о моем горе, да его увидела, так сама меня послала в Заселье, а тебе крестной матерью быть вызвалась… Не застал я в живых мою Аленушку…
Голос старого князя оборвался. Далекое прошлое встало как живое. Глаза померкли, и из них по желтым высохшим щекам катились одна за другою слезы.
Сын взял руку отца и держал ее в своей, и тепло разливалось по старому больному телу. Это пожатие сыновней руки возбуждало жизнь, смягчало тоску.
– Вот и спадает тяжесть! Ведь так, батюшка?
– Спадает, друг мой! – прошептали бледные губы.
Сын продолжал:
– Да будет же навсегда кончена между нами беседа о прошлом. Все, что вы можете сказать мне, я знаю… Вы любили мать мою… ей не суждено было жить – не ваша в том вина. Вам суждено было жить. Вы утешились, женились, воспитывали детей… Перенесли тяжкие испытания. Теперь исполнили свой долг относительно меня…
– Исполнил ли? Исполнял ли его как следует? – заговорил, снова одушевляясь, князь. – Не смею, не могу таиться пред тобою: до этих тяжелых утрат, до этой моей болезни я очень мало о тебе думал. Судьба лишила тебя матери, но у тебя мог быть отец, а у тебя никого не было. Только теперь я понял это. Ты вырос на чужих руках, ты жил вдали от меня… на чужбине… я забывал даже иной раз посылать тебе деньги… быть может, ты и нуждался…
Сын улыбнулся и покачал головою.
– Я никогда не нуждался. Мне не в чем винить вас, батюшка. Знайте, что если бы я с рождения был князем Захарьевым-Овиновым и жил с вами, в этом доме, окруженный нежными заботами моих кровных, моя судьба была бы не в пример хуже. Знайте, что я доволен своею судьбою, и то, что для другого было бы зло и горе, для меня обращалось в благо…
– Твоя речь темна для меня и непонятна! – печально произнес старик. – Да и сам ты мне непонятен. Я знаю, что ты имеешь большую книжную мудрость, большие познания, но я слишком мало знаю о твоей жизни… А хотелось бы знать, хотелось бы знать, отчего ты такой?
– Какой?
– Не такой, как все… не такой…
Но старый князь не мог уже окончить своей мысли. Сын встал и медленно поднял руку. Глаза отца закрылись в то же мгновение, он откинул голову на подушки и заснул крепким, спокойным сном.