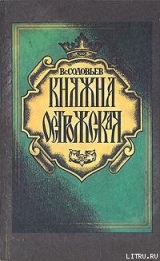
Текст книги "Княжна Острожская"
Автор книги: Всеволод Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 15 страниц)
XII
В то время как Сангушко отражал Зборовского и упал, раненный в голову, оставляя Гальшку в руках противника, Федя также выдерживал сильное нападение. На него наступало два поляка, которым, очевидно, очень нравилось его богатое оружие, – они хотели поделить его между собою. Уже лошадь Феди, тяжело раненная, не в силах была его сдерживать. Он соскочил на землю и ловко увертывался от ударов. Поляки, наступая, загоняли его все дальше и дальше, в глубину леса.
Эта травля, наконец, истощила все терпение Феди. Он решился или умереть, или убить своих врагов и спешить на помощь князю. Ловким движением он вдруг сделал оборот и в свою очередь напал на поляков, Они, никак не ожидая этого, сразу растерялись. Федя быстро воспользовался их замешательством и в одно мгновение уложил одного из них. Борьба с другим не была особенно затруднительна. Поляк, видя силу и ловкость противника, очевидно, трусил – это его погубило. Федя отбросил свою саблю, выхватил кинжал и набросился на него с бешенством. Они оба упали на землю. Борьба длилась несколько мгновений. Поляк выпустил Федю, застонал и опрокинулся навзничь, извиваясь всем телом и хватаясь за грудь, – кинжал попал ему почти прямо в сердце.
Федя поднялся, тяжело дыша, и нашел свою саблю. У него только на руке была небольшая царапина. Его платье было разорвано. Смоченные потом волнистые волосы прилипали к щекам.
– Теперь бежать к князю! Быть может, ему плохо! Что с ним? Что с Гальшкой? И как это он мог отойти от них, как мог допустить себя увлечься битвой?! Скорее, скорее – времени терять нечего…
И Федя бросился назад по тому направлению, откуда он бежал, как ему казалось. Одно его удивляло – тишина леса. Разгоряченный борьбою, он не заметил времени, не сообразил, как далеко преследовали его поляки. Он прислушался. Вон, кажется, какой-то шум – что-то похожее на ржание коней, на человеческий голос. Нужно бежать туда. А между тем такая густота леса! Нет, он здесь не был – ни одна былинка не примята. Трава почти в рост человеческий, какие-то невиданные им цветы и растения. Кусты переплетаются. Могучие древесные ветви низко, низко наклоняются и загораживают дорогу. Что-то зашипело под ногами, какое-то длинное, тонкое тело, быстро извиваясь, шмыгнуло в сторону. Нет, он решительно здесь не был, да тут и не проберешься – только время потеряешь.
Назад, назад, а там, верно, направо – вон, кажется, редеют деревья. Федя бросался из стороны в сторону. В иных местах он даже саблей обрубал ветки и таким образом расчищал себе дорогу. Но все усилия его били напрасны. Он попал в какую-то заколдованную чащу, из которой не было выхода. Прошло немало времени. В лесу стояла тишина. Юноша отчаянно боролся с обступавшими его врагами – деревьями и уже начинал чувствовать сильную усталость. Наконец, он вырвался на поляну. Перед ним лежало болото, скрывавшееся между деревьями и пересеченное песчаной полосою. Кажется, он видел это болото – оно должно быть очень близко от места битвы. Только странно, что ничего не слышно. Неужели уж все кончено? Кто победил? Спасен ли князь и Гальшка? А что, если они убиты, а что, если Зборовский отнял княгиню? При этой мысли отчаянье захватило душу Феди. Он пустился бежать по болоту, держась ближе к песчаной полосе, чтобы не так вязли ноги…
Вот как будто опять что-то слышно – да, это точно людской голос. Скорее!
Однако, как он устал! Он не может бежать скоро, он с трудом поднимает ноги… какая тяжесть в ногах, как трудно идти… Федя на мгновение остановился. Что это? Нога ушла в землю. Да, это топкое болото. Нужно идти по песку. Он своротил на песчаную полосу, ярко залитую светом солнца. Ноги все также вязнут, вязнут еще больше… Мелкий блестящий лесок посыпался в сапоги…
Федя вспомнил что-то ужасное и даже вскрикнул. Уж не наносный ли это песок, о котором он слыхал столько страшных рассказов. Под этим песком всегда бездонная топь и из нее нет никакого спасения.
Назад, в сторону, опять к болоту, к тем деревьям, откуда он вышел!
Он повернул, ступил шаг, нога ушла в песок по колено; в другую сторону – еще того хуже. Что теперь делать, где искать спасения? При каждом движении немая, беспощадная пучина все глубже и глубже всасывает свою жертву. А кругом тишина, только знойно светит солнце, только, едва шевеля вершинами, стоят вековые деревья, а на их ветках чирикают и заливаются птицы. Неужели смерть, неужели нет пощады?!
Холодный пот струился по лицу несчастного Феди. Черты его обезобразились ужасом. Он попробовал не шевелиться и потом медленно, медленно приподнял ногу. Может быть, тут, в этой вот стороне, не так вязко. Но нет, при первом движении ноги ушли глубже: холодная, влажная, отвратительная бездна тянула в себя с новой силой. Федя отчаянно зарыдал, ломая руки. Он стал громко молиться, впиваясь взором в голубое, глубокое небо; он звал Божью помощь, просил оттуда, с высоты, спасительной руки, которая бы вырвала его из бездны. Он просил чуда, и была минута, когда он верил жадно и отчаянно, что чудо это совершится. Он приметил в синеве маленькое, белое облачко. Ему казалось, что облачко сейчас станет спускаться, спускаться, что он за него ухватится и полетит выше и дальше от этого ужасного места. Но облачко расплылось, растаяло. Федя стал молиться еще громче, еще отчаяннее. Он собрал все силы, подпрыгнул и ушел в песок почти по пояс. Стон и проклятие вырвались из груди его. Он кричал, звал к себе на помощь, он сбросил все оружие, сбросил кафтан, чтобы легче было…
Песок делал свое дело медленно, но беспощадно.
Федя понял, со всем ужасом этого создания, что он обречен гибели, что никто уже не спасет его. О! зачем не убили его поляки, зачем, наконец, он сам отбросил от себя кинжал, вместо того, чтобы заколоться. Самая мучительная смерть, но смерть быстрая, представлялась ему теперь высочайшим блаженством. Что такое минута страданий перед той отвратительной смертью, которая его ожидала. Быть может, пройдут еще целые часы, прежде чем песок его окончательно задушит. Он будет стоять здесь, в этой холодной, густой могиле, будет стоять здоровый, сильный, зная, что никакая сила не спасет его.
На него стало находить оцепенение. Мысли одна за другой, сбиваясь и переплетаясь, роились в голове его. Он слышал, как колотилось его сердце, как кровь стучала в висках. Его горло пересохло от отчаянного крика и томившей его жажды. В глазах мутилось.
Вот мысли стали обрываться, наплывали грезы, проносились отрывки воспоминаний. Вспоминались Сорочи – красивое богатое поместье князя Сангушки, в котором Федя провел все свое детство. Он рано лишился родителей, принадлежавших к шляхетскому и далеко не бедному роду. Старый Сангушко был крестным отцом и опекуном Феди. Он взял его к себе в замок и обращался с ним, как с сыном. И Федя любил его, но больше всех на свете любил он молодого князя Дмитрия Андреевича. Это было какое-то обожание. Ему казалось, что в князе соединились все доблести человеческие. Подражать ему во всем, заслужить его внимание и ласку, было для Феди высочайшим счастьем.
Ему вспомнился один летний вечер прошлого года. Он вышел тогда погулять на берег озера. По гладкой поверхности воды тихо качалась лодка. Князь Дмитрий Андреевич сидел в ней, едва шевеля веслом, погруженный не то в задумчивость, не то в полудремоту. Федя издали глядел на него и думал: «вот он едет мимо меня и не обращает на меня никакого внимания. Он не знает, как я люблю его, да и любовь-то моя ему ни на что не пригодна. Ах, если б сделать что-нибудь такое, чтоб доказать ему эту любовь, чтобы понадобиться ему, спасти его от какой-нибудь опасности. Вот если б поднялась теперь буря – вон ведь какая туча с той стороны заходит – если б князь стал тонуть, я бросился бы в воду и спас бы его»… Так думал Федя, а лодка удалялась от берега. Тишина наступила полная – вода не шелохнется. Становилось душно. Вдруг пронесся ветер, туча, казавшаяся сначала только далекой, темной полоской, стала быстро расти и надвигаться. Не прошло и десяти минут, как сильный вихрь промчался по озеру. Федя в ужасе остановился, ему казалось, что он накликал эту бурю, и должен принять на себя все последствия.
Между тем, князь повернул лодку к берегу и греб изо всех сил. Волны заходили, озеро покрылось пеной. Легкую лодку подбрасывало, как щепку. Вот она уже довольно близко, но ее постоянно относит в сторону, очевидно, князь не может справиться… Федя сбросил кафтан и кинулся в воду. Немалого труда ему стоило бороться с волнами: буря разыгрывалась с каждой минутой. Он смотрел все вперед, на лодку. Она взлетела кверху, потом нырнула, почти стоймя, в воду, сильная волна плеснула, и лодка в одно мгновение опрокинулась. С минуту ничего не было видно – князь не показывался. Потом оказалось, что его ударило в голову краем лодки и ошеломило. Федя был отличный пловец, он напряг все усилия и был возле лодки. Между тем, князь очнулся от удара и, захлебнувшийся, едва сохранявший сознание, показался на поверхности. Федя схватил его и поплыл к берегу…
С тех пор самая тесная дружба завязалась между ним и князем – они стали неразлучны. Даже образ Гальшки, овладевший юношей, не мог изменить его чувства к Дмитрию Андреевичу. В последнее время Федя только тогда и был несколько спокоен, когда мог оказать им какую-нибудь серьезную услугу. И вот теперь – где они, и что с ними? Не удалось даже умереть за них честной смертью храброго воина, а приходится медленно задыхаться здесь, в этом ужасном болоте. И никто даже не передаст им его последнее прощальное слово…
А что там внизу, под ногами? Бедный Федя весь задрожал от ужаса и отвращения… Песок, какая-то полувода, дальше липкая, черная грязь, жидкая и зловонная, – и конца ей нет, и уходит она в самую середину земли… О! какой ужас!..
Снова отчаянный, пронзительный вопль огласил пустынное болото. Федя опять стал биться в песке, ломать руки, кричать и звать на помощь. Он пробовал ложиться, садиться, скакать и выпрямляться – ничто не помогало: песок беззвучно, неопределимо тянул его в бездну… Вот неподалеку, у крайних деревьев показалось несколько всадников. В сердце Феди проснулась надежда. Он закричал изо всех сил и замахал им руками. Они услышали его, они придут к нему на помощь… Они остановились, оглядываются во все стороны.
– Я здесь, здесь, в наносном песке, я гибну, он мне подходит уже под плечи. Спасите, спасите, Христа ради, спасите, добрые люди, не дайте мне погибнуть, сжальтесь надо мною! – кричал Федя.
Всадники его увидели. Они что-то говорят, очевидно, совещаются. Один из них поехал в его сторону. Но конь стал вязнуть… Всадник взял направо, взял налево – везде топко! Он махнул рукой и вернулся назад.
Федя замер от ужаса. Потом горькие, отчаянные слезы полились из глаз его. Он рыдал как безумный, он кричал диким, хриплым голосом.
– О, Боже, Боже! Неужели в вас нет и капли жалости! Неужели вы так и оставите меня околевать как собаку? Братцы, голубчики, родные мои! Помогите, наломайте хоть веток да свяжите их покрепче. Не близко подъезжайте, а только бросьте мне конец этих веток… я ухвачусь за него, авось меня можно будет вытащить…
Но всадники уже не слышали. Они решили, что спасать его, значит, самим погибнуть, и быстро уезжали от страшного, тяжелого зрелища.
Федя задыхался. Он рвал на себе волосы, царапал себе лицо, кричал и визжал в исступлении.
Песок был уже близко. Вот он щекочет ему шею. Несчастный отгребает его руками, корчится, силится прыгнуть. Ноги и все тело поледенели. Как будто гири привешены к ногам, как будто чьи-то тяжелые, холодные руки тянут их вниз…
А солнце все светит, птицы поют, наступает тихий, душистый вечер. Так хорошо, так чудно хорошо там, среди этих деревьев, на сочной траве, где пестреют цветы, где жужжат пчелы… Так чудно хорошо на свете, так сладка жизнь со всеми своими радостями, со всем своим горем. Феде безумно, отчаянно захотелось жизни – хоть день один, хоть час один… Только бы еще пожить, еще посмотреть на солнце…
Песок уже у рта, несчастный запрокинул голову… лицо посинело, глаза, широко открытые, выражают безумство и ужас. Он ревет, как зверь, он в кровь искусал себе губы и руки… Песок посыпался в рот и задушил крик. Вот и глаза исчезли. Виден только лоб… волосы стоят дыбом. Еще две, три минуты – и ничего не видно. Из глади песка вырвалась рука с искривленными пальцами, но и она бессильно исчезла…
Все тихо… только птицы-рыболовки с жалобным писком кружатся над страшной могилой.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ
I
В конце шестидесятых годов XVI столетия столица Литвы, Вильна, была одним из знаменитейших городов в Европе. Ее население превышало двести тысяч. Кроме того, сюда стекались люди со всех краев Литовского великого княжества.
Расположенный в красивой местности, широко раскинувшийся город представлял самую оживленную и пеструю картину. Роскошные замки вельмож, дома богатой шляхты и горожан просвечивали сквозь листву садов, освежавших городской воздух. По праздничным дням разноплеменное население стекалось в многочисленные церкви, соборы, костелы, кирки, мечети и синагоги. Богатые рынки кипели движением и торговлей.
Хорошо и мирно жилось в Вильне – как будто какая-то благодетельная рука удалила отсюда все смуты и страсти, все религиозные волнения и вражду, бушевавшие в то время во всех центрах Европы. Пришелец с запада, навидавшийся всяких ужасов, поражался неожиданной картиной: русские, поляки, литвины, греки, армяне, татары, евреи и немцы, представители самых различных вероисповеданий, не питали друг к другу никакой вражды: не ссорились, жили дружно и спокойно предавались своим занятиям. Всех соединяла самая широкая веротерпимость. Город процветал и богател с каждым годом. Мирные жители ниоткуда не ждали себе напасти. Только однажды, именно осенью 1569 года, они были встревожены слухом о том, что в город должны въехать отцы-иезуиты, о которых составилось в народе самое ужасное представление. Этот слух не замедлил подтвердиться. Действительно, эпископ виленский, Валериан Проташкевич-Сушковский, просил прислать ему надежных помощников в деле распространения и утверждения шатающегося католицизма. Иезуиты, уже давно наметившие Вильну, поспешили откликнуться на этот зов. Пять избранных отцов известили епископа о своем приезде. Проташкевич, видя народное настроение, побоялся допустить их въезд открыто, и они пробрались в город тайно, в темный ненастный осенний вечер, в епископской карете, посланной к ним навстречу с надежным конвоем.
Жители Вильны только через несколько дней узнали о пребывании в их городе новых гостей и пришли в крайнее смущение – нельзя же было силою, без всяких достаточных улик, выгнать их из епископского замка, где они поселились на первое время. Положено было тщательно следить за ними и при первом же незаконном их действии настоятельно требовать их удаления. Но иезуиты отлично понимали свое положение. Они почти никогда не показывались на улицах, а если выходили, то поражали своим необычайным смирением и скромностью.
Вильна снова успокоилась и перестала обращать на них внимание. Черт оказался не так страшен, как его малюют…
Тогда по одиночке, так же тихо и незаметно, стали являться новые отцы с удивительными комплиментами епископу, с хитро подготовленными, красноречивыми фразами, от которых Проташкевич проливал слезы умиления. Скоро для отцов-иезуитов был приготовлен заранее купленный епископом дом напротив его собственного замка. Дом был большой и вполне удобный для устройства в нем коллегиума. Тут же, через улицу, находилось два других прекрасных дома с обширными плацами. И эти дома купил для иезуитов растроганный епископ. Здесь должна была произойти в скором времени закладка иезуитского костела. На содержание отцов Проташкевич обязался ежегодно выдавать 2 000 коп литовских грошей и обеспечил эту сумму одним из своих имений. На устройство школы он подарил несколько деревень, так что сразу можно было содержать сорок воспитанников. Кроме того, для ловли рыбы в постное время все тот же благодетельный епископ пожертвовал иезуитам большое и прекрасное озеро Рыконты.
Скоро и многие частные лица последовали примеру Проташкевича, и месяца через четыре у первых виленских иезуитов оказались богатейшие имения с весьма внушительною цифрою доходов.
Отцы не дремали – они сразу выказали удивительную, всестороннюю деятельность. Для управления коллегиумом приехал Станислав Варшевицкий, человек замечательный по уму, энергии и учености. Еще недавно Варшевицкий был посланником Сигизмунда-Августа в Турции, потом, в должности королевского секретаря, он пользовался при дворе огромным влиянием и был любимцем сестры короля, Анны Ягеллонки, будущей жены Стефана Батория. Но он не удовольствовался своим блестящим положением, он жаждал другой деятельности. Три года тому назад он отказался от всех своих должностей и званий, явился в Рим и поступил в иезуиты. Здесь его оценили, и генерал ордена, помимо всех долгосрочных испытаний, сразу сделал его профессором. Варшевицкий начертал превосходный план для виленского коллегиума и быстро принялся приводить его в исполнение.
Меньше чем в год коллегиум был готов, и происходило его торжественное открытие. Знаменитый иезуит Магиус, провинциал австрийских и польских иезуитов, приехал благословить начинавшееся дело. В день открытия епископ Проташкевич был встречен отцами торжественною речью. Роскошная обстановка, смирение и ученость наставников поразили не только епископа, но и весь капитул, духовенство и многочисленных приглашенных. Все видели в этом открывающемся коллегиуме восходящую звезду литовского просвещения, некоторые из присутствовавших тут же решились отдать своих сыновей иезуитам. Провозглашенный ректором коллегиума Варшевицкий был именно таким наставником, о котором только и могло мечтать чадолюбивое литовское шляхетство.
Между тем остальные отцы-иезуиты делали все, чтобы заслужить любовь обитателей Вильны. В это время над городом разразилось страшное бедствие. Неурожай и голод последнего года породили моровую язву (чуму – Д.Т.). Народ в огромном количестве погибал от ужасной болезни. В городе царило всеобщее уныние и паника. Кто мог – бежал, запирая свой дом и покидая почти все имущество. Скоро уехал епископ с капитулом, за ним потянулось и остальное духовенство. Дошло до того, что некому было совершать богослужения, отпевать и хоронить мертвых. Одни только иезуиты были все налицо. Они ходили по улицам с крестом, евангелием и Святыми Дарами, входили в дома, лечили и утешали больных, помогали бедным, исповедывали и приобщали, некоторые из них погибли от заразы во время исполнения священных обязанностей у одра умиравших. Такие поступки, такое удивительное самоотвержение не могли не подействовать на народ. Его подозрительность и ненависть, покуда ни на чем не основанные, исчезли и уступили место полному уважению. Немало православных людей, получивших от них денежную помощь и духовное утешение, спасшись от моровой язвы, перешли в католицизм и сделались их ревностными учениками. Только немногие продолжали относиться к ним с недоверием.
Когда ужасное бедствие и народная паника миновали, когда город снова зажил своей здоровой и деятельной жизнью, иезуиты очутились совершенно в новом положении. Они уже не скрывались, не избегали народа; они мало-помалу начинали явно проповедывать на площадях, устраивали торжественные процессии, поражавшие и увлекавшие воображение. Иезуитские средства для достижения своих целей прежде всего были: школа, исповедь, проповедь, обрядность и приобретение денег и имений. Из этих средств обрядность приносила им великую пользу. Никогда еще виленские жители не видали такого блестящего богослужения, как в иезуитском костеле. Роскошное убранство храма, драгоценные ризы и утварь, чудные иконы, выписанные из Италии, торжественная музыка, благоухание фимиама, поразительная, вдохновенная речь проповедника – все это доводило присутствовавших до самозабвения и религиозного восторга.
В первое время действия иезуитов, главным образом, были направлены против реформатов. Для успешнейшего достижения цели отцы вздумали даже давать нечто вроде представлений, собиравших толпу праздного люда…
Перед нами один из населеннейших кварталов Вильны. Весь рынок запружен всевозможными сельскими продуктами, привезенными из ближних деревень. Солидные литвины, закусывая свои длинные усы, медленно прохаживаются по рядам и прицениваются к предметам, необходимым для домашнего обихода. Женщины льнуть под навесы, где черномазые греки и армяне разложили свои пестрые товары и различные сласти. Юркие, быстроглазые евреи с длинными пейсами и в ермолках шныряют между народом, треща на своем жаргоне, прищелкивая и похлопывая себя по полам длинных, засаленных кафтанов. Они носятся с какою-то дрянью, которую в конце концов им все же удается продать за возмутительно высокую цену. Несчастный покупщик, оглушенный градом уверений, россказней и отчаянных клятв с биением себя в грудь и подниманием глаз к небу, только тогда приходит в себя, когда негодная вещь уже у него в руках и за нее заплачены бешеные деньги. Он понять не может, где был его разум, где были глаза, когда он покупал эту дрянь и платил за нее такую цену. Но дело уже сделано – еврей позвякивает полученными деньгами и теперь его можно исколотить, оплевать, вырвать все его пейсы и бороду, но денег он уже не вернет ни за что в мире.
В крайнем случае он возьмет их в рот, он готов проглотить их с явной опасностью для своей жизни; он клянется Богом и всеми своими чадами и домочадцами, призывает на себя самые невероятные и неслыханные бедствия в доказательство того, что проданная вещь – перл создания и что он продал ее себе в убыток. Легкомысленному покупщику остается только плюнуть и крепкою бранью отвести себе душу…
Вот приезжие немцы собрались в небольшую кучку. На них широкополые шляпы с перьями, кургузые темные куртки, перехваченные толстым кожаным ремнем, в который зашита казна и из-за которого выглядывает оружие. На ногах крепкие башмаки и длинные чулки в обтяжку. Они лопочут между собою на непонятном для толпы диалекте. Они посматривают кругом себя с видом превосходства и даже презрения; но обращаясь к кому-нибудь, выказывают большую любезность. Несмотря на то, что Вильно прекрасный, живописный город, с большими зданиями новейшей европейской постройки и богатыми церквами, им кажется, что они находятся в совершенно дикой стране, среди дикого люда, едва отличающегося от животных. Но этот люд богат и сговорчив, радушен и хлебосолен, в городе много всякого дела, всякой выгодной работы – и немцы решаются жертвовать собой и наживать деньги. Они хвастаются друг перед другом своими родными городами и блестящим положением, которое там занимали. И в то же время мысли их невольно возвращаются к покинутым на родине семействам, к черной нужде и обидам, от которых они бежали в далекие литовские земли…
Жар безоблачного полдня спал. Длиннее становятся тени от навесов. Оживленнее идет торговля, больше и больше разного люда прибывает на рынок. При входе на площадь в прохладной тени каменной церковной паперти появляется фигура кальвинского сеньора. Этот сеньор как две капли воды похож на иезуитского патера, который прошлое воскресенье говорил проповедь в костеле и отчаянно нападал на учение Кальвина. Теперь же у него все ухватки, все манеры сурового кальвиниста. К нему навстречу сквозь самую густоту толпы пробирается другой иезуит, направо и налево объявляя, что он идет к церкви, чтоб завести спор с кальвинским сеньором и оспорить все его доводы, разъяснить чистоту веры.
Народ, жадный до всяких сцен и бурных прений, отрывается от своих делишек и следует за иезуитом.
Отцы подходят друг к другу и важно раскланиваются.
Разноплеменная толпа, перешептываясь, обступает их со всех сторон и приготовляется слушать.
Иезуиты, отличные лингвисты, уже хорошо познакомились с литовским языком и начинают свой спор на общепонятном наречии. Они относятся друг к другу с видом глубочайшего уважения.
Говорить начинает иезуит непереодетый. Он униженно кланяется мнимому кальвинисту и спрашивает вкрадчивым голосом:
– Пресветлый учитель новейшего богословия! Верите ли вы в предания церкви и св. отцов?
– Веруем, – отвечает сеньор. – А вы, отче, скажите мне где Христос?
– Христос везде, – звучным голосом провозглашает иезуит, набожно крестясь и поднимая взоры к небу. – Везде Христос – и на небе, и на земле, и в алтаре, по Его же слову «сие есть тело Мое».
Кальвинист приводит тексты из св. Писания. Но в устах иезуита на один текст противника появляется пять, шесть текстов, целая фаланга красноречивейших фраз, образов, сравнений, произносимых одушевленным, вдохновенным голосом, с блеском глаз и театральными, эффектными движениями.
С каждою минутою усиливается внимание слушателей. Католики не могут воздержаться от громких возгласов одобрения.
Кальвинисты окружают сеньора и жадно прислушиваются к словам его.
Прение продолжается. Отец-иезуит то как будто начинает уступать противнику, сдается на некоторые его доводы, то вдруг ловко нападет на него и одним словом разбивает его красноречиво запутанное положение. Вот мало-помалу кальвинист как будто утомляется и затихает. Он возражает вяло, заикается, смущается. Он волнуется, и всем очевидно, что он начинает себя чувствовать побежденным. Иезуит уже громко, торжественно нападает и громит его самым неопровержимым образом. Сеньор окончательно не в силах защищаться – он должен молчаливо признавать справедливость доказательств патера, ошибки своего учения и торжество истины в лице католицизма…
В толпе поднимается волнение. В нескольких шагах от патера и сеньора католик горожанин с торжествующей миной наступает на своего соседа кальвиниста. Тот весь побагровел и сверкает глазами. Они силятся перекричать друг друга. Еще минута – и завязывается кулачная потасовка.
– Нет, так нельзя! – с сердцем говорит толстый шляхтич кальвинист, подходя к переодетому сеньором иезуиту. – Спорить так спорить. Этак всякий тебя побьет словами, отче, коли ты сам поддаешься нарочно. Не о том совсем говоришь, о чем нужно, да и слова-то твои словно у неразумной бабы. Этак нельзя, говорю, – этак только срамота на нас и на веру нашу!
– Чего кипятишься, старина! – останавливает расходившегося шляхтича молодой его единоверец. – Это не в церкви, не всерьез… люди так себе, толкуют забавы ради, а ты сейчас в обиду! Отчего же и поспорить отцам – тоже ведь не зазорный спор какой, а все от божественного… Умную речь умно и послушать…
Толстый шляхтич отходит, увлекаемый товарищами, но продолжает ворчать и даже ругаться.
Некоторые от души смеются, глядя на смущенную фигуру и ужимки побежденного сеньора.
Он уже окончательно разбит по всем пунктам и только руками отмахивается от потока красноречия, извергаемого противником.
Толстый шляхтич не в силах больше вытерпеть. Он снова подвигается к спорящим и вдруг бросается с кулаками на сеньора.
Перепуганный сеньор пятится и старается оттолкнуть наступающего шляхтича.
Но тот уже вошел в азарт и себя не помнит. Он замахивается кулаком, и звучная затрещина оглашает воздух.
– Ратуйте! ратуйте! – кричит сеньор. Собравшиеся ребятишки, на радостях подняв целое облако пыли, начинают орать и визжать невыносимо.
Несколько человек схватывают шляхтича за руки, но у него оказываются защитники. Начинается возня и драка. Раздается несколько крупных ругательств, обращенных против иезуитов. Отцы, воспользовавшись суматохой, благоразумно скрываются за церковной оградой.
Долго еще волнуется толпа и не хочет расходиться. Одни смеются, другие наступают друг на друга.
И снова ожесточенная драка, подбитые скулы, изорванное платье,
И нет уже прежней тишины и спокойствия, нет прежней веротерпимости, которою так отличалась и славилась Вильна. Бывало, и еще так недавно, всяк знал свое дело и дружески сводился с соседом. Никто не спрашивал друг друга о вере, никто не спорил и не злобствовал. Всяк шел в свою церковь, молился своему Богу, как понимал Его, но в то же время с уважением, без насмешки, относился к чужой церкви. Правда, под влиянием Радзивиллов и их клевретов совершалось немало переходов из православия и католичества в протестантство; но все это делалось тихо, это было дело совести обращаемых и не возбуждало против них всеобщей ненависти.
Недаром, видно, боялся народ иезуитов, предчувствовал недоброе при их появлении. Пришли эти смиренные служители церкви, солдаты Иисусова, воинства, стали действовать не страхом и трепетом, а добротою, кротостью, наукою и милосердием. Стали для досуга народного, ради умственной пользы устраивать зрелища, примерные споры, а зло ядовитое так сразу и брызнуло во все стороны из всего их добра лицемерного.
Не смущались отцы-иезуиты, что толпа иногда смеялась над ними и даже их била. Они продолжали свои уличные драматические представления и неустанно делали свое дело. Что ж такое, что иные бранились и дрались – зато немало разного люда вслушивалось в их прения и делалось верными сынами католицизма, удобным орудием в руках их благоразумных. Не по дням, а по часам прибывало новообращенной паствы. Заводились широкие сношения, учреждалась деятельная, тайная иезуитская полиция. Таинственной, несокрушимой сетью опутывался человек, поддавшийся иезуитам. Для него уже не было возврата… Время от времени в Вильне стали ходить слухи о пропадавших людях. В водах Вилии находили обезображенных утопленников, сохранивших все следы страшной пытки.
В одном месте между иезуитским костелом, быстро разраставшимся в большой монастырь, и речным берегом по ночам слышались как будто глухие, подземные стоны… Но ни одной явной улики не было против отцов. Народное мнение успокоилось на том, что, мол, мало ли о чем сдуру брешут люди.








