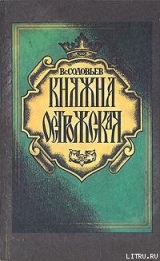
Текст книги "Княжна Острожская"
Автор книги: Всеволод Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 15 страниц)
III
Холодная, снежная зима стояла над Вильной. Морозная бурая мгла глядела в высокие окна палат княгини Беаты Острожской. По временам доносился откуда-то слабый благовест, далекие отзвуки затихавшего городского шума.
Гальшка сидела одна в своей комнате. Она закрыла тяжелую книгу, которую читала, пока не смерклось, и теперь в долгих, медленно наползавших сумерках отдавалась своей грусти. Она мысленно упрекала себя за то, что вчера в коллегиуме не сумела совладать со своим ужасом… Как бы горько ей ни было, люди не должны знать об этом. Она твердо решилась отныне все хоронить в себе и казаться спокойной при посторонних. Но чего стоит это притворство, эта необходимость, на которой так настаивает княгиня, выходить к приезжающим гостям, говорить с ними, быть любезной. Все люди казались Гальшке такими скучными, такими ненужными. Но скучнее и ненужнее всех были для нее некоторые знатные вельможи, очевидно, искавшие ее благосклонности, желавшие на ней жениться.
Выйти замуж!.. Не только теперь, но когда-либо, за кого бы то ни было – эта мысль представлялась Гальшке самой невероятной бессмыслицей. Она не могла смотреть на брак иначе, как на союз по сердцу, а ее сердце было уже раз навсегда и беззаветно отдано ее князю. Князя погубили, погубили из-за нее, самым страшным, несправедливым образом. И с тех пор ее сердце разбито, и никогда оно не забудет свою потерю, потому что больше этой потери ничего быть не может. А между тем мать все чаще и чаще заговаривает с ней о замужестве. Еще счастье, что все наезжающие в Вильну женихи кажутся ей недостойными Гальшки. Она говорит, что княжна Острожская, обладающая необыкновенной красотой и огромным богатством, должна сделать самую блестящую партию. Она не хочет и знать, что вот уже больше года, как нет никакой княжны Острожской, а есть только безутешная вдова убитого князя Сангушко.
Но главное, чего требует Беата от будущего мужа Гальшки, – это его принадлежности к римско-католической религии. Она ни за что не выдаст дочери ни за православного, ни за лютеранина, ни за кальвиниста.
И все знают решение княгини, да никому не мешает бывать у них в доме, преследовать Гальшку любезностями, мучить ее влюбленными взглядами, прозрачными намеками. Больше всех ее мучают и преследуют два старых, неизменных ухаживателя – князь Слуцкий и граф Гурко. Вот уже год, как от них нет проходу. У Слуцкого огромное богатство и родство с домом Острожских; но он православный. У Гурки связи в Кракове, блестящее положение, но он лютеранин.
Князь Олелькович-Слуцкий добрый, простой и недалекий малый. Гальшка, пожалуй бы, ничего против него не имела, если бы он являлся в дом как родственник. Но он ухаживает, он, очевидно, страстно влюблен, он всякую речь оканчивает вздохом – и Гальшке тошно с ним, невыносимо его слушать. Гурко еще того хуже – что-то фальшивое, что-то злое в нем видно и вдобавок он еще ко всем ее ревнует, будто не видит, что может ревновать только к тяжкому ее горю… А что же впереди? Впереди Краков, двор, опять женихи, шум, невыносимая жизнь, в которой видят такое блаженство все люди. Попадется человек, который покажется подходящим княгине Беате, – и выдадут Гальшку замуж, выдадут насильно, в силу того, что они называют своим правом…
Страшные, черные мысли! И эти мысли стучались долго, долго в голову Гальшки. Эти мысли, с каждым днем все более страшные и томительные, сделали, наконец, свое дело. Гальшка стала доходить до состояния полной апатии, полного безучастия к внешней судьбе своей. Она отказывалась от борьбы, для которой не была создана. Она знала только одно – что никому и ни за что в мире не отдаст своей веры, своего православия и своей горькой, священной памяти о погибшем муже. А затем пусть делают с ней, что хотят, пусть распоряжаются ею. Она даже и на замужество стала смотреть иначе – и в этом заключалась последняя степень ее отчаяния, ее безнадежности. Она думала: ну что ж – если мать непременно хочет по своему распорядиться ею, пусть приходит этот жених, кто бы он ни был, и чем он хуже, тем даже лучше. Она скажет ему, что он берет не ее, не ее сердце, которое безучастно к жизни и радости, которое давно умерло и никогда не воскреснет – он возьмет только бедное, больное тело. И если он будет таким зверем, если мать будет настаивать, прикажет ей венчаться – что ж! она и замуж выйдет… Разве не все равно, Боже! разве не все равно – лишь бы жизнь кончилась скорее…
И она была одна, одна, и некому было ей открыть свою душу, не с кем было поплакать. Все же ей было девятнадцать лет и хоть бессознательно, а искало участия ее сердце. Из всех окружающих только одна Зося к ней ласкалась, выражала свою преданность.
Но Зося какая-то странная девушка – сегодня одна, а завтра совсем другая. То утешает, успокаивает, совсем, кажется, понимает ее, то вдруг начинает давать такие советы, что не лучше отца Антонио.
Зосю, действительно, разобрать было трудно. Сам проницательный иезуит ошибся в ней и последствия были для него горьки. Панна Зося чувствовала себя очень несчастной. Мучительный бес поселился в ней и не давал ей покою. Этот бес – была ее страсть к отцу Антонио. Где бы она ни находилась, что бы она ни делала – прекрасный монах был в ее мыслях и сердце. Не было такой затруднительной задачи, такого даже преступления, на которое бы она не пошла, закрыв глаза, по одному его требованию. Но ее чувство было далеко не бескорыстно – ей нужна была награда, ей нужна была любовь монаха, его ласка. И она решилась, во что бы то ни стало, этого добиться. Оставаясь с ним наедине, приходя к нему исповедоваться во всех грехах своих, она пускала в ход все уловки кокетства.
Но Антонио был закован в броню неуязвимую – нося в душе своей чудный образ Гальшки, весь ушедший в свои мысли, поглощенный своими целями, он не был уже в состоянии отзываться на другие чувства. Хорошенькая Зося, несмотря на все свое кокетство, на всю страсть, только надоедала ему. Она рассчитала очень дурно – ей следовало бы носить маску величайшей неприступности, чистоты и святости. Тогда она, быть может, обратила бы на себя внимание Антонио, расшевелила бы застывшую кровь его. Только то, что представляло ему решительное, могучее сопротивление, чего постигать нужно было с тысячами преград, трудной и запутанной борьбою, – только то и было достойно его внимания. Он давно уж убежал от легких побед, и игра в любовь надоела ему даже прежде, чем он надел платье иезуита.
Но Зося была ему полезна и нужна – все считали ее любимой наперсницей Гальшки. Он выпытывал от нее на исповеди все, что Гальшка ей поверяла. Таким образом он узнал и о доставленном Зосей письме князя Константина. Это обстоятельство указало ему на необходимость несколько измениться в отношении к Зосе. Молодая девушка могла быть очень полезной, но могла принести и большой вред, причинить много затруднений. Следовало забрать ее в руки совершенно, следовало отнять или купить у нее ее привязанность к Гальшке…
И вот отец Антонио начал ласковее глядеть на духовную дочь свою. Выслушивая ее исповедь и благословляя ее, он как будто забывал свою руку на горящей голове ее. Иногда в его глазах она замечала нежность. Обмануть Зосю было нетрудно. Она была вполне уверена, что ее красота и кокетство подействовали, наконец, на сурового монаха. Она не только забыла Гальшку и ее интересы – она забыла весь мир при этом сознании. Немало писем, переданных ей тайно посланными от князя Константина, перешли к Антонио. Кончилось тем, что месяца через три, не получая никакой вести от Гальшки, Острожский понял, что Зося его обманула и прекратил с ней всякие сношения. Между тем Зося все больше и больше сближалась с Гальшкой, уверяла ее в любви своей и испытывала ее мысли. Скоро она стала внушать ей то же, что и отец Антонио. Она красноречиво описывала ей прелести жизни в католических монастырях, уверяла, что скоро сама пойдет в монастырь, что решила это неизменно…
– Уйдем вместе в монастырь, коханая моя княгиня, – сладко говорила Зося, засматривая в глаза Гальшки. – Ведь в русские, православные, тебя все равно не пустят, да у нас и не в пример лучше – а Бог один, и молимся мы ему одинаково… Ну что тебе стоит, золото ты мое ненаглядное, хоть для виду одного перейти в католичество – и матушку свою успокоишь, и желанию твоему найдешь исполнение… Не упрямься, голубка моя, не мучь себя понапрасну…
Гальшка строго приказывала ей замолчать и не заводить подобные речи.
Зося замолкала, но только до первого удобного случая.
Вдруг с ней произошла перемена. Она стала говорить совсем другим тоном. Причина такой перемены заключалась в том, что Зося, наконец, убедилась в холодности к ней Антонио. Он не только не сказал, что любит ее, но даже упорно избегал всякого решительного объяснения. Удивительно скучна и несносна казалась ему эта ластившаяся, нескромная Зося. Он еще не предвидел от нее настолько важной услуги, чтобы решиться на нежные отношения с нею…
Но он жестоко ошибался, несмотря на всю свою хитрость и мудрость. Если б он мог предвидеть то, что скоро приготовит ему Зося, он забыл бы всю свою к ней антипатию, забыл бы свое положение, свои обеты, и был бы у ног ее, и целовал бы ее руки, и клялся бы ей в вечной любви и верности…
Мучительная страсть Зоси, разжигаемая сопротивлением Антонио, достигла своего высшего предела. Если б Антонио полюбил ее, она сделалась бы его рабою, умерла бы по первому его знаку. Но он ее не любит, он ее обманывает, смеется над нею – и в кипевшую страсть стала вливаться дикая ненависть. И Зося под конец сам не знала – обожает ли она или ненавидит Антонио. Когда она замечала его ласковый взгляд, она замирала от блаженства, она рвалась к нему всем существом своим. Но вот светлый луч исчезал с его бледного, таинственного лица: он, может быть, сам того не замечая и не желая, делался рассеян, уходил в свои мысли. От него так и веяло ледяным холодом на трепещущую в волнении Зосю… И отчаянная тоска схватывала ее сердце, порыв ожесточенной ненависти потрясал ее, душила глухая злоба. И вот Зося начинала… начинала понимать, что все это неспроста… Не рассудок, не наблюдения, а инстинкт уязвленного сердца выдал ей тайну отца Антонио. «Он любит Гальшку!» – вдруг открыла Зося и удивилась этому открытию, и все же не задумывалась, сразу в него уверовала…
«Да, иначе и быть не может! А если так, если так – что же делать ей?!» Сотни планов мщения, один другого нелепее и неожиданнее, роились в голове ее. Когда она пришла в себя, то стала видеть яснее. Она без затруднения поняла все, что таил в своих мыслях Антонио. Она поняла, что замужество Гальшки будет для него жесточайшим ударом. Она готова была теперь хоть ценою собственной жизни воскресить Сангушку. Но он умер – и Гальшка должна выйти замуж за кого бы то ни было.
Зося стала пристальнее вглядываться в постоянных посетителей и наметила Гурку. Он, с своей стороны, тоже обратил внимание на молодую девушку.
Решение во что бы то ни стало жениться на Гальшке было принято им неизменно. Ему нужна была очень богатая невеста. До ее любви, равнодушия или даже ненависти к нему, ему не было никакого дела. Но, разумеется, следовало постараться расположить в свою пользу кого-нибудь, кто бы имел влияние на Гальшку. Панна Зося, хитрая, ловкая, сговорчивая и, очевидно, более остальных близкая к неутешной красавице, была совершенно по мыслям Гурки. Он переговорил с нею наедине и сразу убедился в ее согласии действовать в его пользу. Он обещал ей в случае удачи свою неизменную благодарность, роскошную и веселую жизнь в его замке. Но ей вовсе и не нужны были его обещания. Она бы и говорить с ним не стала, если бы не заметила, по многим признакам, его непоколебимую настойчивость завладеть рукой Гальшки. Она думала только о том, как бы отплатить хорошенько иезуиту, насладиться его неудачей, его отчаянием. И вот Зося повела новые разговоры с Гальшкой. Она перестала намекать на монастырь и переход в католичество. Она теперь толковала о том, что самое лютое горе проходит с годами, что в девятнадцать лет нельзя отказываться от жизни, что вся жизнь еще впереди и самое лучшее для «ее золотой княгини» уйти от домашних сцен и утеснений, найти себе доброго, хорошего мужа…
– Мне? Замуж? – воскликнула Гальшка. – Ты не знаешь, что говоришь, Зося!.. Мне идти замуж, когда я без тоски и тошноты не могу смотреть на всех этих женихов постылых?!
– Эх, княгиня моя, княгиня, – ластилась Зося. – Да ведь все равно найдут тебе жениха и не спросят тебя, а силой выдадут. Так уж лучше сама выбери…
Бедная Гальшка плечами только пожимала, удивляясь на Зосю.
А та не унималась.
– Ну, вот, возьмем для примера хоть графа Гурку…
– Гурку?! Да он самый ужасный, самый противный изо всех этих мучителей…
– Не знаю, княгиня, почему он тебе противен, а замечаю одно, что он больше всех тебя любит…
– Оставь это, оставь, Зося… И так – тоска, а ты про графа Гурку…
Так постоянно кончались их разговоры. Зося ничего утешительного не могла передать Гурке. Одно только она видела – это, что на Гальшку все больше и больше находит равнодушие. Она хорошо запомнила, как та один раз безнадежно сказала ей: «Ах, да мне, право, все равно, – пусть делают со мною, что хотят. Ни хуже, ни лучше не будет». Зося советовала Гурке действовать решительно и просить согласия княгини Беаты – если мать прикажет, Гальшка не станет перечить.
Гурко так и сделал.
Зимние сумерки совсем сгустились, когда в комнату Гальшки вошла Зося и объявила, что княгиня поскорей зовет ее к себе, в приемные покои.
– Опять гости, кто такие? – устало спросила Гальшка.
– Только граф Гурко да князь Слуцкий.
Зося была в большом смущении. По раздражительному тону княгини Беаты, которым та ее кликнула и приказала позвать Гальшку, она поняла, что происходит что-нибудь особенное. А она, как нарочно, только что вернулась домой из гостей и даже не успела узнать, кто первый приехал – Гурко или Слуцкий. Не зная обстоятельств, она решилась лучше промолчать теперь, чтоб как-нибудь не испортить дела.
Она только последовала за Гальшкой и остановилась, притаив дыхание, в темном углу соседней комнаты, чтобы все видеть и слышать.
Когда Гальшка вошла к матери, та порывисто ходила по комнате, как она всегда это делала в неприятные минуты. Гурко и Слуцкий сидели тут же. Гурко казался спокойным, он только побледнел немного, и на лице у него была какая-то неприятная, злая мина.
Толстяк Слуцкий не скрывал своего волнения. Он тяжело дышал и свирепо глядел на Гурку.
– Я позвала тебя, – сказала Беата, увидя дочь, – для того, чтобы ты сама решила дело, которое до тебя касается. Эти паны просят у меня твою руку… что ты им ответишь на это?
Княгиня злорадно взглянула на женихов. Она была уверена в ответе дочери. Она знала, что Гальшка станет говорить о том, что вовсе не хочет идти замуж.
Гальшка молчала, едва держась на ногах. Ее сердце ныло. Тоска и скука давили ее. И вдруг она почувствовала, совершенно ясно и решительно, что ей все равно, что бы ни случилось с нею…
– Что же ты ничего не говоришь, Гальшка? – повторила Беата. – Скажи им сама, а то ведь меня считают какой-то тигрицей… Не хочу я, чтоб думали, что я тебя принуждаю или отказываю женихам, которые тебе любы…
Гальшка взглянула своим равнодушным взором на Слуцкого и Гурку и слабо улыбнулась совсем растерянной, полупомешанной улыбкой.
– Мне все равно, – тихо сказала она, – я выйду за того, за кого прикажет матушка.
Беата быстро обернулась.
– А! За кого прикажу! Ну, так я тебе ничего не приказываю… А вас, мои дорогие гости, я не хочу обидеть, – оба вы обладаете такими достоинствами, что мне нельзя выбирать между вами. Ищите же себе других невест – мало ли их здесь, и в Кракове… а я… я всегда рада вас видеть в моем доме.
– Княгиня, это решительное слово? – шипящим голосом спросил Гурко.
– Решительное. Извините меня, паны, мне нездоровится, и я должна вас оставить.
И княгиня, взяв Гальшку за руку, вышла из комнаты.
Женихи поневоле должны были последовать ее примеру. Они и не взглянули друг на друга, только Гурко пропустил вперед пыхтевшего, смущенного Слуцкого, а сам замешкался в комнате. Он поджидал, не пробежит ли Зося.
Она тихонько вышла из своего угла.
– Я все слышала, – прошептала она, – успокойся, граф, еще можно кое-что сделать.
– Что такое можно? – проскрежетал Гурко. – Можно одно: собрать войско и поступить так, как поступил покойный Сангушко. Вряд ли этой безумной бабе удастся и на меня добыть декрет сенатский – в Кракове меня не выдадут…
– Ничего этого не нужно, – все так же тихо шепнула Зося, сверкая глазами. – Не нужно войска, не нужно битвы, без крови и шума достигнешь ты цели… мне кажется, я что-то придумала…
– Что такое? Говори скорее!
– Нет, теперь не скажу: дай срок… все нужно хорошенько обдумать… дня через три, много четыре, я дам тебе знать, а покуда ничего не предпринимай и не выезжай из Вильны.
Гурко хотел допроситься, узнать непременно, в чем дело, но Зося покачала головой и, чутко прислушавшись, скрылась в полутьму пустых комнат.
IV
Рождественский мороз заглянул в Полесье, да так расходился, что даже земля в ином месте вдруг с гулким треском лопалась от его напора. Закутаны вековые деревья в хрустальный иней – и стоят, не шелохнутся. Непробудная мертвая тишь легла повсюду. Короткий день быстро побледнел, нахмурился и расплылся в морозном тумане. На черное небо высыпали звезды и запестрели, замелькали, замигали переливчатым блеском. Только и свету, что от этих звезд далеких да от яркого, густо выпавшего, снега. Перед глазами ходят какие-то красные круги, то удаляясь, то приближаясь. Пробыть одному в этой тиши морозной – покажется, что остановилось время, замерзла жизнь, а соблазнительный, опасный сон так и клонит…
Посреди высокого снега слабо виднеется полоса дороги. Какая-то темная масса быстро движется по ней к раскинувшемуся недалеко селению. Ближе, ближе – вот уже можно распознать несколько широких, самодельных пошевней, запряженных маленькими, лохматыми, но бойкими лошаденками. Вот уж на бледном фоне снега выделяются закутанные фигуры. Визг и смех наполняют ледяное, безжизненное пространство. То святочный поезд молодых крестьянок, отправляющихся повеселиться в соседнюю деревню.
Весело, удивительно весело девушкам; они перекликаются, переговариваются и никак не могут удержаться от безумного, раскатистого хохота, вспоминая, как парни хотели, было, увязаться за ними, навалиться к ним в сани… А они их и давай хлестать заранее приготовленными, спрятанными до поры до времени за пазухой жгутами!.. Инда взвыли парни – жгут не разбирает: хлещет себе по чему попало – лицо попадает, так и по лицу – уж не прогневайся. Теперь девкам своя воля – святки. Наработались, насиделись – довольно. Надо теперь свое взять – досыта нагуляться, досыта натешиться в две святочных недельки.
– Нет, парни, теперь шалишь! – не пустим вас в сани. А хотите, ступайте за нами рысцою на своих на двоих – авось перегоните…
И лихие девушки изо всей мочи погоняют лошадок.
– Аленка! держи правее – не то прямо на тебя так и наеду! – кричит здоровенная, курносая Аниска, стоя в пошевнях и обгоняя передовую тройку.
За Аниской целая куча девушек – штук семь – навалились в пошевни. А посреди них какая-то мужская фигура.
Аниска гаркнула, передернула вожжами, хлестнула своих лошадок и перегнала Аленку.
– Ха, ха, ха! – залилась Аленка и ее спутницы. – Ишь, как жарит, того гляди в сугроб угодит – не вытащишь! А вы бы вот что, девки, вы бы своего дурачка править поставили, все же мужчина…
– Нет, ты дурачка не тронь, дурачка мы не дадим в обиду; мы вот его промеж себя посадили, да укрыли, чтоб тепленько ему было. Что, хорошо тебе, родненький, тепло?..
– Хорошо, тепло, спасибо вам, девушки! – раздался из саней мужской голос.
– А мы вот тебе и песенку споем. Послушай-ка, хорошая песенка, святочная… Запевай-ка, Маруська!..
Маруська была красивая, бледная девушка, известная всему окрестному населению запевала, которая вот уже два года с ума сводила всех парней; но ни за что в мире не хотела покидать своего девичества. Отец даже бил ее за это сначала, да ничего не поделаешь с упрямой девкой, к тому же и одна она у него – других детей нет, старуху тоже похоронил; да и любит он Марусю – по-своему, грубо любит, а крепко.
Маруська подняла голову, блеснула в полумраке своими карими глазами, глянула на звезды небесные, на дурачка, сидевшего рядом с нею, и запела звонким, чистым голосом.
И еще звонче, еще чище понеслась ее песня по морозному воздуху:
За Припятью, за быстрою
Леса стоят дремучие,
А в тех лесах огни горят,
Огни горят великие.
Кругом огней все пни стоят,
Все пни стоят дубовые;
На пнях тех хлопцы-молодцы,
Молодки, девки красные
Поют колядки-песенки.
В средине их старик сидит,
Сидит себе, на всех глядит —
И сам запел колядочку!..
– Вот и ты, мой пригожий, погляди, погляди на нас, да и сам запой тоже колядочку… А то что хорошего – все молчишь, да смотришь так жалостно, ажно жутко становится…
Так говорила красивая Маруська, окончив песню и наклоняясь к своему дурачку-соседу. И откуда только взялся у этой дикарки полесской такой сладкий, ласкающий шепот, такая женственная грация?.. Но дурачок как будто ее и не слышал – он запрокинул голову и, не отрываясь, не мигая, смотрел в высокое небо.
Быстро мчались пошевни, и вот в стороне зачернелась деревня, запахло дымом. Поезд подкатил к одной из казанок-избушек. Она была обширнее и выше остальных. У маленькой двери виднелись люди. Вынесли ярко пылавшую лучину. Громкие веселые голоса и крики приветствовали приезжих.
Девушки выпрыгивали из пошевней, здоровались, смеялись и, перебивая друг друга, рассказывали все о том же, как они отделали парней.
Несколько мужчин взяли вожжи и, отворив ветхие ворота, заводили тройки на обширный двор под соломенные навесы.
– А! И дурачок ваш с вами! Ну, хорошо, что привезли, чего ему со стариками оставаться, пускай и он повеселится на святки, – говорил какой-то молодой голос.
Все стали входить в избу, освещенную несколькими лучинами. Неприглядна была обстановка избы этой. Бедно и печально жилище полесского крестьянина. В наши дни, как и триста лет тому назад, совершенно первобытна эта жизнь, скудны средства… Прошли века, не тронув и не изменив лесного захолустья. Сменился целый ряд поколений, все кругом преобразилось и зажило новой жизнью, а здесь – те же люди, тот же глубокий мрак невежества, диких суеверий, тот же от пращуров сохранившийся быт, те же убогие лачуги. Но, несмотря на всю свою дикость, народ полесский – самый добродушный народ в мире. Он ничего не видал, кроме своей тяжелой доли, совершенно доволен ею и в редкие минуты отдыха предается беззаветному веселью. Он свято хранит все древние обряды и обычаи и никак не может понять того, что эти остатки языческого культа несовместимы с исповедуемым им христианством. Да и христианин-то полешук только по имени. Вся природа кажется ему населенной добрыми и злыми духами. И он отдает себя под покровительство первых: и ведет ожесточенную борьбу с последними. В своем сердце он бессознательно хранит один клад, который красит его тяжелую жизнь. Клад этот – поэзия. Прекрасны полесские песни, и много говорят они душе человека. Они затрагивают лучшие чувства, питают и возбуждают жалость ко всему несчастному, угнетенному, больному.
Именно с этой жалостью и добротою отнеслась молодежь к дурачку, привезенному девушками. Его очень редко видали в этой деревне. Знали только, что он уже второй год живет у отца Маруськи, все больше молчит, не любит показываться на люди. Полно, да уж дурачок ли это? Может, просто какой больной, порченый человек… И откуда он взялся? О том дядя Семенко никому не говорит – просто, мол, подобрал на дороге. Дядя Семенко знахарь, человек зажиточный, хлеба вдоволь, – богаче всех он в деревне. Ему человека прокормить нетрудно, да и дурачок-то, говорят, стал всякую работу исполнять, помогать хозяину.
Ну, вот теперь и посмотрим, что за дурачок такой, может и не дурачок совсем, а так только слава прошла такая. А вдруг, это, прости, Господи, не человек, а лесовик в образе человеческом – ведь и такое бывает! При этой мысли не то, что девки, а даже парни, и те побаивались дурачка и тихонько от него сторонились. Но при внимательном взгляде на него всякий страх проходил, поднималась жалость.
Дурачок был молод и статен. Его красивое, тонкое лицо резко отличалось от типа местного населения. Все девки в один голос говорили, что такого пригожего парня они и во сне не видали. Даже завидовали Маруське, что живет с ним под одним кровом. Не будь он дурачок, наверное, сплели бы целую историю, да и была бы история. Маруська всех парней от себя отгоняет – а девка уж на возрасте. Но нельзя же чего подумать про дурачка, да и Маруську стыдно обидеть. Всякий видит, какой он, – и слова-то от него трудно добиться.
– Ишь, Маруська-то, – скажет кто-нибудь, – словно за малым ребенком, за своим дурачком ходит.
– Известно, жалко небось, ведь тоже человек, да пригожий такой, тихий – как и не пожалеть-то.
И на том успокаивались люди.
Теперь дурачок стоял среди избы и безучастно глядел на всех своими светлыми, грустными глазами. Его грубая, сермяжная одежда была опрятна. Густая русая борода еще больше отличала его от этих полешуков с жидкими, почти белыми бороденками. В лице не замечалось того ужасного, отталкивающего выражения, которое так поражает в настоящих дурачках, в несчастных идиотах от рождения. Только глаза смотрели слишком пристально, слишком странно. Дурачок на задаваемые ему вопросы иногда вовсе ничего не отвечал, иногда ограничивался словом, другим. Но этот краткий ответ всегда показывал, что он все понимает. Только когда его спрашивали, кто он, откуда – с ним делалось что-то странное. Он начинал говорить какие-то несообразности, на каком-то непонятном даже наречии. Иное слово и скажет, как следует, да что в том толку – все равно сообразить ничего не могут добрые люди.
Вот теперь посадили его на лавку, потчуют лепешками, заговаривают с ним. Ответит он: да! нет! – да и замолчит. А лепешки ест исправно. Скучный такой, право… а все же его жалко…
Молодежь начинает затевать гаданья и игры. Подоспели и парни – хохочут, в шутку ругаются.
Только один дурачок не принимает ни в чем участия, молча сидит в углу, да посматривает равнодушными глазами.
Есть тут одна молодка – Настюха. Взял ее недавно себе в жены со стороны откуда-то Павлюк – сын хозяина избы этой. Настюха – «молодица» славная, и пришлась она по сердцу Маруське. Ушли они теперь из большой избы. Настюха ее повела к себе – тут, в двух шагах, Павлюхина избенка. Подобрались они к огню, от холода разведенному, и беседуют обе втихомолку.
– А что я тебя спросить хотела, – говорит молодка. – Скажи ты мне все правду про дурачка вашего: что он за человек, откуда вы его взяли? Спрашивала я, спрашивала, да ни от кого толку не добиться. Право, чудные у вас люди – ни до чего им дела нету – был бы кусок хлеба во рту, а там хоть трава не расти…
– Вот что! – таинственно начала Маруся. – Напрасно его все дурачком кличут – совсем он не дурачок, а думаю я так, что это болесть у него такая. А отчего она ему приключилась – вот послушай… Давно это было уж – позапрошлым летом, в самый Купальный вечер. Мы тогда с нашего островка болотного ходили к реке игры справлять, венки в воду кидали. Как сейчас помню – пропела это я купальную песенку, бросила в воду венок, смотрю, потонет он али поплывет в свою сторону… Вдруг, откуда ни возьмись, наехали ратные люди на конях. Мы перепугались, было, да они ничего нам не сделали, только прогнали нас – так мы и побросали наши костры, игр не кончили… Со страху едва добежали до дому, забились в шалашики, всю ночь глаз не сомкнули. А из лесу под утро гул шел. Должно тут сеча недалеко – бьются, говорили наши.
Прошел день целый – никого не видно, ничего не слышно… И собрался это батька мой под вечер в лес. Чай, знаешь ты – батька-то знахарь – от трясовицы да от колтуна травы такие знает. А растут эти травы в лесу далеко, в одном только месте, и сбирать их надо на закате, на другой вечер после Купалы… Жутко мне было пускать батьку, да он не послушал, говорит: травы все вышли, на весь год запас нужно сделать… И пошел. Жду я, жду – нету батьки. Стала я плакать. Сижу себе и плачу. Вдруг вижу – батька: согнулся весь, а за спиной у него человек. Обмерла я. Ну, думаю, лесовик это вскочил ему на спину… не отпускает…
– О, что ты, родная! Ой, страшно! – не вытерпела Настюха, с ужасом озираясь, будто боясь увидеть лесовика вот тут, сейчас, перед собою.
– Да ты слушай – чего бояться, – слабо улыбнулась Маруся. – Не лесовик то был, а дурачок наш…
Вошел батька тихонько и мне головой замотал: молчи, мол. Свалил он человека, меня подозвал. Уж светать начинало – ночь-то короткая… глянула я – ахти мне! Парень молодой, голова вся, лицо в крови, одежа чудная, алая да мягкая – тоже в крови, изодрана. Сам парень еле дышит, глаз не раскрывает. Приказал мне батька за водой сбегать, да как принесла воды, он уж и раздел парня, зипун свой на него накинул – и грозно так говорит мне: «никому, Маруська, не моги сказывать того, что видела… Одежу я эту спрячу до поры до времени, а как поставлю молодца на ноги, так он нам с тобою большое спасибо скажет». Я и молчала; что соседи спрашивали – у меня один ответ: не знаю.
– Ну, и что же парень?
– Парень лежит да слабо так, жалобно стонет. Батька ему лицо и голову вымыл, кровь стал заговаривать, травы прикладывать. Много ден лежал парень – куска хлеба съесть не мог, только пил все. Умаялась я, его сторожимши. Вот и голова зажила: встал парень на ноги, да дурачком и вышел. Страшен он мне сначала показался: ничего не говорит, только упрется глазами в одно место, да вдруг как захохочет! Ажно мороз по коже подирает… И батька с ним говорить пробовал: бывало сидит, сидит, толкует – нет никакого проку. И сказал мне тогда батька, что это с ним от крови, да от раны в голову такое приключилось… Как ударили, говорит, ему в голову, так у него мысли и спутались… Може, говорит, пройдет, а може и нет – Бог его ведает, только травами поить его надо каждый вечер…
– Ну, и что ж, и ничего, так дураком и остался? – с соболезнованием спросила Настюха.
– Так и остался – чай, сама видела! – горько прошептала Маруся. А уж я ли не ходила за ним, я ли не берегла его… по вечерам травы настаивала – горькие такие травы… Стал он тише, перестал страшно смеяться… Иной раз и слово молвит, и понимает все, что его ни спросишь, а все ж таки порченый, порченый, и о себе ничего не знает – забыл видно все, совсем забыл…








