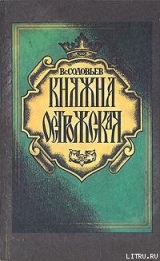
Текст книги "Княжна Острожская"
Автор книги: Всеволод Соловьев
сообщить о нарушении
Текущая страница: 12 (всего у книги 15 страниц)
И вот откуда-то, с самого дна глубины душевной, почти бессознательно для него и неясно шептал обвиняющий голос: да, он любит детей, он всегда старался заботиться об их благе, он оставит им в наследство, кроме богатства земного, свое ничем незапятнанное имя, громкую память о себе, как о честном, мужественном деятеле, бойце за святое дело… Всего этого много, но все же недостаточно для отца, желающего исполнить относительно детей все свои обязанности. Правда, он подавал им добрый пример, он старался наставлять их словом и говорил перед ними так, что они могли понимать его… Но старался ли он убедиться, произвел или нет его пример на них впечатление, действительно ли, доступно им его слово и горячо ли оно принято? Знал ли он мысли и чувства своих детей, ясна ли была для него их глубина душевная, врожденные особенности их характеров, указывающие на необходимость тех или других средств для того, чтобы влиять на них? Установил ли он с первых лет между собою и детьми то сердечное, откровенное и невольное общение, при котором только и возможно полное понимание друг друга и благотворное влияние старшего на младших?
Ведь вот – объясняя прочитанное, рассуждая о догматах православия, говоря о нравственных обязанностях человека, он хоть и имел в виду присутствие своих мальчиков, но все же преимущественно обращался к Гальшке. Ему необходимо было парализовать влияние Беаты, утвердить племянницу в православии. Он вслушивался в ее вопросы и ответы, следил за ее мыслями. Между ними велась живая, откровенная беседа. Иной раз Гальшка выказывала и некоторое непонимание, но это его не раздражало. Ему достаточно было взглянуть на ее чудное лицо, на ее светлые глаза, устремленные на него с доверием и любовью – и раздражение мигом проходило… А мальчики были в стороне, и они отлично понимали себя простыми слушателями. Он говорил понятно и для них, но никогда не убеждался, следят ли они за его словами, заинтересованы ли они ими, все ли понимают и со всем ли согласны. Он редко обращался к ним с вопросами, и если они чего не понимали или не знали, он сердился и не старался скрывать этого. Поэтому они краснели и путались, когда им говорить приходилось. Они боялись его гнева. Они не знали его ласки, потому что ласка была не в его характере. Если он ласкал кого, так только Гальшку. А с мальчиками что за нежности, к чему эти лизанья да по голове глажение – не в них любовь выражается. Да, не в них выражается любовь, но ведь дети не могут жить без ласки. Они охотно забудут всякий гнев, всякую грозу, простят всякую обиду, если знают, что и до гнева была нежная ласка, и после гнева ее опять заслужить можно. Но гнев никогда не ласкающего отца возбуждает только страх, поселяет в сердце ребенка тяжелое, нездоровое чувство. При таких отношениях немыслима откровенность, немыслимо полное понимание друг друга…
Зачем же считает он себя невинным перед детьми и ропщет на Бога?!
Ему невольно и ясно вспоминается теперь, как часто он замечал, что мальчики прекращали свой смех и живой говор при его появлении. Тот же Януш, бывало, не раз подходил к нему с явным желанием приласкаться, рассказать о каком-нибудь своем детском горе или своей детской радости. И всякий раз отец, занятый своими мыслями и заботами, сухо отстранял его ласку, не выслушивал его лепет. И Януш уходил, не высказавшись, уходил униженный, оскорбленный в своем лучшем чувстве и самом естественном порыве. Он даже не знал, что этот Януш необыкновенно впечатлителен и самолюбив. Теперь уж он не придет больше к отцу, он горько плачет и жалуется брату, что отец его не любит. «Да, он нас не любит – он любит только сестрицу Гальшку – она шутит с ним, смеется, целует его, и он ей все позволяет, сам ее ласкает!» – Так решают мальчики и между ними и отцом встает непреодолимая преграда. И вот пройдут года, и они отлично поймут, что поцелуи и ласки не всегда служат доказательствами любви, но никогда не поймут, что мальчики должны расти в почтительном отдалении от отца и не помнить ни одной его ласки, ни одного его горячего, невольного поцелуя.
И если когда-нибудь им придется ошибаться и падать, и если в трудную, критическую минуту жизни они не решатся прийти к нему за советом и помощью, боясь, что он холодно, по обычаю, отстранит их откровенность или, еще того хуже, легко, с высоты своего седого благоразумия, отнесется к их скорбям и сомнениям, неосторожно, неумело прикоснется к их ранам – разве он будет вправе винить их за это, разве будет вправе, без всякого упрека себе, карать их за их ошибки?!
– Но что же ему делать? Нельзя же ему разорваться на части! Кипучая, священная деятельность, в которую он погружен, наполняет почти все его время; он часто должен отлучаться из замка, да и дома всегда много всякой работы. Ему нет времени, решительно нет времени заниматься детьми, следить за ними, изучать их характеры, сближаться с ними. Он живет не для своего удовольствия, не пирует, не бражничает. Он живет для всей страны, для святого дела православия; своею деятельностью он ведь и детям же своим расчищает широкую дорогу!.. Все это так, и его труды не пропадут даром, и история почтительно запишет его имя на свои страницы. Но ведь человек, совершающий даже самое великое дело, не вправе отговариваться этим делом от исполнения своих первых, неизбежных, непреложных обязанностей. Если же у него не хватает на это ни сил, ни сознания, то он должен одного себя винить в последствиях и ниже опускать свою голову…
И ниже, ниже опускается голова князя Константина, и внятнее, понятнее звучит для него внутренний обвиняющий голос. Ему тяжело, ему горько, но он уже не ропщет, не негодует на детей, а горячо молится. И вот к мысли о детях примешивается мысль о дорогой, несчастной Гальшке.
С ней он не мог быть суровым. При одном взгляде на это светлое Божье созданье разглаживались его морщины и теплело у него на сердце. И она знала это, и доверялась ему, и любила его откровенной, дочерней любовью. Она не боялась его гнева и смело требовала от него ласки. И у него находилась для нее ласка. Он едва-едва сдержался от рыданий, от отчаяния, расставаясь с нею, благословляя ее на неизвестную будущность. Эта будущность оказалась непредвиденно страшной и печальной. И он не мог и не может спасти ее. Его многочисленные враги сделали свое дело – они поставили между ним и племянницей такую непреоборимую преграду из своих жестоких прав и законностей, что ему пригодится положить оружие. По решению короля и сената, ее не признают княгиней Сангушко и как несовершеннолетнюю отдают в полную власть матери. Приходится ждать еще так долго до тех пор, пока можно будет вырвать ее от мучителей… И что они теперь делают с нею?.. Ему невыносима была эта неизвестность. Много раз пытался он письменно уговаривать Беату – допустить его свидание с Гальшкой, но та каждый раз отвечала ему, что между ними все кончено, что она хозяйка у себя в доме и принимать его не намерена. Если же он захочет ворваться силой, то встретится с ее вооруженными людьми. Вильна не Острог – здесь разбойничать и затруднительно и опасно. Беата, действительно, содержала вооруженный отряд и неусыпно следила за Гальшкой. Все попытки тайных сношений оказывались неудачными. Отец Антонио учредил безупречную, бессонную тайную полицию в доме княгини.
Острожскому оставалось только со стороны следить за Гальшкой, и в случае какого-нибудь насилия над нею, вмешаться в дело – все равно будет ли это законно или не законно…
Но как же быть с сыновьями, как предотвратить ужасное несчастие? Порыв дикого гнева давно утих и под влиянием жены, и под влиянием собственных, неожиданных мыслей… Наказания, строгие меры не приведут ни к чему, только, пожалуй, окончательно погубят дело. Нужно узнать все правду, все подробности и действовать убеждением кротостью. В этом поможет княгиня.
И действительно, она скоро узнала про многое.
Она узнала, что у детей под великой тайной и в сокровенном месте хранится резное католическое распятие и некоторые книги, подаренные им на память отцом Антонио. Точно, дети как-то и где-то встречались с ним, беседовали и считают его святым человеком и своим лучшим другом. Он им насказал о Риме, о папе, чудесах и блаженстве, которые ждут их, если они откажутся от православия и сделаются сынами католической церкви. Они уже строят разные планы и продолжают мечтать о своем иезуите…
Получив такие сведения, князь Константин чуть было опять не предался бешенству; но теперь его справедливый гнев был направлен на Антонио. Князь поклялся умертвить его собственными руками, если когда-нибудь встретит. Мальчиков же он призвал к себе и долго, внушительно, спокойно беседовал с ними. Они слушали его внимательно и даже казались растроганными… Они торжественно обещались посещать церковь и молиться Богу. Затем князь приставил к ним священника, на которого мог положиться. Он должен был следить за ними и наставлять их в Законе Божием.
Устроив все это и успокоившись, князь снова и всецело отдался своей общественной деятельности. Время было кипучее, тревожное. От него требовалось все больше и больше усилий; борьба становилась труднее. Чаще и чаще приходилось выезжать из Острога, действовать то там, то здесь, то в Кракове, то в какой-нибудь глуши литовской.
Среди забот и трудов князь забывался от своей грусти, но возвращаясь в Острог, он чувствовал невыносимую сердечную тяжесть.
Время шло, проходили месяцы, прошло полтора года с тех пор как опустела половина замка, занимавшаяся княгиней Беатой. В замок редко наезжали гости; о пирах не было и помину. Все, что прежде тщательно скрывало свои враждебные чувства к князю ради возможности видеть княжну Гальшку и добиваться руки ее, – все это теперь стремилось в Вильну, осаждало дом Беаты. Да и, кроме того, нерадостно было теперь посещать острожский замок. Все в нем как-то пусто и мрачно. Хозяйка – женщина добрая и радушная, но она не умеет оживлять общества, очевидно, даже тяготится им, она вся ушла в домашние хлопоты и заботы, всю отдала себя младшему сыну, который еще был на руках у нее. Хозяин редко дома и кажется таким мрачным и грозный.
А князь был очень доволен этой тишиной и спокойствием. Он всегда приезжал в Острог утомленный и раздраженный. Он полюбил теперь в зимнее время бродить по опустевшей половине замка. Здесь все ему напоминало Гальшку; здесь, невидимо для посторонних взоров, выступала наружу вся нежность, на какую только было способно его сердце. Он иногда заставал себя на самых несбыточных грезах: то мечтал он о том, что Гальшка снова и навсегда переселится к нему, и не расстанется он с нею до самой смерти; то начинало ему казаться возможным появление Сангушки… Но он быстро останавливал свою расходившуюся фантазию и горько усмехался. Действительная жизнь вступала во все права – он начинал строить возможные планы, он задумывал издание в своей типографии полной Библии, помышлял воздвигнуть новые православные храмы в местностях, где это могло помешать распространению латинства и реформатства…
Незаметно набегали ранние зимние сумерки, а он все ходил одиноко по опустевшим покоям. Только в случае особенно важного дела приближенные решались тревожить его уединение…
В один из таких дней, когда особенно тяжело было у него на сердце, когда вьюга особенно злилась, и снежные хлопья так и бились, так и бились о стекла, ближний шляхтич смущенно доложил князю, что в замок явился какой-то хлоп. Он ни за что не хочет сказать, чего ему надо, и настоятельно требует, чтоб его немедленно провели к князю…
– Что за вздор! – раздражительно крикнул князь Константин.
Шляхтич замялся.
– Прости меня, князь государь, – волнуясь и даже заикаясь начал он, – дело такое, что и ума приложить трудно… Или всех нас бес попутал и глаза нам отводит, или… этот хлоп – сам покойный князь Дмитрий Андреевич Сангушко…
– Что? Что! Где он, где он, где?! Веди скорее, веди…
И князь, боясь верить, боясь радоваться, следом за шляхтичем бежал, забыв свои годы, бежал, как мальчик…
– Скорей, сюда, ко мне… Живо!..
Он остановился и нетерпеливо стал шагать по комнате.
Двери растворились.
Сомнения не оставалось – в грязной, мокрой от снегу, заскорузлой одежде, бледный, изменившийся, постаревший – но все же это был Сангушко.
Они бросились друг к другу, обнялись и, не выдержав, оба зарыдали, как отец с сыном, свидевшиеся после долгой, казавшейся вечной, разлуки.
– Голубчик, голубчик! Жив ли ты, жив? – мог только выговорить князь Константин, с радостью и счастьем вглядываясь в лицо Сангушки…
VII
Недели через две после неудачного сватовства Гурки и Олельковича-Слуцкого, княгиня Беата собралась на богомолье в монастырь Св. Мартина, находившийся в городе Вилькомире. Эта поездка была ею предположена уже недели две тому назад и все о том знали в доме. Монастырь Св. Мартина был построен в конце XVI столетия, в царствование Ягайло, который, женившись на Ядвиге, стал употреблять все усилия, чтобы вводить католичество в Литовском крае. Беата особенно почитала этот старый монастырь и делала на него большие пожертвования. Она ездила туда несколько раз в год в сопровождении Антонио. Гальшка тоже сопутствовала ей, если княгиня уж очень настаивала на этом. На поездку обыкновенно полагалось недели две, а иногда и больше – ехали медленно и в монастыре проводили с неделю.
Экипаж княгини сопровождала большая свита.
Теперь решено было не брать Гальшки – она, действительно, кажется нездоровой, да и опасаться нечего. Из верных источников известно, что князь Константин в Остроге. Княгиня не замешкается в дороге, а, вернувшись, станет немедленно приготовляться к переезду в Краков. Да, Гальшка должна остаться дома, а то она слишком утомится перед большим предстоящим путешествием.
Гальшка была очень довольна таким решением. По крайней мере, ее хоть на неделю оставят в покое, ей можно будет запереться у себя и никого не видеть, ничего не слышать.
Утром, перед самым отъездом, княгиня призвала Зосю, которая обыкновенно спала рядом с комнатой Гальшки.
– Как провела эту ночь княжна? – спросила она.
– Плохо, очень плохо! – с соболезнованием ответила Зося. – Вот уже три ночи как княжна совсем почти не спит, а заснет, так во сне стонет… Нынче два раза вставала, зажигала огонь, читать принималась… только утром заснула – я и будить ее не велела…
«Нет, решительно ей не следует ехать!» – подумала Беата, отходя от зеркала, перед которым кончала свой туалет.
Зося почтительно и неподвижно стояла, ожидая приказаний.
Что-то выпало из рук княгини и покатилось по полу.
– Подними, пожалуйста, Зося, – рассеянно проговорила княгиня.
Девушка быстро нагнулась, нашла кольцо и подала его Беатe.
Та взяла его, даже не поблагодарив, машинально положила на маленький столик и сама села возле.
– Ты, кажется, собралась ехать с нами, Зося? Нет, уж лучше останься с княжною – и пожалуйста, чтоб все было тихо, чтоб никто ее не беспокоил…
Зося сама хотела просить позволенья остаться с Гальшкой. Княжна не совсем здорова, скучать будет; она постарается развлечь ее, станут вышивать вместе… Княгиня Беата доверяет Зосе больше чем другим; но все же она болезненно мнительна, каждое слово взвешивает, во всем какой-нибудь умысел подозревает – с ней нужно быть очень осторожной. А тут она сама избавляет от всяких затруднений, сама велит остаться,
– Хорошо, я останусь, – тихо произнесла Зося, делая грустную мину, как будто бы ей очень хотелось ехать, и она теперь огорчена не на шутку.
Княгиня заметила эту мину.
– Ах, да поезжай, если так уж тебе трудно исполнить мое желание! – раздражительно заметила она.
– Разве я что-нибудь сказала, княгиня? Я останусь, я очень рада остаться с княжною… А теперь пойду к ней, посмотрю – может быть, она проснулась.
И она поспешно вышла из комнаты.
Через час княгиня выезжала.
Отец Антонно, встретясь с Зосей, шепнул ей:
– Хорошо, что ты остаешься, не отходи от княжны… За Вилией, в лесах, говорят, стаи волков показались – княгиня весь отряд берет с собою, в замке остаются только слуги.
– Чего ж нам бояться, отец мой? – пожала Зося плечами, пристально глядя в глаза иезуиту. Неужто ж в Вильне нападать станут?! – ведь и двери крепки, и соседи услышат… А если кто захочет пробраться к княжне, чтоб напугать ее, так опять я говорю: двери крепки… Благословите меня, отец мой!
Зося низко наклонила перед ним свою хорошенькую голову.
Он, благословляя ее, не видел ее лица, но если бы он теперь заглянул ей в глаза – то, наверное, заставил бы Беату отложить поездку и остаться дома.
Княгиня перед самым отъездом зашла проститься с дочерью и нашла ее, действительно, очень бледной и слабой. Когда она, обнимая Гальшку, положила свою руку ей на плечо, то Зося, стоявшая возле, так и впилась глазами в эту руку. Какое-то неуловимое выражение пробежало у ней по лицу; но она тотчас же справилась с собою и снова казалась совершенно спокойной.
Экипажи были поданы. Вооруженный отряд, на конях и в красивых костюмах выстроился на обширном дворе, приготовляясь провожать княгиню.
Минут через десять все выехали, и сторож запер засовами тяжелые ворота.
Зося стояла у окна, нетерпеливо дожидаясь. Только что закрыли ворота, она поспешила в уборную княгини.
Служанка еще не успела прибрать комнаты.
Зося подбежала к маленькому столику. Кольцо, поднятое ею и в рассеянности позабытое княгиней, лежало на прежнем месте. Она жадно схватила это кольцо и пристально, пристально рассматривала его. Глаза ее горели, она вся покраснела от волнения и тяжело дышала. Что-то решительное, злое, торжествующее выражалось в лице ее.
Ей хотелось хохотать, петь. Она спрятала дрожащими руками кольцо в свой корсаж и, даже не зайдя к Гальшке, поспешно оделась и вышла из замка черным ходом.
Глухими закоулками и задворками спешила Зося.
В одной из отдаленных от центра улиц Вильны стоял старый дом, окруженный высоким забором и густо разросшимся садом. За углом, где начинался узенький, грязный переулок, в сад была проделана маленькая калитка, которую сразу даже трудно было приметить. Но Зося, очевидно, была здесь уже не в первый раз. Она оглянулась во все стороны, убедилась, что кругом никого нет, вынула из кармана ключ и отперла калитку. Шмыгнуть в нее и плотно захлопнуть ее за собою было для нее делом одной секунды.
Она очутилась в саду, среди высоких глыб ярко горевшего на солнце снега. От калитки шла прочищенная, но уже занесенная ночною метелью тропинка. Снег забивался в башмаки Зоси – она даже стала ворчать и браниться! Но вот тропинка вывела ее из сада, и она очутилась перед стеной дома. Тут была запертая дверь. Зося постучалась. Никто не отворял ей. Она подождала немного и стала опять стучаться, но уже громче. «А вдруг никого нет, а вдруг он не дождался и уехал?!» – подумала она и даже побледнела при этой мысли. «В последний раз он так сердился, что ему надоело ждать попусту… Ну, уж и человек! Трудно с ним поладить… А ведь если уехал, так что же теперь?! Ведь тогда все пропало!» Она стала просто приходить в отчаяние и принялась стучать еще громче.
Наконец ее услышали. Изнутри раздались шаги. Кто-то спускался с лестницы, повозился с дверью. Дверь подалась и отворилась.
– Кто тут? А, это вы, паненка, – пожалуйте!
– Что же не отпирали? Стучала я, стучала… Тут у вас можно замерзнуть и никто не услышит… Граф дома?
Голос ее дрогнул – а вдруг скажут, нет его – уехал. Что тогда?
– Дома, дома – войдите.
Зося глубоко вздохнула и нетерпеливо, радостно побежала по крутой каменной лестнице. Отворивший ей слуга литвин едва поспевал за нею.
Войдя наверх, она прошла ряд пустых, довольно плохо меблированных и пыльных комнат. Литвин стукнул у запертой двери и, услыша голос, сказавший «можно!», впустил Зосю.
С низенького восточного дивана ей навстречу поднялся граф Гурко.
– А, наконец-то ты заглянула, моя милая пташка, наконец-то обо мне вспомнила. Ну что? Опять ждать? Да ведь пойми – ты сказала: дня три, четыре, а уж теперь две недели прошло – и все нет никакого толку; ведь я в это время успел бы съездить в Краков и вернуться… Только водишь ты меня за нос и ничего больше…
Гурко начал говорить с большой досадой, но кончил довольно ласково и шутливо. Он взглянул на Зосю – разрумяненная, с лицом, еще застывшим от мороза, с блестящими смелыми глазами она показалась ему очень хорошенькой и заманчивой.
– Садись, садись, птичка; сказывай, с чем пожаловала?
Он взял ее за руки, посадил на диван и сам сел рядом с нею, не выпуская ее рук и пожимая их своими худыми, жилистыми руками…
– Ишь ведь озябла – холодные какие ручки… Он начинал глядеть на нее очень нежно.
– С того бы начать надо, граф, спросить, с чем пожаловала, а не накидываться с попреками, ничего еще не узнавши. Хорошую весточку принесла я тебе, даже сама не чаяла, что так оно выйдет.
– Что такое? – говори скорее!
Зося была теперь почти уверена в торжестве своем, в полной возможности исполнения своего плана – недаром она его обдумывала и так и этак, ломала свою хитрую голову. А тут еще сама судьба дает ей оружие в руки, да такое оружие, о котором она даже и не мечтала. В последнее время она решительно не могла дать себе отчета в том, что творилось с ее сердцем. Ей казалось, что ее безумная любовь к Антонио совсем прошла. Когда она встречалась с ним, она чувствовала только одно желание – измучить его, посмеяться над ним, насладиться его отчаянием.
Сознание, что она способствует его горю, тайно хитро расставляет ему сети в то время, как тот и не подозревает об этом и совершенно полагается на ее преданность, – доставляло ей бесконечное наслаждение. Ее мучений, ее тоски как не бывало. Она вся, всеми своими помыслами и чувствами, ушла в интригу и жила ею и в ее удаче находила счастие. Относительно Гальшки она успокоила себя тем, что та сама же объявила, что ей решительно все равно, что бы ни сделали с нею – хуже ей не будет.
Теперь в этой огромной, пыльной комнате графа Гурки, на нее нашел просто припадок ребяческого веселья. Ей хотелось шалить, хотелось вполне насладиться предстоящей сценой, выдавать Гурке свой план понемногу, подразнить его, поиграть с ним…
– Нет, граф, постой – я устала, дай отдохнуть сначала, рассказать все подробно еще успею…
Она кокетливо прислонилась к шелковой подушке дивана.
– Ну, не дурачься, панночка, говори скорей!
– А чем отплатишь за это? Я дорого ценю каждое свое слово.
Она смеялась, сверкала глазами и показывала на розовых щеках самые соблазнительные ямочки.
Гурко просто загляделся на нее.
«Да она прелесть какая хорошенькая! – думал он. – Будь у этой девочки миллиона три-четыре приданого, и не посмотрел бы я на то, что она простая шляхтянка – сразу бы предложил ей руку и сердце… Ну, а теперь не взыщи, коханка, только сердце и могу предложить тебе…»
– Чем отплачу? – шутливо заговорил он, улыбаясь своим большим ртом с неровными, широкими зубами. – Проси чего хочешь, только не томи, говори скорее.
– А мне лень придумывать плату – сам придумай.
– Ничего я не пожалею для таких глазок… Ну, скажи же, моя коханочка, свою новость.
Он наклонился к ней, заглядывая ей в глаза, опять взял ее маленькие, красивые ручки и стал целовать их.
– Ого, граф! Так вот ты как! – вскрикнула она, вырывая руки и смеясь во весь голос. – На мне начинаешь учиться ухаживать за красавицей Гальшкой! Стыдись – ну зачем ты целуешь мои дрянные руки, когда скоро, может быть, будешь целовать самые прекрасные ручки в мире… Или ты так влюблен, что тебе всюду мерещится твоя красавица. И теперь чудится, что перед тобою не я, а она?
Гурко, действительно, начинал немного забываться, по своему обычаю. Он нежно ответил Зосе:
– Ничего мне не чудится, птичка, а вижу я только одно – что ты прелесть, что ты ничуть не хуже Гальшки… Отчего же мне и не целовать твои маленькие, славные ручки.
Зосе даже стало неловко. Ей невольно было стыдно за него. Но это продолжалось только секунду. Он сравнил ее с Гальшкой, сказал, что она ничуть ее не хуже. Она была большого мнения о своей красоте и тщательно и ежедневно изучала ее перед зеркалом. Но все же ей никогда и во сне не снилось, чтобы кто-нибудь мог сравнить ее с Гальшкой. Ведь Гальшка неслыханная, невиданная красавица, ведь на нее молиться хочется… Что ж это он, насмехается что ли над нею? Нет, он не смеется, он глядит так нежно и сладко – этот противный Гурко… Ведь вот нашелся же человек, который считает ее прелестной даже рядом с Гальшкой!..
И Зосе невольно представился Антонно – и в эту минуту она ненавидела не его одного, она ненавидела и Гальшку…
Она взглянула на Гурку, и Гурко показался ей далеко не таким противным, как прежде. Сознательно или бессознательно, но лучшего он и не мог придумать, как сказать ей, что она не хуже Гальшки.
– Зачем ты так зло смеешься надо мною? – проговорила Зося, надувая губки и грациозно притворяясь обиженной. – Только в насмешку и можно сравнить меня с такой красавицей. По всей Литве и Польше говорят, и говорят справедливо, что никогда не родилась еще такая красота на свет Божий… Я ничего тебе не сделала дурного, граф, я за тебя же хлопотала изо всех сил моих… но после обиды и насмешки, не взыщи – я для тебя ничего не стану делать…
Она даже приподнялась с дивана и сделала вид, что хочет уходить…
Гурко удержал ее и схватился за ее платье.
– Что ты, что ты, Господь с тобою! Я над тобою насмехаюсь?! Видно мало ты глядишься в зеркало, что такого плохого о себе мнения… Да, княгиня Острожская, или, как ты ее называешь, княгиня Сангушко – для меня это все одно – хороша; но, право, о ней гораздо больше кричат, чем есть на самом деле. К тому же у всякого свои глаза и свой вкус – я, признаюсь, не очень люблю таких бледных святых лиц, как у Мадонны… Я не молиться хочу на женщину – я живой человек и жизнь люблю. По мне, то ли дело эти черные хитрые глазки, эти розовые щечки и веселые на них ямки…
Гурко окончательно забылся. Иногда он делался нахально, откровенно циничен, и теперь на него нашла именно такая минута.
Зося далеко не прочь была выслушать такие комплименты. Он говорил так убедительно и красноречиво. Ей самой уж начинало казаться, что, пожалуй, он и прав. Точно, Гальшка слишком похожа на святую, в ней мало жизни… и теперь она так бледна и худа! Высокое мнение о своей красоте с необычайной быстротою разрасталось в Зосе. Она так хороша, она лучше знаменитой, всеми прославляемой красавицы! У нее голова закружилась от гордости и счастья…
Но все же она остановила Гурку.
– Если б даже это и была правда, что ты говоришь, – а это неправда – то все же, разве ты смеешь, граф, говорить мне это?! Ты собираешься жениться на княгине Гальшке, я хлопочу для того, чтоб устроить тебе это дело, а ты вдруг такой вздор болтаешь… Я думала – ты влюблен в Гальшку – иначе не стала бы помогать тебе…
– Послушай, коханая Зося, – ответил Гурко. – Ты девушка умная – разбери же хорошенько: разве я должен непременно быть влюбленным, чтоб хотеть жениться? Посмотри на всех магнатов наших, разве они по любви женятся? Женитьба должна приносить богатство, упрочивать связи. Что же бы сталось со всеми нашими старыми родами, если б мы женились без всякого расчета? В каких-нибудь сто лет ничего не осталось бы от родовых богатств, и все мы превратились бы в нищих. Нет, нам брак не любовь сулит, да иначе и быть не может, пока мы будем заботиться о себе и о детях наших, пока не захотим хлопского царства… Так не смотри же так сурово, моя ласточка, сердце не камень, а от твоих глазок и камень теплее станет.
Хорошо и разумно говорил «пан грабя». Если б он был покрасивей да помоложе, да если бы сердце Зоси не устало теперь от всех своих волнений, не наполнено было жгучей, страстной ненавистью к Антонио, он, пожалуй, победил бы ее, сумел бы внушить ей свои мысли и чувства… Но в настоящую минуту Зося могла плениться только одним – могуществом красоты своей – сам же «пан грабя» и не существовал для нее.
Она вспомнила, что слишком засиделась, что ей пора домой, к Гальшке.
Она решительно поднялась с дивана, оставляя Гурку на почтительном от себя расстоянии.
– Может быть, ты и прав, только бросим все это, – серьезно сказала она. – Вот ты, кажется, совсем забыл, что сам же торопил меня говорить скорее мою новость. Мне уж и домой пора, а я еще не сказала ни слова…
На Гурку подействовала ее серьезность. Он сообразил, что она права. Дело, дело, прежде всего дело. Перед ним соблазнительно мелькнула цифра огромных доходов Гальшки и возбудила всю природную его алчность, при которой немедленно замолкали остальные чувства… Ведь Зося не уйдет от него, будет еще время – она такая рассудительная, сговорчивая девочка…
– Ну, хорошо, хорошо! – сказал он, откидываясь на подушку. – В чем же дело…
– Княгиня Беата уехала недели на полторы в Вилькомир, на богомолье…
– А Гальшка?
– Гальшка осталась дома, и с я с нею.
– А отец Антонио?
– Разумеется, с княгиней, и на этот раз их сопровождает весь наш отряд, да штук семь рыдванов, человек по шести в каждом.
– Вот это хорошо, вот это хорошо! – даже вскочил и заволновался Гурко. – Так значит, украсть можно невесту? Да? Ты мне в этом поможешь, Зося?
– Не больно торопись, пан грабя! Все же мы в Вильне, а в доме остались люди. Тихо, без шуму и драки можно украсть невесту только тогда, когда она сама согласна, чтоб ее украли. А разве ты сговорился с княгиней Гальшкой, разве она потерпит новый срам и убежит с тобою?.. Плохо, видно, ты ее знаешь!
– Ну, так как же? Я и ума не приложу…
– А вот как: при тебе она сказала, что выйдет за того, за кого прикажет княгиня?
– Да.
– Она от слов своих не отопрется. Уж больно измучила ее матушка родная, да и тоска-кручина. Не раз она мне говорила: «прикажет матушка – за кого хочет, за того и пойду, мне все равно, хуже не будет!» Ну уж, граф, отказалась бы я от такой невесты! – невольно докончила Зося.
– А я не откажусь, – резко заметил Гурко.
– Твое дело… Так вот что: значит, ее надо уверить, благо уехала княгиня, что та поладила с тобою и тебя выбрала в мужья ей.
– А если она не поверит? Нет, это что-то неладно, Зося!
– Я и сама думала, голову ломала, как бы такое выдумать, чтоб она не сомневалась. Положим, она не то, что другие… Бог ее ведает, где иной раз ее мысли: ясное, как день белый, дело, всем видно, а ей и невдомек, она и не замечает… Уверить да обойти ее нетрудно, а все же, в таком случае, и с ней нужно ловко придумать…
– Вот то-то и есть! – задумался Гурко. – Разве сказать ей…
– Ничего не сказать! Лучше и не придумывай – все равно пустое скажешь. Все уж без тебя придумано, да так придумано, что лучше и быть не может… Недаром я бежала к тебе, ног под собой не слышала…








