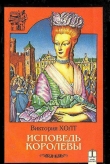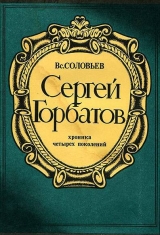
Текст книги "Сергей Горбатов"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XII. В ДОРОГУ
Сергей не стал откладывать своего отъезда. Вместе с благодарственным письмом к Льву Александровичу были отправлены из Горбатовского в Петербург всякие мастеровые люди, повара и во главе их старик Иван Иваныч.
Этот Иван Иваныч, бедный беспоместный тамбовский дворянин, издавна жил у Бориса Григорьевича и вошел к нему в милость. Он был человек смышленный, расторопный; его обыкновенно Горбатов посылал и в Москву, и в Петербург, когда в том случалась необходимость.
В Петербурге у Бориса Григорьевича был свой дом на Мойке, каменный и довольно обширный. В этом доме не раз происходили в конце Елизаветинского царствования веселые пирования, на которых присутствовал великий князь Петр Федорович.
Наложив на себя добровольную опалу и навсегда запершись в деревне Борис Григорьевич не продал, однако, своего петербургского дома. При доме оставались сторожами две семьи дворовых горбатовских людей, которым посылались кормы и которые два раза в год должны были извещать о состоянии вверенного им дома. В течение двадцати пяти лет несколько раз даже назначались изрядные суммы для ремонта.
Иван Иваныч, возвращаясь из своих посылок в Петербург, постоянно докладывал Борису Григорьевичу, что дом следует продать; что на него находятся покупщики и предлагают очень выгодную цену. Эти покупщики всячески задабривали Ивана Иваныча и обещали ему немало на устройство дела. Но Борис Григорьевич каждый раз неизменно ответствовал:
«С какой стати я продавать буду – пускай себе стоит. Видно, кому ни на есть, а мозолят глаза хоромы Бориса Горбатова! – ну и пусть мозолят. Никто не может у меня отнять мою собственность… еще покойный родитель тот дом построил. И лучще ты, Иваныч, и не говори мне об этом деле…» Иван Иваныч умолкал, грустно вздыхая, и отписывал в Петербург, что никакими мерами хозяина уговорить невозможно.
Вот теперь дом и пригодился. Иван Иваныч ехал с тем, чтобы приготовить его для нового молодого владельца.
Сергей, решил отправиться в путь на святках. Он ездил в Тамбов, простился там со знакомыми, объездил соседей. Все провожали его любезными пожеланиями, сулили ему всякие почести, более или менее искусно скрывая свою зависть. Впрочем, завистников было не особенно много, большинство хорошо понимало, что такому богачу и вельможе, как Горбатов, завидовать нечего – все равно с ним не тягаться. А коли войдет он в силу да в чины большие, то, может, не забудет старых знакомых и им еще пригодится.
Княгиня Пересветова исполнила свое обещанье посвятить Сергея в тайны петербургской придворной жизни. Она передала ему все, что знала о влиятельных лицах, окружавших государыню: насказала кучу анекдотов, ходивших по городу в последнее ее пребывание в Петербурге. Она в первый раз взглянула на Сергея как на взрослого человека и говорила с ним не стесняясь.
Из ее рассказов перед ним открылся новый мир интриг и любовных приключений, героями которых являлись самые важные сановники государства. Сергей не раз краснел во время этого разговора. Он не совсем доверял княгине; но, во всяком случае, она его очень заинтересовала, и ему хотелось скорей, как можно скорей, увидеть самому всю эту жизнь, самому в ней разобраться.
Он едва мог дождаться дня отъезда, а пока метался от матери к Тане, и наоборот.
Хотя ни он, ни Таня никому не поверяли того, что произошло с ними, и хотя единственный поверенный, Рено, молчал, конечно, но в эти последние дни все же у многих, начиная с Марьи Никитишны, открылись глаза на отношения молодых людей. Марья Никитишна во время одного разговора с сыном даже прямо заговорила про Таню.
– Сереженька, ты смотри, не пленись там… кто их знает какие они – петербургские-то!.. А тут, дома, тебя настоящая невеста будет дожидаться… Да не красней, дружочек, ведь сердце матери вещун… и доброе то дело! Танюша наша молода еще, а через годик, другой – ух какая станет… И по всему она тебе пара – родство между нами не близкое – греха нету… А покойник любил Таню, не раз мне говаривал: «Славная девка вырастет, вот и жена Сергею готова, искать не надо»…
Сергей молчал, не то изумленный, не то обрадованный словами матери; все лицо его рдело румянцем.
Марья Никитишна ласково улыбнулась, что с нею редко случалось в это время. Она нагнула к себе голову сына, поцеловала его.
– Да, не красней ты, говорю! Ну, ну, хорошо, больше я ни слова… как придет время, тогда и поговорим, а теперь и взаправду нечего.
За два дня до отъезда Сергей поздно вечером вошел в свою опочивальню и очень изумился, увидев на одном из сундуков, в которых были уложены его вещи, маленькую фигуру карлика Моськи.
Сергей с Моськой был в большой дружбе и не только любил, но и уважал его, несмотря на то, что, подобно всем домашним, забавлялся им как игрушкой. Он знал, что Моисей Степаныч (таково было действительное имя карлика) и добр, и умен, и искренне предан их семейству. Он помнил его в Горбатовском с первых лет своего детства, помнил его за все это время ничуть не изменившегося, будто время не существовало для Моськи. Сколько ему было лет – это невозможно было определить. По лицу он всегда был тем же новорожденным ребенком и старым старичком. Между горбатовской прислугой ходили толки о том, что Моське уже двести лет и что он проживет по крайней мере еще столько же. Двести не двести, однако, ему было около пятидесяти, хотя он и отличался крепким здоровьем и замечательной бодростью и подвижностью.
Первоначально, еще маленьким мальчиком, он был куплен у кого-то Иваном Ивановичем Шуваловым и подарен им императрице Елизавете. Во дворце Моська прожил недолго: каким-то неловким ответом навлек он на себя немилость императрицы, которая была в тот день не в духе. Великий князь Петр Федорович выпросил Моську себе и сейчас же подарил его своему приятелю, Борису Горбатову. С тех пор карлик не разлучался с Борисом Григорьевичем. И в первое время, когда бывший веселый царедворец, запершись в Горбатовском, метался в горе и злобе по пустым хоромам своего обширного дома, один только Моська умел угождать ему.
К Сергею карлик был трогательно привязан; он измышлял всевозможные способы забавлять его; мастерил ему всякие диковинные игрушки, рассказывал интересные сказки. Когда Сергей подрос, Моське уже нечем было развлекать его, Сергей уже в нем не нуждался, как прежде. Но воспоминания детства, Моськиных игрушек и сказок не изгладились из памяти Сергея, и он всегда относился к карлику ласково и деликатно, делал ему подарки и никогда не называл его «Моськой», как почти все в доме, а называл его «Степанычем». В последние годы явилось, однако, одно обстоятельство, которое чуть не встало между Сергеем и карликом – это был приезд Рено.
Француз и карлик скоро сделались врагами. Оба они горячо любили Сергея и ревновали его друг к другу. Рено относился к этому «отклонению от законов природы» с большим презрением, говорил, что все эти монстры бывают всегда монстрами и в нравственном отношении и не признавал в Моське никаких достоинств.
Моська в разговорах с Сергеем сначала называл Рено «французской трещоткой и басурманской крысой», но потом, скоро убедясь, что француз совсем заполонил барчонка, он перестал в глаза Сергею бранить его. Он только зорко следил за ним, будто шпионил. Рено часто подмечал на себе его быстрые, недружелюбные взгляды, но отделаться от него и совершенно удалить от него Сергея он все же не мог. Моська был хитер и терпелив и кончил тем, что победил француза, изменил его дурное о себе мнение.
Часто, забравшись в уголок классной комнаты, он присутствовал при уроках Рено, постоянно вслушивался в его разговоры с Сергеем, Еленой и Таней и кончил тем, что усвоил себе много французских слов, начал понимать французскую речь. Достигнув этого, он уже прямо обратился к Рено на французском языке, чем крайне поразил воспитателя, и просил поучить его.
Рено долго хохотал как сумасшедший, но был польщен, заинтересован и согласился на эти смешные уроки. Новый ученик оказал большое прилежание и понятливость, и хотя не мог выучиться правильному французскому произношению, но все же с языком совсем освоился. Этого только ему и было надо. Теперь уже от него не могло быть тайн, теперь он мог не выпускать из виду Сергея, следил за «французской трещоткой»; теперь, может быть, ему удастся кое в чем подставить ногу «басурманской крысе».
– Что ты здесь делаешь, Степаныч? – спросил Сергей, увидев Моську на сундуке в опочивальне.
Карлик, как и всегда, расфранченный, напудренный и сияющий позументами, слез с сундука на пол, подошел к Сергею, взял его руку своими крошечными детскими руками и запищал:
– Сергей Борисович, золотой мой соколик, не откажи мне в великой милости. Давно я собираюсь просить тебя, да все оторопь брала, потому знаю, коли откажешь, мне горе такое будет – не расхлебать того горя… Батюшка ты мой, возьми меня с собой в Питер!
Сергей задумался. Марья Никитишна отпускала с ним и так уж самых надежных и верных слуг отца его. Она так привыкла к Моське, он иной раз и теперь, после кончины Бориса Григорьевича, умел развлекать и забавлять ее. Среди волнений последнего времени Сергей совсем забыл про Моську, но теперь почувствовал свою неизменную к нему привязанность.
– И рад бы взять тебя, Степаныч, не хочется расставаться с тобой. Да как же матушка?!
– Думал я и об этом, – тихо и серьезно проговорил карлик, – и первым делом о всем доложил барыне. Она-то меня отпускает – даже порадовалась, что я вызвался. Где же тебе одному-то там – мусье Рено не углядит за всем. Человек он несведущий, по-нашему ни слова не смыслит, а у меня-то весь Питер как на ладони. Уж что другое, а Питер я знаю и порядки все тамошние, и во дворце как и что. Нет, Сереженька, без меня не обойтись тебе, то же и матушка говорит – сам спроси. Ну, дело другое, коли сам меня не хочешь – я в твоей воле!..
– А если так, то о чем же и толковать тут! – весело перебил его Сергей. – Едем, старина! Покажи мне твой Питер, поучи там меня уму-разуму.
Карлик взвизгнул и так и прильнул губами к руке Сергея.
– Голубчик мой, Сереженька, кормилец – уж как обрадовал!..
Через два дня огромная, неуклюжая, но удобная и покойная дорожная карета на полозьях, запряженная шестериком, стояла перед крыльцом горбатовского дома. Несколько экипажей, саней и кибиток с прислугою и всякой поклажей уже мчались в это время к Тамбову.
Сергей в богатой шубе, в высокой собольей шапке вышел на крыльцо, сопровождаемый всеми домашними. Марья Никитишна еще раз обняла сына и долго крестила его, силясь сдерживать свои слезы. Потом он расцеловался с сестрою, потом подошел к руке княгини Пересветовой.
– Дай тебе Бог всего лучшего, Сереженька, смотри пиши – не забывай, – говорила княгиня.
Но он не слушал. Перед ним было побледневшее лицо Тани. Он припал к нежной дрожавшей руке. Ему неудержимо захотелось еще раз крепко, крепко поцеловать дорогую девушку, но он не смел этого при посторонних.
– До свиданья, Таня, – пишите, ради Бога!
Он снял шапку, еще раз поклонился всем столпившимся на крыльце, еще раз бросил быстрый взгляд на Таню, на мать и поспешил к дверцам кареты. Следом за ним веселый и довольный, раскланиваясь со всеми, вскочил Рено, а потом взобрался и Моська.
Дверцы захлопнулись. Карета тронулась.
Сергей взглянул на крыльцо, откуда махали ему платками, смигнул набежавшие на глаза слезы и вздохнул всею грудью.
Карлик набожно крестился, недружелюбно поглядывая на своего соседа, Рено.
– О, господи! – думал он. – В первый-то раз дитя из дому в такой путь отправляется, а и лба не перекрестит… И все ты, проклятая крыса!.. О, Господи, избави нас от бед и напастей!..
Он зажмурил глаза и опять стал креститься: лишь бы не замерзнуть на дороге, а то все хорошо – лучше и быть не может!..
XIII. ЗАБОТА КАРЛИКА
В первых числах января рано утром, когда солнце только что выглянуло, прорезая морозный туман, у подъезда известного всему Петербургу дома обер-шталмейстера Льва Александровича Нарышкина остановилась крохотная фигурка, закутанная в детскую шубку.
Кругом было все тихо. Тяжелые двери наглухо заперты.
Фигурка взобралась на ступени крыльца, приподнялась на цыпочки, силясь достать дверную ручку, но это оказалось невозможно. Фигурка распахнула свою шубенку, выказывая озабоченное, сморщенное личико. Это был горбатовский карлик, Моська.
– Ну что ты тут поделаешь?! Видно, спят, – пискнул он.
Он начал подпрыгивать, но все никак не мог достать дверной ручки – шубенка мешала. И кончилось тем, что Моська запутался в ней, упал и скатился с обледенелых ступеней.
– Ох! Да тут все кости переломаешь! Ишь ведь, спят черти, прости Господи! – ворчал он, потирая ушибленную ногу. – Обойти разве со двора, – да нет, там людишки разные, кто их знает какие… насмех подымут – разобидят… да, пожалуй, и до самого не допустят! Постучаться, что ли? Авось тут еще Перфильич, старый знакомец, со своей булавою…
Моська снова взобрался на крыльцо и что есть силы стал колотить кулачонками в дверь. Поколотит, поколотит – да и прислушается.
Долго его усилия оставались тщетными, так что даже, несмотря на мороз, пот начал прошибать карлика. Но он не унимался и все продолжал стучаться.
– Оглохли, проклятые! – наконец крикнул он во весь голос. – Ну так авось вот этак услышат!
Он приложился губами к самой двери и отчаянно замяукал по-кошачьему, на все лады, с неподражаемым искусством.
Этот неожиданно придуманный им фокус оказался действительнее стука его кулачонком. Замок двери щелкнул, так что Моська едва успел отскочить.
– Что такое? Что за пропасть! – раздался густой бас над головой карлика.
– Ну, слава тебе, Господи! Он, он, Перфильич! Пропусти, голубчик! Аль не узнал? Так вглядись хорошенько, протри буркалы-то, заспался, видно!? Пора, солнце давно светит…
– Моська, ты ли это? Какими судьбами?! Ах, дурень, дурень, кошкой вздумал мяукать!.. А я слушаю – что такое творится за дверьми, даже оторопь взяла. Коты не коты, уж не ребеночка ли подкинули – так и подумал – вот те Христос!
– Да не болтай ты, Перфильич, а впусти, ради Бога!
Перфильич, огромный, тучный швейцар, нагнулся, подхватил Моську под мышку и внес его в сени, запирая за собою дверь.
– Пусти, черт! – пищал Моська. – И так с крыльца вашего свалился – ногу повредил, а тут ты еще все кости ломаешь… Пусти, медведь!
Громадный Перфильич осторожно поставил на пол карлика, присел пред ним на корточки и, ухмыляясь, глядел на него.
– Ну, шутка сказать – лет с пятнадцать не видались. И ничего-то ты с той поры не вырос!..
– И ты ничего не умалился, – перебил его Моська. – Да, полно, чего тут… Скажи-ка лучше – сам-то дома ли, встал ли?
– Нет; тут вчерашнего числа, вишь ты, было пированье; оно и то, пируем каждый день, с утра до вечера толчея в доме, ну, а вчерась просто дым коромыслом, далеко за полночь разъехались… Так он-то, полагать надо, еще не просыпался. А о тебе доложить, что ли? Это можно, я скажу камердинеру – он тебя примет. Слыхал я, куманек, про дела ваши. Хозяин-то помер! Царствие ему небесное! А ты это, верно, с молодым к нам пожаловал? Еще на сих днях мне дворецкий сказывал: за обедом, вишь ты, разговор был про вашего молодого барина, Лев-то Александрыч поджидает его…
– Так, так, голубчик! – повторял Моська, скидывая с себя шубенку и охорашиваясь перед большим трюмо. – Вчера вечером поздненько-таки приехали и очень мне нужно самого видеть – не упустить бы. Доложи-ка, куманек, да так чтобы и сказал камердинер, что, мол, горбатовский Моська, – и большая-де надобность до его высокопревосходительства.
– Ладно, ладно! – отвечал Перфильич и пошел наверх по широкой лестнице.
Карлик вскарабкался на стул, оглядел парадные сени, устланные дорогим ковром, заставленные мраморными вазами и статуями. А потом вдруг подпер рукою свою маленькую головку, глубоко вздохнул и пригорюнился.
Между тем Перфильич уже спускался с лестницы.
– Ну, куманек, обожди малость, – встали и в уборной теперь. И приказано, как только брадобрей выйдет, так и провести тебя.
– Спасибо, спасибо! Да слушай-ка, подь сюда, Перфильич!
Перфильич подошел, и Моська, становясь на стул и все же подымая голову, чтобы глядеть в лицо кума, зашептал ему:
– Да, вот что еще. Может, как я буду у Льва Александрыча, молодой мой господин, Сергей Борисыч, приедет, так ты ему про меня ни слова, что я здесь. Я не сказался, и не должен он знать, что допрежь него виделся с вашим… Не выдашь, кум? А? Не выдашь?
Перфильич качал головою.
– Ах, ты проказник! Видно, шутку какую выдумал? Ведь совсем старик уж, чай, а в головенке и до сей поры шутовства разные. Да ну, дури! Мне-то что за дело. Уж коли его высокопревосходительство ни одного дня без проказ проводить не может, так тебе и Бог велел.
«Проказы! Не проказы у меня на уме, – подумал карлик. – Ну, а коли он так это обернул, то тем и лучше».
В это время чопорный, напудренный лакей остановился на площадке лестницы и важно произнес:
– Их высокопревосходительство приказать изволили привести к себе посланного от господина Горбатова…
– Перфильич! – пискнул Моська на ухо швейцару, все стоя на стуле и держа его за пуговицу, – ты и этому важному барину скажи, чтобы молчать, неравно Сергей Борисыч приедут. Для вас же, о вас забочусь, коли проболтаетесь, так как бы худо вам не вышло, Лев Александрыч очень за то сердиться будет.
– Ладно, ладно! Дурачьтесь вы там с Львом Александрычем, – не наше, говорю, дело, – проворчал Перфильич.
Моська слез со стула и стал взбираться по лестнице, спеша и подскакивая боком одной ногой со ступеньки на ступеньку, как это делают маленькие дети.
Важный лакей провел его через целый ряд роскошно убранных покоев, по которым суетилась прислуга, приводя в порядок мебель и обметая пыль после вчерашнего пиршества.
Наконец лакей остановился перед запертой дверью и тихонько стукнул.
– Входи! – раздался звучный, знакомый карлику голос.
Он вошел в небольшую уборную. В мягких креслах перед туалетным столом сидел уже совсем одетый, в парике, в шитом золотом кафтане и с андреевской звездой крепкий здоровый человек, лет за пятьдесят. Он стирал со своего веселого, моложавого и несколько женственного лица пудру.
Моська отвесил почтительный поклон.
– Честь имею кланяться вашему высокопревосходительству! В добром ли здоровии, батюшка Лев Александрыч?
– Здравствуй, великий человек! – приветливо улыбаясь, отвечал Нарышкин.
Моська бросился к креслу и громко чмокнул красивую, выхоленную руку Льва Александровича.
– Давненько не видались! – продолжал тот. – Ну что, приехали? Что твой барин, здоров?
– Здоров, батюшка, Бог милует! Должно полагать, к вам сейчас будут. А я вперед, да тихонько – кое о чем поговорить надо.
– Что такое, что такое? Послушаем. Присядь вот тут.
Нарышкин отодвинул от себя ногою скамейку и указал на нее Моське.
Взволнованный карлик уселся и запищал:
– Я так теперь полагаю, что после кончины Бориса Григорьича…
Он перекрестился.
Перекрестился и Нарышкин; веселая улыбка, не покидавшая все время его лицо, вдруг исчезла.
– Да, – перебил он карлика, – грустно мне это было! Ты знаешь. Моська, любил я твоего барина, жили мы с ним душа в душу, – чай, помнишь то время!?
У Моськи запершило в горле, все лицо закраснелось, и на глазах показались слезы. Он вынул из кармана платок и быстро отер их.
– Ох! Как не помнить золотого времечка, каждый денек помню, благодетель! Все веселости ваши с покойничком, шутки разные – все помню!..
– Ну, так что, что же? Что хотел сказать? – перебил Нарышкин.
– Да, батюшка, так вот я и говорю, что после кончины-то Бориса Григорьевича я не иначе полагаю, что вы, ваше высокопревосходительство, заместо отца Сергею Борисычу… Вот и вызвали вы их сюда, и своим покровом не оставите…
– Конечно, в память покойника все готов для его сына. Да и Сережу люблю, не раз ведь бывал в Горбатовском, знаю его – славный мальчик.
– Ох! Золотое дитя, золотое! Да боязно мне, совсем ничего не знает, как жить-то надо. И опять-таки француз…
– Какой француз?
– А Рено, воспитатель ихний!
– Ах, да, Рено, помню… Ну, что же француз?
– Много попортил, – таинственным шепотом произнес карлик, качая головою. – Только вы, благодетель, не сумлевайтесь, коли что вам в дите не так покажется. Затем я и прибежал упредить. Дитя золотое, а это все француз…
– Да говори толком, Моська, ничего не понимаю! Что ты мне загадки загадываешь?!
Моська приподнялся со скамейки, пугливо огляделся, встал на цыпочки и под самое ухо шепнул Нарышкину:
– В Бога учит не верить! Я с первых же дней, как завелась в Горбатовском эта басурманская крыса, понял, что неладное начинается. Чтобы не попустить чего да разузнать про все ихние разговоры да ученье, я и по-французкому выучился.
– Ты! По-французскому?! Ах, ты сморчок старый!..
Нарышкин весело засмеялся. Моська немножко засмеялся.
– Да, что же, благодетель, отчего же мне и не выучиться?! Же парль франсе, вотр екселансе, же пе ву ле пруве тут-т-а ллерь…
Услышав эту правильную французскую фразу, хоть и произнесенную совсем на русский лад, и взглянув на смешную фигуру карлика, Нарышкин так и покатился со смеху.
– Ох! Перестань, шут ты гороховый, не то камзол лопнет!
– Не до смеху мне, сударь, Лев Александрыч, – с достоинством и грустно проговорил карлик.
Нарышкин перестал смеяться.
– Так ты говоришь, в Бога учит не веровать?
– Да, и всякое такое несуразное толкует. Он все из Франции книжки выписывал. По целым часам толкуют: Вольтер, Вольтер, Руссо, опять Дидерот… Я, признаться, и книжки эти тихонько переглядывал.
– Ну, что же – и понял?
– Понял-то я не понял – прямо скажу. Мудреное что-то, а все же увидел, что в книжках тех толку мало. Нехорошо там написано… А то опять: француз болтает, будто люди все равны, вишь, – и господа, и слуги…
– Ну, а по-твоему как? – лукаво прищуриваясь, спросил Нарышкин.
– Да, что же, батюшка, известно: перед Богом мы все равны, – наставительным тоном и нисколько не смущаясь отвечал Моська. – Да, на земле-то, коли я слуга, так не равняю себя с господином. И что же бы такое было, кабы, для примера, хоть бы ваши слуги да почли себя равными с вашим высокопревосходительством, – что бы такое было? Ведь понимаю же я это!
Моська замолчал, внимательно глядя на Льва Александровича и следя за выражением его лица.
Нарышкин стал совсем серьезным и медленно произнес:
– Француз в Бога учит не веровать, и книжки… и люди равны… Ну, старый сморчок, спасибо тебе… хорошо ты сделал, что прибежал ко мне… Это все очень важно…
– Да как же не важно-то, милостивец, – ведь, коли дитя по молодости, где не надо слова того француза повторять начнет, – ведь это что же будет? Навеки погубить себя может… и неповинно, видит Бог, неповинно, потому Сергей Борисыч сущее золото, а это все француз…
– Так, так, – повторил Нарышкин и ласково потрепал по плечу Моську.
В это время у двери раздался легкий стук.
– Кто там?
– Сергей Борисыч Горбатов приехали и спрашивают, можете ли вы их принять, ваше превосходительство? – произнес за дверью камердинер.
– Просить!
– Батюшка, а я как же? – запищал Моська. – Вы уж не извольте говорить, что был у вас, а то они на меня разгневаются. Да и француз, хитер он больно, неравно догадается. Ведь он приворожил, как есть приворожил себе Сергея Борисыча.
– А ты здесь оставайся, – сказал Нарышкин, – жди меня. Только может, там людишки мои выболтали?!
– Вряд ли! Я кума Перфильича просил не сказывать.
– Ну, так и сиди тут, не шевелись, я и запру тебя, чтобы никто не видел.
Лев Александрович запер на ключ дверь, ведшую из уборной в опочивальню, и ключ положил к себе в карман.
– Сиди! Да, вот тебе и занятие – прибери-ка мне туалетный стол.
Он еще раз похлопал по плечу карлика и совсем молодым шагом поспешно вышел из уборной в другую дверь. И Моська слышал, как он запер за собою на ключ и эту дверь и вынул ключ из замка.
– Ну, слава Богу, как гора с плеч подумал Моська. – Лев Александрыч хоть и озорник и смехотвор, а царь у него в голове есть и другом был истинным Борису Григорьичу… Не выдаст он дитя, – не погубит…