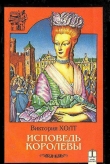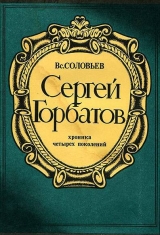
Текст книги "Сергей Горбатов"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 30 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
XXII. НЕЖДАННЫЙ ДРУГ
Танцы возобновились. Сергей принял в них участие, но был очень рассеян и едва мог заставить себя занимать танцевавших с ним дам неизбежными разговорами. Он не замечал, что начинает с каждой минутой возбуждать к себе больше и больше внимания, а между тем на него тихомолком указывали, о нем шептались. Иначе и быть не могло: едва появился – и уже попал в придворные! Императрица так милостива к нему, беседует, сама представляет его Потемкину…
– Быстро пойдет в гору!.. – говорили про него в один голос.
Молодые люди с завистью на него поглядывали и в то же время не могли не сознаться, что он хорош собою, отлично себя держит, со всеми любезен, внимателен и скромен.
Между молодыми девушками и женщинами тоже немало было разговоров про Сергея. Они объявили его красавцем.
«И он так богат, у него говорят, такие бриллианты, каких пожалуй не найдешь и у Потемкина!..» – шептали невесты.
А молодые замужние дамы говорили другое:
«Он так молод, так свеж! У него иногда среди разговора делается вдруг такое наивное лицо, будто у ребенка… и как хорош, ах, как хорош! Только чересчур застенчив, он совсем почти не смотрит на женщин, никому не оказывает предпочтения, со всеми одинаково вежлив и холоден… Это неестественно в его годы… Или тут расчет? Очень может быть, что расчет, и даже верный. О, он, конечно, быстро пойдет в гору!..»
Но сам Сергей был крайне недоволен собою. Он не забыл своей неловкости относительно цесаревича, его тревожила мысль о дурном впечатлении, которое он, очевидно, произвел на него. Он давно уже привык время от времени думать о цесаревиче и им интересоваться. Он даже не раз решался спрашивать покойного отца своего о нем. Но отец не любил подобных вопросов.
– Что же я могу знать?! – резко отвечал он. – Когда я видел его, он был еще совсем маленький мальчик, резвый и бойкий и в то же время трусишка – темной комнаты боялся… Иной раз придет и лепечет невесть про что, про какие-то страсти, которые якобы ему чудятся… Бабы старые запугали!.. У государыни Елисаветы Петровны этих баб было видимо-невидимо. Они его нянчили – ну и запугали своими глупыми сказками… да что!..
И Борис Григорьевич, недоговорив, бывало, махнет рукой. Все лицо его вдруг вспыхнет, встанет он с места и начнет большими шагами ходить по комнате. Сергей уже боится дальше расспрашивать. Он видит, что отец рассержен и понимает, что нельзя больше касаться его старых ран, тяжелых воспоминаний.
Но он все же время от времени старался осторожно возвращаться к этому разговору.
И до Горбатовского доходили различные слухи, и в деревенской глуши передавались всякие вести о петербургской придворной жизни.
Сергей узнавал, что цесаревич, уже давным-давно совершеннолетний, не принимает почти никакого участия в делах государственных, что он совсем удален от правления. А между тем ведь он же законнейший наследник императора Петра III!.. Правление Екатерины славно, она великая женщина, но ведь все права на его стороне! Зачем же он удален, будто его совсем и нету? Или он человек без воли, без способностей?! Но нет, приезжие из Петербурга рассказывают много прекрасных черт его характера, рассказывают про его благородство, его находчивость и остроумие. Говорят, он много работает, всегда занят. А вот Рено рассказывает, что в Париже, в то время, когда цесаревич приезжал туда со своею супругою под именем Comte du Nord, он совсем пленил парижан, и его называли не иначе, как самым умным, самым милым и любезным из европейских принцев. Все говорят, что императрица его не любит, но в то же время прибавляют, что сам он относится к ней с величайшим почтением. Как же выносит он свое странное, неестественное положение, как он с ним примиряется?
Из всего того, что Сергей слышал о Павле Петровиче в течение всей своей жизни, в его воображении вырос прекрасный и вместе с тем загадочный образ, этот человек с такой странной судьбою возбуждал в нем большую симпатию, восхищение и жалость. И он крайне удивлялся тому, что все эти господа, которые рассказывают о цесаревиче, о его прекрасных качествах, решительно не придают никакого значения этим качествам, не сожалеют его. Его, очевидно, никто не любит. Да за что же? Что все это значит?
По приезде в Петербург Сергей очень желал увидеть цесаревича, но до сих пор ему этого никак не удавалось – Павел Петрович был почти невидимкой, редко показывался из своей таинственной Гатчины. И опять, спрашивая о нем, Сергей замечал, что вывод, сделанный им еще в Горбатовском, оказывается верным: цесаревича не любят, не жалеют, и главное – о нем совсем не думают, им не интересуются.
Наконец Сергею удалось его увидеть, и едва взглянув на него, он почувствовал к нему неодолимое сердечное влечение. Его некрасивость, неприятное, язвительное выражение его рта мгновенно забылись при грустном мечтательном свете синих, устало опущенных глаз. Что-то совсем особенное, необычное и вполне соответствующее тому образу, который уже создало его юное воображение, подметил Сергей в цесаревиче.
«О, это, наверно, великая, страдающая и непонятная душа!» – подумал он, чувствуя как сильнее и сильнее начинает биться его сердце.
Тут он и отвесил свой почтительный и неловкий поклон. И вот прелестная Марья Львовна пугает его немилостью, да и сам он уже подметил явные признаки раздражения, им вызванного.
Сергей забывался на несколько мгновений, охватываемый оживлением бала, но снова все вспоминал и едва удерживал свое волнение.
«Фу, какую глупость я сделал! – с отчаянием думал он. – До сих пор все шло так хорошо, все так удавалось – и нужно же было, чтобы я именно повредил себе в его глазах!..»
Он положительно страдал; он полюбил цесаревича юной восторженной любовью, полюбил, совсем его не зная, по какому-то предчувствию. Танцевать больше не хотелось и, снова надев свою маску, он бродил по залам и гостиным. Дом Нарышкина был так обширен, гостей набралось так много, что в этой быстро двигавшейся и жужжавшей, подобно пчелиному рою, толпе легко было замешаться, заблудиться, совсем затеряться, как в лесу. Среди этой толпы, где все были заняты по преимуществу собою, своими делами и своим весельем, где почти у каждого были свои маленькие или большие цели, теперь с каждым часом становилось все свободнее и привольнее. Тут можно было сколько угодно мечтать и забываться, ибо чем гуще и оживленнее толпа, тем больше в ней уединения. И многие пользовались этим заманчивым уединением среди тысячной толпы, уединением среди несмолкаемого говора, под звуки музыки, несшейся из танцевальной залы.
Для того, чтобы хоть сколько-нибудь развлечь себя и уйти от своих тревожных мыслей и недовольства собою, Сергей начинал присматриваться и прислушиваться к тому, что вокруг него делалось. И он ясно видел, как уже многие воспользовались своим уединением. Мимо него мелькали счастливые пары. Все укромные уголки, где было побольше тяжелых драпировок, широких листьев тропических растений, были заняты этими счастливыми парами. Но встречались и странные пары.
Сергей видел почтенных с виду сановников, взявшихся под руку и шепчущихся между собою горячо и страстно, подобно нежным любовникам или заговорщикам. Но, прислушиваясь к их шепоту, оказывалось, что вся любовь, весь заговор состоят только из сплетен да пересудов, из жалоб оскорбленного чиновничьего самолюбия или толков об ожидаемой служебной награде.
А вот и еще странная пара: в полном самого изящного комфорта уголке пышной гостиной, на покойном, раззолоченном кресле красуется великолепная фигура Потемкина. Рядом с ним милая пастушка, Марья Львовна. Между ними ведется оживленная беседа, они улыбаются друг другу. Князь забывает, очевидно, и свое величие, и свои годы, и свою лень; он в роли любовника, в роли влюбленного юноши. На его монументальном лице сладкая улыбка, которая делает это замечательное, величественное лицо таким странным, смешным даже. Вот он быстро склонился к соседке, ловко поймал ее ручку, прижал ее к губам своим. Пастушка замахивается на него веером, а сама смеется, сама шутит, сама от него не отходит… Странная пара!..
Идет Сергей дальше и видит, что стройный миннезингер, сверкавший бриллиантами, ведет под руку венецианку шестнадцатого века. Они оба, видимо, не замечают никого и ничего кругом себя. Эта пара проходит как раз мимо Сергея, и он слышит, явственно слышит страстный шепот миннезингера Мамонова:
– Дорогая, да скажи же… Повтори еще раз сегодня, что меня любишь… Ведь только в этом слове все мое счастье… Ведь только чтобы услышать его, я выношу терпеливо мои мучительные дни, мои бессонные ночи…
– Люблю!.. – тихо и как-то грустно отвечает венецианка.
Пара исчезает. А через несколько минут сверкающий бриллиантами миннезингер появляется в толпе уже один и бесцельно, рассеянно бродит, опустив голову.
Толпа неустанно движется, ежеминутно меняясь, мелькая своею пестротою. Становится душно, даже туман стоит в высоких залах, заволакивая легкой мглой сверкание бесчисленных люстр и кенкетов.
Сам не зная как, Сергей очутился в тихом уголке, за раскидистой пальмой. Он устал и с радостью заметил низенький диванчик. Здесь так хорошо можно отдохнуть несколько минут, отдохнуть невидимкой, под жужжанье толпы, под далекие звуки веселого мотива…
И он забылся. Но вот близкие и явственные голоса, раздавшиеся где-то почти у самого его уха, за широкими листьями пальмы, заставили его очнуться.
– Дуришь, брат Сашура, дуришь! – говорил один голос. – И нехорошо дуришь – опомнишься, да поздно будет… Так лучше вовремя подумай, что затеваешь, глупый человек!..
– Я не понимаю, князь, о чем вы? – отвечал другой голос, и смущение, и тоска послышались в словах этих.
– Не понимаешь?! Прикидываешься… Так я скажу и прямо. Ну, к чему это «маханье» с Щербатовой?.. Коли я заметил, то и другие могут заметить. Да ты, по видимости, даже и скрываться-то не намерен… Опомнись!
Ответа не было, и голос продолжал:
– А ведь я считал тебя благоразумным, я на тебя полагался… А ты словно малый ребенок… Да коли тебя уж так бес смущает, так ты бы это умненько… Мало ли как… Ну, нашел бы что-нибудь подходящее… Не на глазах у всех…
– Ах, да чего вы меня мучаете!.. Тошно мне – вот что!..
– Тошно!.. Кислятина ты, брат Сашура, и ничего больше!.. Ну и пропадай, коли охота, я предостерег, а там уж не мое дело… Другие найдутся поумнее тебя… Дурить-то не станут. Одного такого я, кажется, сегодня уж видел.
– Кого?!
– Кого! Сам приглядись, может и узнаешь. Мне представлен и даже открытие сделано: умен, образован и душа чистая…
Яркая краска залила щеки Сергея. Но голос уже смолк… Потемкин с миннезингером проходили в следующую гостиную и встречные почтительно давали им дорогу.
– А я тебя повсюду ищу!.. Пойдем, цесаревич желает тебя видеть…
Это говорил Нарышкин.
«Цесаревич!» Сергей сразу позабыл странный разговор, сейчас слышанный, позабыл все и почти с остановившимся сердцем поспешил за Львом Александровичем, который провел его в одну из дальних внутренних комнат.
Это был небольшой кабинет. В покойном кресле у стола, на котором горели две свечки, слабо озарявшие комнату, и стояла ваза с фруктами, сидел Павел, облокотясь одной рукой на стол и поддерживая ею свою голову, а другою отрывая ягоды от крупной кисти винограда; он медленно клал их в рот, высасывал и бросал на серебряное блюдечко.
В комнате больше никого не было.
Когда Нарышкин представил Сергея, Павел остановил на нем свои внимательные глаза, но, будто забывшись, несколько мгновений не говорил ни слова и продолжал высасывать виноград.
Сергей стоял совсем смущенный, не зная, чем все это кончится.
Наконец Павел слабо улыбнулся и кивнул Нарышкину.
– Благодарю вас, Лев Александрыч, не стесняйтесь, пожалуйста… я вас не задерживаю – ведь у вас сегодня хлопот немало.
– Да, уж извините, ваше высочество, одно дело сделал, а сотни других ждут.
С этими словами Нарышкин скрылся.
Сергей остался наедине с цесаревичем, а тот все еще не говорил ни слова и все внимательно и загадочно смотрел на него. Сергей не мог дольше выносить этого взгляда, он чувствовал себя как во время пытки.
«Зачем он меня мучает? Зачем казнит?»
Еще несколько мгновений – и он заговорил бы первый и опять не как дипломат, а как милый и искренний мальчик. Конечно, он насказал бы много лишнего, он объяснился бы в любви перед строгим мучителем.
Но Павел предупредил его. Он вдруг взял его руку.
– Садитесь, сударь, – сказал он, указывая ему на стул рядом с собою. – Знаете ли, сударь, что вы успели, еще не познакомясь со мною, рассердить меня своим неуместным поклоном во время танца?..
– Знаю, ваше высочество, – ответил Сергей дрогнувшим от волнения голосом, – и понял всю вину мою, но тогда уже было поздно ее исправить. Я сам не знаю, как дозволил себе такую бестактность, но я не мог тогда рассуждать, я так давно ждал счастья увидеть ваше высочество… моя голова сама собою склонилась перед вами…
Павел закусил губы, ноздри его раздулись.
– Так недавно здесь и уже научился льстить!.. Слишком рано и стыдно, сударь!..
– Льстить! – отчаянно повторил Сергей, внезапно бледнея.
Слезы показались на глазах его.
Павел взглянул, и вдруг все лицо его мгновенно преобразилось. Глаза засветились добротою, на губах мелькнула улыбка. Он опять взял Сергея за руку.
– Простите… ошибся… спасибо!
– Ваше высочество, вы простите меня и забудьте мою неловкость!
– Я даже рад тому! Вы заставили вас заметить, я пожелал узнать кто вы, а узнав, захотел с вами познакомиться… Знаете ли, сударь, что вы мне не чужой?
Сергей изумленно и в тоже время радостно глядел на цесаревича.
– Да, не чужой… сын Бориса Григорьевича Горбатова не может мне быть чужим. Я хорошо помню вашего отца, хотя и был тогда ребенком… и мне ли его не помнить, одного из немногих и самых верных друзей и слуг отца моего! Я всех помню, всех… и все! Я не раз хотел написать Борису Григорьевичу, и только многие серьезные причины лишали меня этого удовольствия. Но я постоянно справлялся и узнавал о нем… Мне горько было услышать весть об его кончине. Я сказал вам все это для того, чтобы вы поняли, что всегда и во всем можете на меня рассчитывать… Я вам не чужой, слышите!.. Я не забываю…
Голос Павла оборвался, глаза подернулись слезами, он провел рукою по лбу, будто отгоняя тяжелые мысли.
Сергей вскочил в невольном горячем порыве, склонился к ногам его, поймал его руку и жарко прижал к ней свои губы. Цесаревич его поднял, и, обняв, усадил опять рядом с собою.
Он стал расспрашивать его об отце, о нем самом, о его воспитании. Минуты проходили. Слушая Сергея, Павел сидел, задумчиво опустив голову.
– Жаль, что ты приехал сюда, мой друг! – наконец, сказал он, оставляя «вы» и «сударь» и начиная говорить ему «ты». – Поверь, что там, в деревне, ты был бы здоровее и телом, и духом… Здесь воздух скверный, здесь отрава! Но делать нечего… да избавит тебя Бог от здешней отравы – может, и не заразишься. Хотел бы я побольше поговорить с тобою, поближе познакомиться… Приезжай ко мне в Гатчину, только не говори о том никому, выбери день свободный и приезжай тихонько… Не изумляйся, я знаю, что говорю – и говорю для твоей же пользы. Тихонько приезжай, но приезжай непременно… когда хочешь, всегда рад тебя видеть… до свиданья!..
Сергей вышел из кабинета будто окрыленный; широкое счастливое чувство наполняло его. Не обмануло его воображение, оно рисовало ему цесаревича таким, каким он оказался в действительности. Да, он всегда знал и чувствовал, что он именно такой… другим он и быть не мог.
Но все же прежняя загадка оставалась нерешенной. Все та же таинственность и непонятность окружали благородный образ цесаревича, и та же мучительная жалость к нему, только еще с большей силой, сжала сердце Сергея.
Полный мыслей о нем, об этом новом нежданном друге, он вышел в залы и почти столкнулся с императрицей. Она собиралась уезжать. Заметив Сергея, она приветствовала его улыбкой.
– О, как раскраснелся! Совсем затанцевался… А много любезностей наговорил? Я, чаю, и счесть невозможно.
Она глядела на его пылавшее лицо и сиявшие глаза внимательно и с видимым удовольствием. Он невольно опустил веки перед этим взглядом.
Императрица прошла, любезно кланяясь на все стороны.
Кругом пронесся едва слышный шепот. Сергей чувствовал себя предметом всеобщего внимания. Он пробрался к выходу из танцевальной залы и поспешил домой, полный новых ощущений.
XXIII. ЗАТИШЬЕ
В эти последние годы Петербург уже совсем превратился в красивый европейский город. На широких его улицах, еще недавно обнесенных пустырями, садами и огородами, теперь возвышались высокие обширные дома разбогатевших русских и иностранных торговцев. Рядом с этими домами высились дворцы вельмож, поражавшие своим великолепием.
Народонаселение возрастало с каждым годом. Кипела разнообразная, живая торговля, множество иностранцев прибывало постоянно. В центральных улицах весь день и большую часть ночи кипела жизнь.
Был другой город, в котором народу насчитывалось несравненно больше, чем в Петербурге, в котором движение было непрестанно, неостановочно в течение нескольких столетий. Но уроженцы этого города – Москвы, приезжая в Петербург, сразу замечали, что здесь совсем иной характер движения. Москва – муравейник, там кипит трудовая жизнь, там черный люд работает всю черную работу. И из-за этой работы не видно бесцельного движения праздного, развлекающегося, веселящегося люда. Роскошные экипажи богачей-бар, проезжая по бесчисленным переулкам и закоулкам, поднимаясь с горки на горку, исчезают среди обозов, нагруженных всевозможными припасами; нарядные фигуры пропадают среди черной толпы. Только в праздничные дни изменяется вид города: народ отдыхает и празднует, по-своему веселится. И опять-таки в этом народном веселье и праздновании поглощается барское веселье. Москва – город русского народа, и народ здесь является во всей своей черноте и в своей красоте, и в своем безобразии, со всеми особенностями своих нравов и своего быта.
Петербург совсем не то. Москвичи чувствуют себя здесь иностранцами. Образ русского народа, образ крестьянина, торговца, мастерового сливается с образом другого крестьянина, другого торговца и мастерового – немца, чухонца и, сливаясь с ним, теряет мало-помалу свои коренные особенности. Но и человек из русского народа, и немец, и чухонец – все они здесь мелькают только время от времени, робко и прячась, и скрываясь за другим образом. Петербург – придворный город, город чиновной знати, праздных богачей, приезжих иностранцев. Это город веселья и роскоши. Веселье и роскошь водились в нем и прежде, почти с самого его основания, но в предыдущие царствования это все же была не та роскошь, не то веселье, которые завела великая Екатерина.
Теперь Петербург превратился в настоящую столицу. Когда ни выйти на Невский проспект и прилегающие к нему улицы, всегда там шумно и людно. Только по утрам затишье, но едва настанет полдень – и уж со всех сторон одна за другою мчатся нарядные кареты. Чиновные лица, весело проведшие добрую половину ночи, поздно проснувшись, позавтракав и неспешно одевшись, отправляются к должностям своим. Исключение составляют только те, кто обязан явиться с ранним докладом к государыне, эти поневоле должны проснуться в восемь часов, хоть иногда пришлось поспать каких-нибудь часа три-четыре после веселого бала или иной пирушки.
Прошли и проехали чиновники и сановники, и опять одна за другою мчатся кареты. В пух и прах разряженные модницы, со всевозможными кораблями и башнями на головах, с форейторами и ливрейными лакеями спешат делать визиты. А то и так разъезжают по самым людным улицам, выглядывая из окон карет или красуясь в колясках, выставляя себя на удивление и восторг толпе блестящей молодежи, которая в экипажах и пешком снует взад и вперед по улицам. Светские франты в самых изящных кафтанах, зачастую выписанных прямо из Парижа, гвардейские офицеры в разнообразных, неимоверно дорогостоящих мундирах; по целым часам они прогуливаются по тротуарам, то катаются тоже с визитами, то заседают в ресторанах.
И ведь все они служат государству, у каждого, судя по должностям их, должны же быть дела. Наивные провинциалы только изумляются: когда это они все поспевают!
Приходит вечер, и у Петербурга новые удовольствия: балы, всевозможные вечера, маскарады, пикники, театр. Ночь превращается в день, только с той разницей, что жизнь среди ночи еще деятельнее, еще разнообразнее.
Весело и привольно живется Петербургу; императрица никого не стесняет и, ежедневно катаясь по улицам, с удовольствием замечает, как обстраивается ее столица, как все богато, весело, оживленно. Большая разница между тем временем, когда она только что приехала в Россию: тогда еще Петербургом и жизнью его общества трудно было похвастаться перед европейцами. Ну, а теперь пусть приезжает кто угодно, русское общество в грязь себя не уронит, русский двор и русская знать выдержит сравнение с самыми роскошными дворами Европы и с европейской знатью.
Мнение о России быстро возрастает, хотя Россию почти не знает никто, хотя ее не совсем знает и сама императрица, несмотря на то, что еще так недавно сделала по ней огромное путешествие. Она хотела все увидеть, во всем убедиться собственными глазами. Но это оказалось невозможным. Она могла увидеть вещи, которые ее сильно бы опечалили. А близкие ей люди, конечно, не могли допустить, чтобы государыня была опечалена.
Ее путешествие было нескончаемым рядом удовольствий и разнообразных сюрпризов. Все города и местечки, через которые она проезжала, вдруг изменили вид свой, нарядились, обчистились, даже как будто обстроились, хотя это были только временные, декоративные постройки. Народ русский, радостно встречавший царицу, имел такой сытый, здоровый вид. Мужики и бабы, парни и девки, и ребятишки были одеты не только что в крепкие, но даже и живописные костюмы. И чем дальше двигался веселый, торжественный проезд Фелицы, тем больше и больше встречалось чудес.
Государыня ожидала видеть пустые печальные пространства, но при ее приближении эти пространства превращались в живописные оазисы. С обеих сторон дороги, то здесь, то там, являлись прелестные картинки, и невозможно было издали заметить, что это опять-таки только декорации, что их вчера еще не было и завтра опять не будет.
Из всех приближенных только один Лев Александрович Нарышкин иногда расстраивал остроумно придуманные сюрпризы и открывал императрице глаза на действительно существующее, на некоторые печальные стороны русской жизни. Но и он не заходил далеко, и он боялся ее чересчур тревожить, да и не хотел, вероятно, уж слишком сердить сильных людей.
Так и вернулась Екатерина в свой милый Петербург, составив себе не совсем верное понятие о виденной ею России.
Да, весело, пышно и привольно жилось в Петербурге, и многие из посещавших его не знали, что недалеко от него есть такое местечко, где, по-видимому, должно было так же весело, привольно и пышно житься, но где между тем было совсем иное. Это местечко называлось Гатчина, это была резиденция великого князя-цесаревича. Небольшая мыза с дворцом, прежде принадлежавшая Григорию Орлову, Гатчина после его смерти снова была куплена Екатериной и подарена ею Павлу Петровичу. Мыза теперь превратилась в городок, но городок совсем особенный, со своею собственной и оригинальной жизнью…
Уже начавшее по-весеннему греть солнце только что взошло, освещая своими косыми лучами гатчинскую дорогу. В морозном утреннем воздухе стоял туман; но он рассеивался мало-помалу, и то там, то здесь по сторонам дороги обрисовывались деревушки, полоски лесов, то уходившие почти к самому горизонту, то приближавшиеся, вырастая, почти к самой дороге.
По направлению к Гатчине быстро мчалась карета на полозьях, запряженная целым шестериком добрых коней. Серей Горбатов, по желанию цесаревича, спешил представиться ему в его резиденции. Он выбрал для этого первый свободный день и выехал еще до света, никому не сказавшись, приказав прислуге всем объявлять, что он нездоров и никого не принимает.
Удобная и прочная карета то и дело подскакивала на сугробах и ухабах. Уже почти половина пути была окончена, а между тем никто не встретился. На ямском дворе, где пришлось остановиться, было все чисто, опрятно, но бедно. Сергей тут оставил своих лошадей до вечера, и уж ямщицкие лошади должны были довезти его в Гатчину; свои чересчур устали – ведь более восьмидесяти верст туда и обратно.
– Ну уж и дорожка же у вас! – говорил Сергей старому ямщику-хозяину, почтительно, без шапки, стоявшему у окна его кареты. – Разбирать-то пути некогда – спешу, ну, а ухабы такие, что ажно колотья сделались.
– Да что дорожка, ваше сиятельство, – отвечал ямщик, – такие ли бывают! Оно точно – поправлять некому, иными местами и сугробы, ноне зима была снежная, метели тоже, только дорожку нашу за что же хаять – это вам, сударь, с непривычки после Питера показалось. Вон великая княгиня-голубушка, та никои не жалуется, да и великий князь тоже… а уж езда-то их, езда!.. Коня, как доедут до двора, смотреть жаль…
– Ну, до разорения-то великий князь, чай, не допустили?
– Да и мало ли их и совсем пропало! – вмешался другой ямщик, стоявший в стороне. – Просто разорение с этой ездою!
Старый ямщик почесал затылок и улыбнулся.
– Оно точно, ваше сиятельство, – проговорил он. – Да кабы и так, по недостатку, в долгу он у меня остался, так я это за честь себе почту, последнюю лошадь отдам и не пожалею. А это он зря болтает, – прибавил он, показывая на другого ямщика, – его нечего слушать. Кому же и угодить, как не нашему великому князю. Одно его ласковое да простое слово коня стоит…
Лошади были готовы. Сергей щедро заплатил ямщикам. И опять началась безумно скорая езда по ухабам, от которых Сергея бросало из угла в угол кареты.
Вот и Гатчина. Кони на всем ходу вдруг остановились у шлагбаума.
– Кто такие? За каким делом?
Сергей отвечал, что к великому князю, которому известно о его приезде.
Шлагбаум поднялся, карета въехала в городок, но уже на козлах рядом с ямщиком сидел гатчинский солдат. У плаца карета остановилась снова. Солдат слез с козел и опрометью кинулся к небольшому домику, перед дверью которого стоял часовой.
– Ну что же ты? Пошел! – крикнул Сергей ямщику. – Я чаю, ведь знаешь, куда тут!
– А вот, что солдат скажет, – тихонько проговорил ямщик. – Тут, ваше сиятельство, своя поведенция, тут строго… ухо востро держать надо, не то как раз в солдатские лапы попадешься и не разделаешься.
Сергей выглянул из окна кареты. Перед ним обширный плац, в глубине которого полукругом возвышается здание дворца. На плацу большое движение. Солдаты в полной форме, офицеры командуют; производится обычное утреннее ученье.
Наконец, к карете подошел молодой офицер и, подробно расспросив Сергея, сказал ему:
– В таком случае, сударь, попрошу вас выйти, дальше карете никак нельзя проехать. Потрудитесь следовать за мною, я провожу вас.
Сергей вышел. Огибая плац вдоль стены дворца, они добрались до среднего подъезда, у которого опять стояли часовые, тотчас же скрестившие штыки перед ними. Но по слову офицера солдаты разомкнули штыки, вытянулись в струну, пропуская входивших.
Сергей огляделся. Он был в небольшой, довольно низенькой комнате в два окна. Убранство этой приемной было самое простое. В углу большая голландская печка; на выкрашенных желтой краской стенах три темные картины с мифологическим сюжетом; между окон зеркальце, овальный стол красного дерева; простые, такого же дерева, стулья вдоль стен; посреди комнаты с потолка спускался большой стеклянный фонарь, на окнах белые гладкие шторы.
Эта комнатка напомнила Сергею столовые в деревенских домах помещиков средней руки и никак не была похожа на дворцовую приемную.
Но едва Сергей успел заметить эту непривычную для него простоту, как внутренняя дверь приемной отворилась и вошел человек уже не первой молодости, с красивым лицом и блестящими черными глазами. Он был одет очень просто; но его темный суконный кафтан был тщательно вычищен; манишка и манжеты сверкали белизною, парик был особенно искусно причесан. Он ловко и любезно поклонился Сергею и приятным голосом спросил:
– С господином Сергеем Борисычем Горбатовым имею честь говорить?
Сергей в свою очередь поклонился.
– Цесаревичу доложено. Они теперь заняты, но очень скоро освободятся. Хорошо сделали, сударь, что пожаловали: цесаревич все дожидается вас и не далее как вчера изволил мне говорить о том, что вы долго не едете.
– С кем имею удовольствие? – спросил Сергей, замечая по тону слов этого господина и вообще по некоторым, хотя неуловимым, но все же ясным признакам, что он имеет дело с одним из самых приближенных к цесаревичу лиц.
– Иван Павлов Кутайсов, – улыбаясь ответил черноглазый господин. – Прошу любить да жаловать. А коли желаете знать, какова моя должность и что я есть за птица, то уж не умею как и сказать вам, сударь. Я и побрить великого князя, и посудить с ним о том, о другом, я и сложить голову за него, коли пришлось бы, ибо всем, как есть всем, ему обязан.
Он замолчал и пытливо своими черными блестящими глазами глядел на Сергея.
Но Сергей был приготовлен. Странные слова господина Кутайсова и определение им его обязанности при великом князе были ему не новостью. Он уже слышал в Петербурге об этом пленном турчонке, об этом ловком брадобрее Павла Петровича, который с помощью бритвы, приятных манер и большого такта умел, оставаясь цирюльником, превратиться в одно из самых влиятельных лиц в Гатчине.
– Очень рад познакомиться с вами! – добродушно и искренне сказал Сергей, крепко пожимая Кутайсову руку.
У того все лицо просветлело, он улыбнулся, показывая свои прекрасные зубы и заговорил:
– Хорошо сделали, сударь, что пожаловали, и смею надеяться, что дурного от нас не увидите; веселость у нас после Питера встретить трудно; но доброму гостю рады душою, а на простоте нашей не взыщите… Да что мы тут… пожалуйте-ка, сударь, я вас проведу поближе к цесаревичу, как он освободится, так сейчас к вам и выйдет – пожалуйте.
Он предупредительно отворил дверь и ввел Сергея в следующую комнату, несколько обширнее первой, но так же просто меблированную.
– Это вот у нас неприятная комната, – смеясь, сказал он, – ее наши господа офицеры не очень-то долюбливают, тут их цесаревич иногда ух как распекает!.. Вот и дверцы в коридорчик, а за ним и гауптвахта. Из этой комнаты туда как есть самый прямой путь… Так-то, сударь, вот как у нас. Но комнатка сия не для вас… сюда теперь пожалуйте.
Он опять отворил дверь, и они вошли в третью, совсем уже маленькую комнатку, уставленную белыми стульями, крытыми красным с пестрыми разводами штофом.