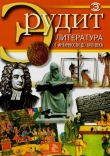Текст книги "Жених царевны"
Автор книги: Всеволод Соловьев
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 17 страниц)
Всеволод Сергеевич Соловьев
Жених царевны
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ
I
Ранний зимний вечер уже давно наступил, и в царицыном тереме по всем покоям и переходам зажглись огни. Мама царевны Ирины Михайловны,[1]1
Мама царевны Ирины Михайловны… – По обычаю того времени, при рождении младенца в царской семье для него выбиралась кормилица, а также назначались мамы и дядьки, следившие за воспитанием ребенка в первые годы жизни. Романова, Ирина Михайловна (1627–1679), царевна, старшая дочь царя Михаила Федоровича.
[Закрыть] княгиня Марья Ивановна Хованская, сидела у себя в опочивальне. Она только что пришла от царицы после долгой и весьма важной беседы и теперь крепко пораздумалась. На некрасивом и уже давно поблекшем лице ее, освещенном, однако, большими и добрыми голубыми глазами, читалось необычайное смущение.
Женщина она была спокойная, рассудительная, ко всему. Что творилось вокруг нее в этом обширном человеческом муравейнике, носившем название царского терема, она относилась всегда без волнения и редко что принимала к сердцу. Но сегодняшняя беседа с царицей Евдокией Лукьяновной выходила из ряда вон. Было над чем подумать и чем смутиться.
Княгиня временами начинала даже шептать что-то почти вслух, с недоумением качала головою и разводила руками. Низенькая дубовая дверь опочивальни скрипнула.
– Кто там? – очнувшись, спросила Марья Ивановна.
– Это я, матушка-княгинюшка… Дозволишь войти на малую минутку али недосуг тебе? – послышался знакомый голос.
– Войди, ничего, войди, Настасья Максимовна! – сказала княгиня.
Дверь отворилась и пропустила небольшую, плотную еще не старую женщину. Это была одна из царицыных постельниц, пользовавшаяся, несмотря на свой не слишком важный чин и всем ведомое худородство, большим значением и влиянием в тереме.
– Что скажешь, матушка?… Присядь-ка! – указала княгиня рядом с собою на низенькую скамью, покрытую мягким стеганым тюфячком.
– Спасибо, княгинюшка, рассаживаться недосуг – где уж тут, дел-то с этими негодными людишками полон рот, от заутрени до заутрени не справиться… Я всего на одно слово зашла…
– Что такое, Настасья Максимовна, али по терему неладно?
– Да все Машутка, то есть вот никакого, никакого с ней сладу… Моченьки моей нету с этой девчонкой! – проговорила Настасья Максимовна с таким негодованием, какого даже нельзя было и ожидать от ее дышавшей добродушием фигуры.
– Что же такое еще натворила твоя Машутка? Разбила али попортила что-нибудь царевнино? – с недовольной улыбкой спросила княгиня.
– Какое там разбила! Этим стала бы я тебя тревожить! Не мое дело ее черепки считать… Во сто крат хуже, княгинюшка!.. Ты ведь от царицы… запершись с нею была… о деле каком, видно, толковали… Вот вхожу я в Царицыну опочивальню, нынче-то мой наряд, да как вошла, вижу: занавеси-то будто и шевелятся. Кошка, думаю, забралась, – ну как, не ровен час, да государыню-то ночью напугает! Тихим шагом я к занавеске, ан глядь, то не кошка, а Машутка-негодница притаилась. Я ее за ухо и вытащила. Ты что это, мол, дрянь девчонка, говорю, как это ты сюда забралась, что это ты, говорю, за государыней подслушиваешь? Да тебя за такие дела убить, говорю, мало! А она-то: глядит на меня своими бесстыжими глазищами и хоть бы сморгнула. Воля твоя, говорит, убей ты меня, Настасья Максимовна, а подслушивать у меня и в мыслях не было, да ничего и не слыхала. Как сюда, говорит, забежала, сама не ведаю – дверьми обозналась. Вижу, говорит, государынина опочивальня, дух у меня захватило со страху, а тут дверь скрип, я и за занавеску… Ведь вишь, что выдумала!.. И не сморгнет Я ее держу за ухо, крепко держу, а она во все глаза на меня, ровно истукан какой… Ну, сама посуди, княгинюшка, ну что ж с этим зельем теперь делать?!
Княгиня задумалась.
– А может, девчонка и не врет, – сказала она, – бес в ней сидит, это верно, ровно коза она скачет, ровно волчок вертится… Может, и точно, забежала зря в опочивальню да о страху, как ты вошла, за занавеску и спряталась… мудреного тут нет…
Настасья Максимовна вся так и побагровела.
– Ну… и ты, княгинюшка, вместе с царевной ее покрываешь! – воскликнула она, разводя руками.
– Не покрываю, а ведь что же… не убивать же ее, сиротинку! Ну, накажи ее как знаешь…
– Что мне ее наказывать, ухо-то у нее я крепко подержала, а только сил с нею нету, от рук она отбилась; как что, сейчас к царевне, а та за нее горой… Но только, ежели я на таком подслушивании ее накрыла, могу ли я умолчать перед тобою? Должна я о том тебе доложить али нет?
– Вестимо, как не сказать… Ну вот я Машутку и поспрошаю… там видно будет…
– Да только ты не верь ей, княгинюшка, не верь ни единому ее слову… вся она изолгалась, и стыда в ней нету ни на волос!
– Теперь-то где ж она?
– Где, как не у царевны.
– Так вот я и пойду.
У княгини мелькнуло в мысли: «А ну, коли и впрямь Машутка подслушала да Иринушке передала!.. Не дай Бог!» Встревоженная этой мыслью, царевнина мама поднялась со скамьи и быстро вышла из опочивальни.
II
Княгиня Марья Ивановна как можно тише подошла к покою царевны, постаралась как можно неслышнее отворить дверь и заглянуть так, чтобы ее появление не сразу заметили. Однако, несмотря на это, она не увидела и не услышала решительно ничего подозрительного. Царевна Ирина сидела за большими пяльцами и при свете двух толстых восковых свечей была, по-видимому, прилежно занята рукоделием. Возле нее в почтительной и скромной позе стояла стройная девочка лет пятнадцати. Увидев входившую княгиню, эта девочка еще больше опустила глаза, и все несколько бледное, хотя хорошенькое, лицо ее сложилось в очень жалкую мину. Княгиня прямо подошла к девочке:
– Ты чего это здесь? Что делаешь?
Та подняла на нее большие темно-серые глаза, в которых читались не только робость, но и настоящий страх. Но за нее ответила царевна:
– Это я, матушка, позвала ее, учу рукоделию. Я работаю, а она смотрит, перенимает.
– Нечего сказать, много переймет, хороша рукодельница! Да и ты, царевна, что за мастерица! Ежели девчонке и впрямь рукодельничать охота, так пускай у мастериц и обучается. Избаловала ты совсем Машутку, со всех сторон только жалобы на нее и слышу.
Девочка опять опустила глаза и так и застыла совершенным олицетворением скромности и испуга. Между тем княгиня продолжала:
– Ну да не о рукоделиях теперь! А вот ты скажи-ка мне, Машутка, была ты эдак с полчаса тому времени в государыниной опочивальне?
Девочка вскинула было глаза на княгиню, но опять опустила их и молчала.
– Что ж, язык у тебя есть, отвечай, коли спрашивают!..
Девочка едва слышно ответила:
– Была…
– А! Была!.. Как же ты смела?… Каким путем туда попала?!
– Не знаю… – скорее вздохнула, чем сказала, девочка.
– Как – не знаю! Как ты смеешь мне так отвечать? Кто же знает? – крикнула княгиня.
Но тут царевна пришла на помощь своей любимице.
– Мамушка, да не запугивай ты ее, – произнесла она милым, ласкающим голосом, поднимаясь с места, и, подойдя к княгине, обняла ее. – Уж она мне в своей вине повинилась… Ну, что же ей и отвечать-то, коли и впрямь не знает, как она забежала?! Это и со мной ведь по сю пору случается, разыграешься, бежишь, словно на крыльях летишь, словно несет кто тебя, и двери будто сами собою перед тобою отворяются. Ну, вот и забежала, перепугалась. Уж ты не казни ее, не брани, она не нарочно и впредь такого не сделает…
Говоря это, царевна прижалась своей нежной горячей щечкой к дряблой, покрытой белилами щеке княгини.
– Заступница, баловница! – произнесла та с полупечальной улыбкой и тихонько отстраняясь. – А у двери за занавеской зачем была? – обратилась она к девочке. Та теперь уже не стояла с опущенными глазами, а глядела ими прямо в глаза княгини, глядела пристальным, смущающим взглядом, в котором ничего нельзя было разобрать и который так раздражал Настасью Максимовну.
– За занавеской-то зачем? – произнесла она, и голос ее уже дрожал от страха. – Не то что за занавеску, а и под кровать, куда попало спрячешься от Настасьи Максимовны, ведь она ухо-то мне как! – закончила она, поднося руку к своему красному и даже несколько припухшему уху.
– Ухо-то посмотри, мамушка, ведь это что же такое, ведь этак Настасья Максимовна ей когда-нибудь совсем оторвет уши! – сказала царевна. – Ведь не впервые это, так как же тут не прятаться от нее?
– Настасья Максимовна женщина не злая, даром драть за уши не станет, – строго сказала княгиня. – Ну и что же, долго ты, Машутка, за занавеской стояла?
– Какой же долго, когда она вслед за мной пришла. Как вбежала я, не успела опомниться, слышу – шаги, а шаги ее я всегда за три покоя узнаю, огляделась – куда мне, вижу – занавеска, я и шмыг. Притаилась. А она так прямо и идет на меня, занавеску-то отдернула, а меня за ухо и вывела, – медленно, с небольшой запинкой, но уже без особой робости объясняла Машутка и все продолжала, не мигая, прямо смотреть в глаза княгини, так что той стало неловко от этого взгляда. Неловко, и в то же время все ее сердце, вся ее раздраженность быстро утихали, может быть, под влиянием этого же взгляда. Ведь это она первая обратила внимание на бойкую, смышленую девочку-сиротку. Она приставила ее для мелких услуг к своей царевне и до сих пор, несмотря на все Машуткины провинности и частые нанее жалобы, миловала ее и жалела.
Что же теперь с ней делать? Докладывать государыне о том, что постельница поймала ее в опочивальне у двери, где она подслушивала? Плохо придется Машутке, ведь за такое дело, ведь за подслушивание слов государыниных ее надо не только выгнать навсегда из терема, но придется сослать куда-нибудь подальше, в какой ни на есть строгий женский монастырь… и конец там Машутке на веки вечные!
А может, она и без вины виновата, может, и впрямь все так, как она объясняет?!. На то похоже. Ведь кабы долго она там была, притулившись у двери, кабы могла подслушать всю беседу, то, конечно, успела бы уже передать о ней царевне, и в таком разе сейчас, вслед за таким известием, разве Иринушка могла бы быть спокойной?! А вот она спокойна. Как ни всматривается в свою воспитанницу княгиня Марья Ивановна, ничего не замечает в ней особенного. Нет, решительно все так и было, как объясняет Maшутка: ничего она не подслушала, не успела. А что бегает девчонка ровно белены объелась – так этому предел положить надо. Да авось теперь уймется. Ишь, ухо-то! Раздуло его… И впрямь ручки у Настасьи Максимовны не бархатные…
Княгиня сделала строгое, серьезное лицо и обратилась к провинившейся:
– Слушай ты меня, озорница! – насколько могла суровым голосом объявила она. – Выдрали тебя за ухо, да мало, ну уж Бог с тобою, по глупости твоей на сей раз еще вина тебе прощается, не доложу я о ней государыне, пощажу я тебя. Только слушай ты меня и на носу у себя заруби: коли ежели еще раз что-нибудь такое случится – кончено, только и жизни твоей! В тот же день, слышь, – в тот же час тебя здесь не будет, и куда тебя увезут, и куда тебя денут, про то никто даже и не узнает… не ты первая, не ты последняя, чай, сама понимать можешь, не малолеток ведь уж, что за такое депо бывает…
Царевна улыбалась. Машутка тихонько подошла, склонилась, поймала и поцеловала руку княгине.
– Смотри ты у меня, смотри! – погрозила та, сердито отдергивая руку. А сама думала: «Сиротинка ведь, без отца, без матери, не будь меня, заклевали бы ее, давно бы заклевали, так что и званья не осталось бы на белом свете». И княгине вдруг стало не то жаль девочки, не то приятно, что жизнь этой девочки и ее счастье – ее, княгининых, рук дело.
– Не прохлаждайся ты тут, и ты, царевна, не балуй ее через меру.
– Чем же я ее балую? – отозвалась царевна. – Посмотри-ка вот, мамушка, хорошо вот эти цветики вышли?
Она отшпилила платок, прикрывавший часть работы, и показала хитро расшитые шелками и бисером фантастические травы.
– Уж на что лучше, красота! – разглядывала с видом знатока княгиня.
– Так ведь это кто вышил: не я, а Машутка. Вот от пор и до сих – это все она! – звонко смеялась царевна, в то время как девочка снова приняла свою скромную позу и только искоса, одним глазком, взглядывала то на царевну, то на княгиню.
– Ишь ты, ну что ж, ничего, коли так: всякая девица сякого звания должна быть искусна на рукоделия, настоящее это наше женское дело, истое наше художество. Так вот ты бы, Машутка, и работала побольше, а беготню эту и шалости всякие пора оставить, не такие уж твои годы!
С этими словами, вспомнив, что, наверное, кто-нибудь уже ждет ее для всяких распоряжений на следующий день, княгиня вышла от царевны.
III
В одно мгновение Маша преобразилась. Скромно опущенные глаза ее раскрылись во всю величину и загорелись бойким огоньком. Уже начавший округляться стан ее выпрямился. Бледные щеки подернулись легким румянцем. Тонкие ноздри прямого, несколько коротенького, задорного носика расширились, будто у зверька, желающего удостовериться чутьем – насколько удалилась грозившая опасность.
Но своему чутью, своим тонким ноздрям Маша, очевидно, не доверилась: с большою легкостью и грацией, в два-три неслышных прыжка она очутилась у двери, осторожно приотворила ее и стала прислушиваться.
– Ушла! – наконец шепнула она, оборачиваясь к царевне и тихонько притворяя за собою дверь.
Ирина, уже севшая снова за пяльцы, подняла свою хорошенькую юную головку, зарделась вся как маков цвет и вздохнула.
– Эх, Маша! – сказала она. – Грех-то какой мы с тобой затеяли! Да и оторопь берет, ведь вот ты уж и попалась, ведь мамушка не шутит: того и жди, пропадешь ты из-за меня…
Маша кинулась к царевне, припала к ее коленям и стала целовать ее руки.
– Царевна, золотая моя, ненаглядная! – восторженно говорила она, заглядывая в глаза Ирины. – Не говори так, какой тут грех, а коли и грех, не твой он, а мой… И за меня не бойся, не пропаду, не загубит меня Настасья Максимовна, вывернусь, выкручусь, кругом пальца обведу Настасью Максимовну… не на таковскую напала…
– Шустра ты больно, Машуня, много берешь на себя – опять вздохнула царевна. – Ну, да уж рассказывай, что ты проведала, о чем у двери-то услышала…
«Матушки мои, стыд-то какой, каким делом занимаюсь!» – невольно подумала царевна и совсем смутилась, но любопытство, даже нечто гораздо более серьезное, чем любопытство заставило ее забыть все упреки совести и жадно слушать.
– Сказала ведь я тебе, царевна, что узнаю всю правду, – начала Маша, – вот и узнала. Совсем уж решено это дело: выдают тебя за королевича и королевич уж на Москве, из-за моря приехал!
Ирина даже схватилась за сердце, так оно вдруг у нее застучало.
– Верно ли? Кто же это сказал? – едва слышно прошептала она.
– Государыня царица говорила, вот те Христос, своим вот этим ухом у замочной дырочки слышала, о том они с княгиней-то и толковали.
Ирина стыдливо потупилась и то бледнела, то краснела.
– Машуня, да как же это? – наконец произнесла она. – Ведь он не наш… ведь он басурман… Басурманской веры?!
– А уж этого я не знаю! – развела Маша руками. – Вот и княгиня то же говорила, все спрашивала государыню – как такое быть может, чтобы идти тебе за басурмана…
– Что же матушка-то государыня?
– Плачет она, вот что! – отрезала Маша.
– Пла-ачет?!
– Да еще как плачет-то!.. Заливается! Княгиня-то ее все утешала… Ну а потом что было, я не знаю… вошла эта Максимовна да меня за ухо и вытащила… я от нее… с ухом-то… да к тебе… едва дождалась, едва утерпела, пока боярышни ушли и мы одни остались, а тут вон… и княгиня…
Ирина сильно задумалась, и сама не знала она, что такое творится с нею: и страшно, и радостно что-то, и дух захватывает, и ничего она понять не может… Ведь уж не впервой слышит она о королевиче этом, ведь уж давно-давно, когда она была еще несмышленочком, прозвучало перед нею это непонятное, таинственное и сразу почему-то запало в сердце, почему-то испугало, почему-то смутило – и с тех пор не выходило из памяти… Вольмар-королевич!
По зимним долгим вечерам в жарко натопленном покойчике, у горячей лежанки, старушки много всяких чудных сказок рассказывали маленьким царевнам. Были в тех сказах добрые и храбрые царевичи-королевичи, были в них красные девицы-царевны, и манили те сказки в свой мир заколдованный, за тридевять земель, в тридесятые царства, и тайна благоуханным цветком раскрывающейся любви, непонятная и неведомая, все же как-то трепетно и заманчиво сказывалась детскому сердцу.
А теперь вот и наяву будто начинает твориться волшебная сказка. Из тридесятого царства, из-за моря приехал королевич… и приехал он за нею, за царевной Ириной… Посадит он ее на коня богатырского и увезет… Куда? Зачем? По какому праву?… Отчего это так нужно?!
А видно – так и нужно, видно, есть у королевича права, потому что чувствует она всем своим существом, что над нею творится что-то особенное, роковое, неизбежное, что пришла какая-то великая, могучая сила и вот-вот захватит ее и увлечет… На счастье или на горе?… Ох как бьется сердце, как душа замирает, будто земля разверзлась под ногами, и так и тянет, так вот и тянет туда, в эту отверстую бездну…
– Машуня, как же быть-то теперь?
– А так вот и быть, что я стану все, как есть все разузнавать про королевича, и как что узнаю – так в тот же час и к тебе, царевна… Матушки! Никак, опять кто-то идет… Так и есть!
Маша замолчала, опустила глаза и застыла в скромной, почтительной позе.
IV
Шила в мешке не утаишь: Машутка никому не проболталась, а на следующее утро неведомо каким образом весь терем, от боярынь до дурки Афимки, знал, что приехал из датской земли королевич и что тот королевич – жених царевны Ирины Михайловны.
Во дворце делались самые спешные приготовления приему дорогого гостя. Приготовления были веселые, весь дворцовый люд сразу оживился и как-то встряхнулся. Течение однообразной, день за днем, жизни было нарушено, явился животрепещущий интерес, ожидались самые разнообразные впечатления, зрелища, события.
Во всех углах шли разговоры и рассказы о новоприезжих, которым был отведен обширный двор в Кремле. Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольничий, думные и ближние государевы люди «в верху», в «передней»,[2]2
Стольники, дворяне, стряпчие, дьяки, стрелецкие начальники на «крыльце постельном», бояре, окольничий, думные и ближние государевы люди «в верху», в «передней»… – Каждый придворный чин пользовался своими привилегиями в царском дворце. Так, бояре, окольничий, думные и ближние люди могли находиться «в верху», то есть в жилых покоях государя. Для прочих придворных чинов это было совершенно невозможно. Им полагалось стоять на «постельном крыльце», расположенном посреди дворцовых зданий, между приемными большими палатами и жилыми теремными покоями царя.
[Закрыть] бесчисленная прислуга и стражники – все это толковало:
– А людей-то с королевичем много, целое войско…
– Что ты?!
– Верно говорю, сам видел, как во двор они въезжали… и все немцы, кургузые, на голове перья болтаются, во всяком оружии, с мечами, ножами и пищалями…
– Ишь ты! Ну, а сам королевич-то каков?
– Да нешто ты не видал его в третьем году-то, как он приезжал с посольством?
– То-то что не привелось… Да полно, тот ли это самый королевич?
– А то какой же, вестимо, тот самый; тогда наехал для прилики, в послах будто, высмотрел все, ну, вот теперь и совсем к нам. Ничего, ладный парень, только из себя жидок больно, безбородый; вот в наше платье оденется да бороду отпустит – тогда ничего, вид знатный получит…
– А не слыхал, когда его крестить будут?
– Крестить-то?
– А то как же, ведь он басурман, немец, некрещеный, так разве царевну за нехристя можно отдать, ты как об этом думаешь, а?
– Это точно, что нельзя…
Всюду и между всеми разговор кончался вопросом о крещении королевича, и тут не было никаких разногласий. Все, от людей важных и чиновных до последнего стрельца, знали, что так как королевич – басурман, то должен креститься в православную веру и что иначе отдать за него царевну нельзя, невозможно. Для лиц не столь близких к царю и незнакомых с обстоятельствами дела все казалось ясным: приехал, окрестят его – и обвенчается он с царевной. Людям, посвященным в дело, было нечто известно, нечто, по-видимому, очень важное, но и они все же отлично понимали, что иначе быть не может: королевич должен креститься.
Встреча датскому королевичу Вольдемару была приготовлена в Грановитой палате. Холодное, но ясное январское солнце врывалось в небольшие окна и озаряло сводчатую обширную палату, причудливо расписанную пестрыми узорами и полную своеобразной красоты. Царь Михаил Федорович, окруженный ближними боярами, в сопровождении думного дьяка, медленно вошел в открытые рындами[3]3
Рында – оруженосец, телохранитель.
[Закрыть] двери, тяжелой поступью, пройдя палату, поднялся по устланным красным сукном ступеням и с видимым удовольствием поместился на своем царском месте.
Кто не видал Михаила Федоровича несколько лет, тот нашел бы в нем весьма большую перемену. В настоящее время, несмотря на свои далеко еще не старые годы, он сильно постарел, располнел и обрюзг. Красивое лицо его как бы отекло и поражало прозрачной бледностью. Все движения были вялы, и когда он говорил, то часто останавливался, чтобы перевести дыхание. Среди разговора он иногда вдруг задумывался, и тогда в глазах его читалась скорбь.
Человек мягкий и сердечный, горячо любивший детей своих, Михаил Федорович в 1639 году в течение трех месяцев потерял двоих сыновей, царевичей Ивана и Василия. Он не мог справиться с таким нежданным горем, и с этого времени окружавшие стали замечать в нем все усиливающуюся не только душевную, но и телесную усталость. От юности мало подвижный, наклонный к сидячей жизни, он теперь почти совсем отказался от движения, всегда сидел, много лежал. Отсюда излишняя полнота, вялость, затруднение дыхания. Доктор Венделин Сибелиста не раз доказывал царю, что сидячая жизнь для него крайне опасна и может значительно сократить жизнь его; но Михаил Федорович, спокойно выслушивая врача, все же решительно отказывался следовать его советам и даже часто совсем не принимал составляемые им лекарства, во всем полагаясь на волю Божию.
На этот раз царь, однако, находился в самом веселом настроении духа, глаза его минутами начинали сиять прежним блеском, во всех чертах лица замечалось оживление. Дело в том, что это был день исполнения его заветного желания. Королевич Вольдемар здесь в качестве жениха царевны Ирины. То, что еще так недавно представлялось неисполнимым, от чего уже совсем приходилось отказаться, совершилось.
Когда все собравшиеся в Грановитой палате разместились по своим местам, наступило несколько минут полной тишины и ожидания. Взгляды всех обратились к дверям. Боярин князь Львов, человек осанистый и важный, мягкий в походке и движениях, с поклоном подошел к красивому отроку, царевичу Алексею Михайловичу. Тот поднялся со своего места, последовал за князем, и оба остановились посреди палаты, у столпа.
Между рындами, стоявшими по обеим сторонам дверей произошло некоторое, едва уловимое движение, и двери медленно, бесшумно стали отворяться.