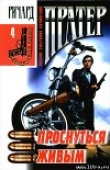Текст книги "Предместье"
Автор книги: Всеволод Кочетов
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 10 страниц)
Солнце обрадовало Вареньку. В последние дни, почти не прекращаясь, из плотных серых туч шли холодные назойливые дожди. По утрам с Ладоги, вдоль Невы, наползали белые, густые туманы. Дули резкие восточные ветры. Сегодня – хоть и на потолке – встала радуга!
Варенька быстро оделась, чувствуя радость во всем теле, легко и быстро прошлась по скрипучим, с облезлой краской, широким половицам и, подойдя к окну, от неожиданности вскрикнула: на подоконнике лежали белые и бледно-розовые астры, эти ненавистные цветы, приносящие только беду и горе, возвещающие, что кончилось лето и что откуда-то, из-за Полярного круга, заметая дороги сугробами, уже бредет зима.
Кто их принес, кто положил на подоконник? И зачем?
Распахнув окно, Варенька всматривалась в улицу, желая увидеть виновника этой глупой затеи с астрами, и... увидела его. На завалинке под окном сидел улыбающийся Ушаков.
– Зачем вы это сделали? – вместо приветствия спросила его Варенька. Я ненавижу астры!..
– Не нравятся, Варвара Васильевна? Ну и не надо, – ответил Ушаков миролюбиво. Он взял цветы и перекинул их через изгородь на дорогу. – Я пришел пригласить вас – пойдемте гулять. Такой денечек, как сегодня, может быть последний – и в году, и лично у меня. Работы стало очень много.
– Да как же я пойду? У нас дойка сейчас начнется.
Вареньке очень хотелось погулять. Дожди мешали встречам с Ушаковым, она давно с ним не виделась, но отношения их не были такими, чтобы можно было просто сказать: "Обожди меня, Костя, пока управлюсь, тогда пойдем", и девушка только могла просительно смотреть на него своими большими глазами. Но Ушаков и не рассчитывал на то, что Варенька отправится с ним немедленно.
– Дойка? – Он взглянул на ручные часы. – Ну сколько это займет? Часиков...
– Часиков – два!
Варенька засмеялась.
– Точно в девять ноль-ноль буду здесь, – сказал Ушаков. – А пока схожу навещу директора МТС. Как он поживает?
– Заработался. Злой.
Варенька прикрыла окно, чтобы не хлопало на ветру, и вышла из домика. Ушаков проводил ее до "молочной фермы", как теперь назывался скотный двор, и отправился в поле разыскивать Цымбала.
Аккуратный и точный, в девять ноль-ноль он уже снова сидел на завалинке под Варенькиным окошком, но ее еще не было, и Ушаков вспоминал разговор с Цымбалом, вместе с которым только что полтора часа провозился у мотора остановившейся машины.
"Когда меня лет через сорок – пятьдесят ребятишки спросят: что самое страшное на войне, – говорил Цымбал Ушакову, помогавшему трактористам разобраться в зажигании, – я отвечу: быть во время войны директором МТС. Что там моя партизанская работа! Нападать из засад, снимать часовых, рвать мосты – пустяк! Рвать свои нервы – вот это да! На нервах работаем, Костя".
Ушаков отлично понимал Цымбала. Он и сам часто завидовал тем танкистам, которые шли в атаку. Они сражаются, а ты сиди, жди... Они выйдут из боя задымленные, в ссадинах, синяках, усталые до крайней степени, но возбужденные, готовые хоть всю ночь рассказывать о том, как "гробанули фрицевскую коробку", как "проутюжили" окоп, как гасили огонь в пробитой башне... А ты пускай в ход станки, берись за инструменты, чини гусеницы, которые "утюжили" окоп, латай, заваривай эту башню, которую не отдали огню, проверяй пушку, снарядом которой "гробанули фрицевскую коробку". Работа твоя по трудности, по ответственности не очень-то уступит атаке, но, безусловно, в десятки раз превзойдет атаку по длительности напряжения. А рассказывать о ней будет и нечего.
Да, Ушаков вполне понимал Цымбала. Он считал, что во время войны в тылу, если не физически (а иной раз и физически), то морально, значительно тяжелей приходится, чем на передовой. Прошлой осенью он перед каждым боем просился в башню, но командование ценило его как большого специалиста и не отпустило из мастерской. Потом он смирился: надо же кому-то и в тылах работать! А какие тылы, когда под бешеным огнем приходится руководить эвакуацией подбитых машин с поля боя или наскоро ремонтировать их в "боевой борозде", вот так же, как делает это Цымбал...
Поспешно подошла Варенька.
– Запоздала? – спросила она виновато. – О чем вы задумались, Костя?
– О мелочах жизни, Варвара Васильевна. Крупные они какие! Ну, вы свободны? Тогда пошли...
Они гуляли в осенних полях, покрытых жесткими травами, собирали на опушке леса последние поздние ягоды седого гоноболя вперемешку с брусникой, следили за возней снегирей на рябинах, среди таких же, как и птичьи грудки, огненных гроздьев. Осенний день крепился изо всех сил. С востока вереницами шли тучки, но они ненадолго застилали солнце; синяя тень и холодок проносились по земле, и снова потом, до новой тучки, было тепло и ясно.
Утомленные ходьбой, вышли к реке, к полуразрушенной снарядами одинокой церкви, на крыше которой в открытой со всех сторон дощатой будочке, замаскированной осыпавшимися еловыми ветками, день и ночь стоял воздушный часовой зенитчиков. Слышно было, как он там насвистывает от скуки и притопывает ногами по деревянному настилу.
Ушаков притащил большую охапку сухого тростника, выброшенного волнами на песчаную береговую кромку; уселись рядом под старой березой, изуродованной огромными бородавчатыми наростами, по которым вверх и вниз сновали черные муравьи. Рассказывали друг другу о себе, вспоминали детские годы, рассуждали о том, как устроить жизнь после войны. На полслове Ушаков умолк, насторожился: он услышал далекий выстрел. Через секунду или две коротко визгнул снаряд, и совсем рядом, за березой, ударил оглушительный разрыв. С березы густо посыпались ветки. Варенька побледнела и судорожно вцепилась в рукав гимнастерки Ушакова.
Услыхав второй выстрел, Ушаков подхватил Вареньку на руки и бросился к свежей воронке. Глубоко развороченная сырая земля еще курилась зеленоватым дымком – он издавал кислый и острый запах сгоревшей взрывчатки, – на дне ямы начинала копиться почвенная вода. Ушаков прыгнул прямо в воронку и вместе с Варенькой прижался к холодным мокрым комьям. Снаряд разорвался возле самой березы, осколки раскинулись веером над воронкой, но тем, кто сидел в воронке, они были уже не страшны.
Один за другим падали снаряды. Они рвали берег, крошили и без того раскрошенные развалины церкви, острыми своими обломками скоблили кирпич ее израненных стен, шелушили кору старого вздрагивающего дерева. Горячий ветер вихрился над убежищем Вареньки и Ушакова, сметая в него последние желтые листья с березы.
Второй раз была Варенька под таким огнем. Впервые это случилось, когда уходили из колхоза. Немцы обстреливали тогда дорогу с самолетов и непрерывно сбрасывали на бегущих людей бомбы. Потеряв в перепуганной толпе Маргариту с ее стариком отцом и дочкой, дрожащая, оборванная, измазанная дорожной грязью, Варенька только к ночи добралась до окраинных улиц Ленинграда. В тот день она была одна среди грохота, визга, огня и дыма, была беспомощна, беззащитна. Сейчас все по-другому, сейчас с ней человек, который знает войну, знает, что надо делать в таких случаях. Она прижалась к нему, верила в него, слагала на него все заботы о себе, и ей совсем не так было страшно, как тогда. Зато Ушаков волновался в тысячу раз больше, чем если бы он был один, и впервые испытывал настоящий страх – страх за нее, за Вареньку.
И только когда совсем стихла стрельба, и еще выждав несколько минут, он позволил ей приподнять голову над краем воронки. Варенька вздохнула, взглянула в его позеленевшее, непривычно длинное и каменное лицо, улыбнулась, вскинула свои перепачканные землей и глиной руки ему на шею. Почувствовав, что и его руки замкнулись вокруг ее плеч, она – уже не от страха – крепко прижалась к его груди.
Осенние работы приближались к концу. Еще гудели тракторы в бороздах, еще ходили ребятишки и женщины за плугами – шла вспашка под зябь, под урожай будущего года, а нынешний урожай был уже весь убран. На гумне стучала старенькая, расшатанная молотилка – обмолачивала овес и ячмень. В хранилищах лежали картофель и овощи. В домиках над рекой, таких сиротливых и пустынных в начале весны, запахло свежим хлебом и щами. Во дворах копошились куры, пищали молодые драчливые петушки, выросшие за лето из цыплят. Голосистому юрловскому было теперь с кем перекликаться на зорьках. В крольчатнике давно Не хватало клеток для новых длинноухих обитателей. Кролики, пойманные Бровкиным и Козыревым, уже имели не только сынов, но и внуков. Варенька подыскивала мастериц, чтобы зимой приступить к вязанию пуховых платков.
Маргарите Николаевне, которая установила себе когда-то систему жизни не думать о дне прошедшем и будущем, жить только сегодняшним, – долго казалось, что она следует этой системе. Но заботы об озимом севе, о зяблевой вспашке, о засыпке семян – разве это не день будущий? А вновь открывшаяся школа, а клуб, библиотека – разве это только сегодняшний день? Нет, жить куцым отрезком времени, ограниченным рассветом и вечерними сумерками, оказалось невозможным. Маргарита Николаевна добилась того, что с помощью зенитчиков с окраины Ленинграда подвели радиотрансляционную линию, и в колхозном клубе услышали голос Москвы. Стоял октябрь, немцы рвались к Волге, в каждое утро колхозники напряженно вслушивались в сводку о ходе боев. Однажды голос диктора донес до них письмо героев боев на Волге: "Чем крепче стоит Ленинград на Неве, тем тверже защита Сталинграда на Волге!"
– А крепко мы-то стоим на Неве? – спросила Лукерья Тимофеевна, внимательно прослушав письмо до конца.
– Мы-то? – ответил ее бойкий Миша. – Мы-то нормально. Семь барж отправили? Отправили! – Он загнул один палец. – В дивизию сейчас от нас овощи возят? Возят! – Второй палец согнулся крючком. – Озимые посеяны? Зябь поднята? Молоко сдаем? – Пальцев на руках у Миши не хватало – хоть разувайся.
Лукерья Тимофеевна только руками развела:
– Скажи, какое диво! Что твой докладчик стал! Не парень, а председатель.
– Мишка! – окликнула Маргарита Николаевна. – А бунтовать забыл?
– Что мне бунтовать? В армию все равно уйду, я уже спрашивал военкома. Подрасти, говорит, маленько... Да ну его! – Мишка обозлился. – Наведайся, говорит, годика через три, там посмотрим. И без него обойдусь. Пойду к деду Бровкину, и все...
Дней за десять до праздника, когда колхозники слушали о том, как другие города и села готовятся встретить двадцать пятую годовщину Октября, в клуб зашел Долинин и подсел к Маргарите Николаевне.
– На днях в обком еду, – сказал он. – С отчетом о проделанном за лето. Прошу и вас подготовить мне сведения.
– Они у меня готовы, хоть сейчас представлю, Яков Филиппович. Но хвалиться нечем...
Долинину тоже казалось, что хвалиться нечем. Как далеки были эти собранные им сводные показатели от тех, которые он еще полтора года назад отсылал в Москву на сельскохозяйственную выставку!..
– Что я покажу в Смольном? – отчаивался он, сидя ночью в своем подвальчике с Пресняковым и Терентьевым. – Может быть, еще твоих несчастных уток, Батя, вписать в отчет? Охотничий промысел, дескать, развернули.
– В отчетах ли суть, Яков Филиппович, – отозвался Терентьев. – Один мой милиционер так говорит: все дело – в деле.
Что будет, то будет. Завтра поеду, – решил Долинин. – Включи-ка приемник, послушаем Москву. Уже время.
Терентьев покопался у приемника, ничего не вышло. Его сменил Пресняков, и тоже безрезультатно.
– Или батарея выдохлась, или лампы сгорели, – заявил он. – Полное молчание.
– Досадно, – сказал Долинин, на всякий случай еще раз повертев ручки приемника. – В такие дни без радио нельзя. Позвони в колхоз.
Он вызвал по телефону Маргариту Николаевну, но она сообщила, что час назад стреляли по Рыбацкому, а трансляционная линия идет оттуда, наверно оборвалась, репродуктор молчит, и в колхозе тоже не слыхали последних известий.
Склонный к суевериям, Терентьев насупился:
– Такое совпадение неспроста. Плохой знак.
Настроение испортилось окончательно, разошлись без обычных шуток.
Долинин долго еще шагал по комнате, несколько раз пытался налаживать приемник, но все безрезультатно. На душе было тревожно. "Кто знает, может быть, на Волге какая беда? – думал он. – И дернуло же Батю накаркать".
Пришел Ползунков, разыскивавший где-то резину для "эмки".
Растревоженный, входил Долинин в кабинет секретаря обкома.
Он уже знал вчерашнюю сводку: на Волге без изменений, по-прежнему уличные бои в городе; нет нового и на других фронтах; но предчувствие беды его так и не покидало.
– Здравствуй, Яков Филиппович! – Секретарь обкома крепко пожал ему руку. – Давненько мы с тобой не виделись. Присаживайся. – Он как-то по-особенному весело и вместе с тем торжественно посмотрел на Долинина.
Вот только вытащу из кармана отчет... – Долинин высыпал
на стол перед ним горсть ровных молочно-белых зерен гороха.
Называется "Капитал". Но это название – единственно капитальное в отчете района. Неважно мы работали.
– Не прибедняйся. – Секретарь обкома попробовал зерно на
зуб. – Высокоурожайный сорт. Сколько его у тебя?
– Мало. Три гектара всего.
– Тебе всегда все мало. Весь такой или ты мне по зернышку
отбирал?
– Весь.
– Надо оставить на семена. Этим сортом дорожили в колхозах.
Секретарь внимательно посмотрел отчет Долинина, в некоторых местах требовал пояснений и не только не выразил неудовольствия делами района, но даже похвалил:
– Вот видишь, и земля нашлась, и семена, и люди. Теперь и медаль на законном месте. – Он указал на грудь Долинина. – Однако это только цветочки, вся работа впереди. Еще несколько колхозов возродить надо. Имея один работающий восстановленный, уже легче будет. На днях к нам вернется председатель исполкома вашего райсовета, Щукин. Приехал из Тихвина. Облисполком его отпускает.
– Вот это хорошо!
– Конечно, хорошо. У тебя забот уменьшится. Поосновательней займешься внутрипартийной работой. Решено вызвать и твоего второго секретаря Солдатова, и секретаря райкома комсомола – Ткачеву. Теперь ваш отряд влился в бригаду, и этих товарищей без особого ущерба для партизанского движения можно вернуть в район. Я договорился со штабом. Но, понимаешь, беда в чем: связи с ними нет третью неделю. В начале октября начались облавы, городской голова, этот Савельев, повел дело солидно. Ребяткам пришлось крепко засесть в лесах. Последний раз сообщили, что батареи у рации выдохлись, просили новых. А куда послать, где сбрасывать – штаб не знает.
От этих известий Долинин снова расстроился.
– Мрачный ты какой-то сегодня, – сказал секретарь обкома. – Сдается мне, что ты ни радио вчера не слыхал, ни газет сегодня не читал.
– Верно, – удивился Долинин. – А вы откуда знаете?
– Знать не знаю, но предполагаю. Вот, почитай. Долинин взял протянутую газету и, недоумевая, пробежал глазами по столбцам: сводка, которую он уже знал, информация о производственных успехах завода, где директором такой-то, портрет стахановца...
– Обрати внимание на Указ Президиума Верховного Совета, и особенно на третью фамилию сверху, – подсказал секретарь обкома.
Долинин взглянул, отыскал глазами эту третью сверху фамилию и невольно поднялся с кресла.
Не может быть! – воскликнул он. – Меня? Орденом Ленина? Не может быть!
– А почему же не может быть? Свершившийся факт. Так и написано: "Долинин, Яков Филиппович". Дай, дорогой мой, поздравлю тебя.
Секретарь обкома вышел из-за стола, крепко обнял Долинина и поцеловал.
– Орден ты получил за дело. Если хочешь, открою тебе маленькую тайну. Дивизия, которой командует твой старый знакомый, полковник Лукомцев, еще летом прислала на тебя представление. Дескать, в оперативном плане боев местного значения были использованы и какие-то твои предложения. Я припомнил тогда планчик, с которым ты приезжал ко мне весной. Трогательно это, конечно, со стороны штаба дивизии. Но мы представили тебя за итоги сельскохозяйственного года, за помощь Ленинграду, за возрождение района.
– Тогда и других надо было представить, – возразил Долинин, все еще не выпуская газету из рук. – Все вместе работали, и, по правде говоря, многие больше и лучше меня.
– Не спеши, переверни страницу, там продолжение есть.
На второй странице Долинин нашел фамилию Маргариты Николаевны, Цымбала, юного бригадира – Леонида Андреича.
– Они, именно они, сделали дело! – вновь и вновь перечитывая знакомые имена, восклицал он. – Одно только удивляет: как без меня узнали об их работе, кто собрал сведения?
– Дело в том, что мы сами не знали, подходящий ли сейчас момент для наград за сельское хозяйство. Как отнесется правительство? И чтобы зря не волновать ваших товарищей, если, скажем, откажут, сведения собрали в секрете от вас. Помнишь, приезжал инструктор в августе? Он знакомился с положением дел в районе, а одновременно сделал необходимые записи о людях. Вот и вся хитрость. Ну, как твое настроение?
– Улучшилось. Виноват наш начальник милиции: мраку нагнал. Завел вчера под ночь разговор... Радио в нескольких местах вышло из строя. Неспроста-де, говорит, – дурной знак. Я и подумал, не на фронте ли что случилось. Предчувствия всякие...
Глуповато, конечно; понимаю, да что поделаешь – слаб человек.
– Предчувствия, как видишь, врут. Должен тебе, кстати, сказать, что не только на Волге, но и мы не век собираемся сидеть в блокаде. Что и как – со временем узнаешь.
Снова, как и весной, Долинин вышел из Смольного с раздвоенными чувствами. С одной стороны – радость награды, с другой – тревога за Наума и Любу, с которыми потеряна связь. Но до прихода сюда тревога эта имела глупую, суеверную основу, а сейчас эта основа была реальна, и никакие, самые высшие, награды не могли ослабить беспокойства Долинина за судьбу близких ему людей...
С Ползунковым он проехал по улицам города, на черном, мокром, от дождя асфальте увидел вмятины и царапины, точно асфальт когтили огромные железные лапы, увидел пробоины в стенах домов, желтыми и темными пятнами раскрашенные фасады на Неве, зенитки на Марсовом поле... Осада продолжалась, ничто в городе не изменилось: те же рубцы и ссадины на его лице, полученные в боях, та же пороховая копоть. Но изменились люди. Уже не было видно тенеподобных, покачивающихся от слабости прохожих. Люди готовились к празднику, как бывало: спешили по тротуарам, несли даже какие-то свертки под мышками, ехали в еще весною оживших трамваях; из длинных рупоров неслась музыка над проспектами.
Обогнули сквер на Исаакиевской площади. Здесь уже не было огородниц в гимнастерках: во мраке чернели пустые грядки. Долинин вышел из машины, шагнул по грядкам, но тотчас споткнулся о капустные кочерыжки вырастили-таки!.. "Ладога, – подумал он, – спасла город от голодной смерти. Но разве мало помогли Ладоге эти копошившиеся и здесь, и на Марсовом поле вокруг зениток, и на окраинах неунывающие девушки!"
Он восторгался делами других, но ни на минуту не пришла ему в голову мысль о том, что не меньше, а, видимо, больше всех, вместе взятых, городских огородников сделал для снабжения Ленинграда его район, что многие из тех, кого он видел сегодня на улицах и в трамваях бодрыми, оживленными, энергичными, оттого и бодры и деятельны, оттого и вернулись к жизни, что для них работали люди на узкой полосе земли, стиснутой между окраиной города и траншеями переднего края.
Глава восьмая
На пустынных заснеженных дорогах, в темных унылых полях мела декабрьская злая поземка. После заседания в Военном совете армии Долинин возвращался домой, поторапливал Ползункова, который в темени раннего зимнего вечера едва различал путь. Долинин спешил. Сегодня в его подвальчике должны были собраться товарищи, чтобы поздравить тех, кому в Смольном секретарь обкома вручил на днях награды, пересланные из Москвы. Он вез новое радостное известие: в армейском штабе ему сообщили, что Военным советом фронта подписан приказ о награждении партизан, среди которых Солдатов и Ткачева. Ни о Науме, ни о Любе Долинин по-прежнему еще ничего не знал, но секретарь обкома при вручении наград утешил его: сказал, что связь с бригадой уже налажена, что славские партизаны под давлением карателей вышли в район Оредежа, но только не все их группы еще собрались. "Зря ты волновался".
– Старая история! – ворчал Долинин на Ползункова. – Как только надо поскорее, так у тебя непременно неурядицы.
– Снег же, Яков Филиппович! Достаньте вездеход с передачей на обе оси, тогда и говорите, – обижался тот. – И опять же – ни черта не видно. Могу, конечно, поставить на третью, если хотите, но уже ответа не спрашивайте, когда в канаве окажемся.
Машина с трудом переваливала через снеговые наметы, свет из узких щелок фар скупо освещал дорогу: едва на три шага впереди, а дальше лежала непроницаемая мгла. Глухо молчал и фронт: ни пушечного удара, ни бормотания пулеметов. Единственными звуками на мертвой равнине были урчание буксующей "эмки" да заунывный вьющийся свист поземки.
На спуске к узкому мостику через ручей пришлось остановиться и, чтобы не врезаться в столбики придорожного ограждения, осмотреть путь. Ползунков открыл дверцу, шагнул вперед, и его сразу же не стало видно. Долинин, поеживаясь, слушал, как стучит ветер в тент машины. "Меня, наверно, давно ждут, – думал он. – Неточный руководитель – что может быть хуже?"
Ползунков ходил долго. И когда наконец невдалеке замаячила темная, как бы в нерешительности остановившаяся фигура, Долинин тоже приоткрыл нетерпеливо дверцу. В кузов ворвался поток ветра с мелкой снежной пылью. Завихряясь, снег проникал за воротник, в рукава; стало мокро от него и холодно. Долинин обозлился.
– Что же ты канителишься? – крикнул он с досадой. – Поедем!
– Поедем! – ответил кто-то, но не Ползунков, хотя голос был знакомый: вологодский окающий тенорок.
Долинин выскочил прямо в сугроб. Протягивая навстречу руки, в запорошенном черном полушубке, стоял перед ним Щукин.
– Иван Яковлевич! Вот так встреча!
Позабыв и о пурге, и о снежной пыли, забившейся за ворот, и о пропавшем Ползункове, Долинин готов был тут же, на дороге, начать расспросы. Щукин остановил его:
– Это еще не всё. Посмотри на орла!..
Долинин заметил второго путника, стоявшего за спиной Щукина. Тот тоже был в полушубке, но не в черном, "тыловом", а в белом, фронтовом, опоясанном ремнями. Он шагнул к Долинину, сказал:
– Вижу, начисто выбросил ты меня из памяти, Яков Филиппович.
– Антропов?
– Он самый.
– Ах ты, дьявол! Да зачем же ты усы отрастил? – Долинин горячо обнимал бывшего директора совхоза.
– Мода такая, гвардейская.
– Полезем в машину, Филиппович, а то совсем окоченеем. – Щукин передернул плечами. – Мы уж тут больше часу в открытом поле путаемся.
– Есть дорога, все нормально, – сказал Ползунков, появляясь из метели. Но, увидев новых пассажиров, запротестовал: – Я извиняюсь, Яков Филиппович, так нам и километра не проехать – столько народу. Рессоры не выдержат.
– Нас-то выдержат! – ответил Щукин. – Старых знакомых перестал узнавать, Алешка?
Разглядев пассажиров, Ползунков обрадовался не меньше Долинина.
– Чарочкой угостишь с дороги? – спросил его Щукин.
– И чарочкой можно, и зайчатинкой.
– Поди, кроликом из колхоза? – высказал предположение Долинин. – Ты известный мастер на заимствования!
– Почему кроликом! Я же говорил вам, Яков Филиппович, что вчера двух русаков мы с Батей подстрелили, в кладовке лежат.
– А Батя все охотится? – спросил Антропов. – Помню, он у меня озимые топтал, гоняясь за этими русаками. Ссорились мы с ним.
– Ничего не могу поделать со старым браконьером, – ответил Долинин. Уж и клятвы он давал и зарекался. Все без толку.
Машина снова тяжело ползла по косым наметам. Все вместе выходили ей помогать, поднимали шумную возню на дороге, шутили.
– Проверяешь на деле, не забыл ли я, в облисполкоме сидючи, что такое районный масштаб? – смеялся Щукин, упираясь плечом в кузов "эмки".
– Давно тебя жду. Мне еще месяц назад говорили в обкоме, что возвращаешься. Почему не позвонил? Я бы встречать приехал.
– Ну и хорошо, что не приехал. Двое суток тащились бы на таком драндулете. А так не позже утра доберемся.
– Уж и утра! – обиделся Ползунков, слышавший разговор. – Минут через двадцать будем на месте.
– Решил на попутных двинуться, – продолжал Щукин, когда "эмка" преодолела наконец сугроб. – До артсклада доехал, до развилки. А там Антропова встретил.
– Тоже спешил, – отозвался Антропов, – потому пешком и шел. Сутки отпуску дали. Вызвали с Волховского в Ленинград. Жду нового назначения.
– Иди директором совхоза, – предложил Щукин со смехом.
– Совхоза? Того гляди, полк дадут!
– Да что ты! Командармом, значит, окончательно становишься?
Совершив последний перевал, машина свернула с шоссе в проезд к поселку; во тьме и вьюге мутным серым пятном вставал массивный кирпичный домика...
Подвальчик был чисто прибран, стол накрыт свежей скатертью. За перегородкой хлопотали Варенька с Маргаритой Николаевной; Терентьев, Пресняков и Цымбал сидели возле приемника. Терентьев говорил, что пора бы и начинать, да неудобно без хозяина. Пресняков считал, что спешить некуда все равно ночь, и прислушивался к каждому звуку на улице, Цымбал задумчиво слушал музыку из Москвы.
– Здорово дает, – сказал Терентьев, когда знаменитый московский бас затянул "Шотландскую застольную". – Самая подходящая ария! Начать бы, а?
– Москва живет, – ответил Пресняков. – Должно быть, и следа там уже не осталось от прошлогодних тревог.
Он вздохнул. Начальник районного отделения НКВД никогда, ни на минуту, не мог забыть о скрытых тропках, об оврагах, о всех тайных путях, по которым посланцы врага стремились проползти к Ленинграду. В его душе всегда жила тревога. Его чувства были напряжены и обострены долгой борьбой, и сейчас именно он первый, несмотря на громкую музыку, услыхал шум автомобильного мотора. – Кажется, въезжают в ворота.
Все бросились к выходу. Во дворе Ползунков разворачивал машину, пассажиры выскакивали из нее на ходу. Крик поднялся, смех.
– Усач усача видит издалеча! – С этими словами Антропов обнял Терентьева. – Не стареешь!
– По горшку витаминов каждодневно принимаю, – ответил тот. – Влияют.
Путники мылись над тазом за перегородкой. Не жалея ледяной воды, Ползунков опоражнивал на их руки и шеи один кувшин за другим. Наконец все уселись за стол, на столе появились графинчики, тарелки с закусками и, как выразился Терентьев, "гвоздь сезона" – заяц, которого в отсутствие Ползункова женщины нашли в кладовке и зажарили.
– Вот видите, Иван Яковлевич: заяц, именно заяц! – объяснял Щукину довольный Ползунков. – А Яков Филиппович говорит: кролик! У кролика мясо белое, бледное, а тут, вглядитесь только, красота какая!
– Жареного не разберешь – белое или серое. Все – румяное.
– Заяц, заяц, – со всей своей солидностью подтвердил Терентьев. Алешка здорово его подсек, на полном скаку, почти в воздухе!
Чокались, поздравляли друг друга. Подцепив с куском зайчатины порцию поджаренного лука, Антропов сказал:
– Лучок! Эх, закусочка! Когда-то выговор мне за него дали...
– Злопамятный ты, – отозвался Долинин. – Я уж и то пожалел однажды: не зря ли наказывали человека.
– Правильно сделали, – сказал Антропов. – Сидим, бывало, в землянке, пшенный концентрат поперек горла становится, смотреть на него спокойно не можем. Связной у меня был, украинец, Хмельно по фамилии, скажет: "Цыбулю бы сюда покрошить, товарищ майор, совсем другая питания будет". Я и подумаю иной раз: "Бейте меня, ребята, всенародным боем, вот кто виноват, что у вас цыбули нету и авитаминоз гложет – ваш майор подвел всех". А отвечу вслух: "Вернешься, Хмелько, домой после войны, весь огород засади цыбулей". "Зачем одной цыбулей, говорит, я и кавунов насажу, и баклажанов, и гарбузов... Человек сортименту требует в жизни".
– Неглупый парень, – заметил Пресняков.
– Умный! – убежденно поправил Антропов. – Если мне после войны снова придется директорствовать в совхозе, я вам покажу сортимент! Спаржу разведу и артишоки. Хорошо мы жили до войны, но как-то еще не умели во всю ширь, развернуться. Ладно, думали, сыты, чего еще нам! А как украсить жизнь – не задумывались. Неполным, хочу сказать, сортиментом жили. А вот прошли теперь через землянки – жадность к жизни знаешь какая пробудилась! Смешно: сорок лет прожил, шампанского не пробовал, водку дул, сивуху. Тьфу!
– Не плюйся! – Терентьев грозно сдвинул брови. – Горилка – это очень правильный сортимент.
– Ну тебя! – отмахнулся Антропов.
Ему хотелось говорить и говорить, высказать все, что передумал он в боях, в волховских лесах и болотах, возле страшного разъезда Погостье. И он говорил о том, какой хочет видеть жизнь после войны, о том, что за три года своей работы в совхозе, расположенном в семи километрах от Ленинграда, он ни разу не был в театре, книгу месяцами не брал в руки, превращаясь постепенно в делягу без мечты и фантазии.
– Правильно дали мне выговор! – почти выкрикнул он. – И многие
из нас заслуживали тогда наказания за то, что не умели ценить жизнь.
– За жизнь! – поднял стакан Пресняков.
– За то, чтобы смерть больше никогда не вошла в наш дом! – поддержала Маргарита Николаевна.
– Нет, не так, – возразил Цымбал, остававшийся весь вечер серьезным и грустным. – Нет, если и войдет смерть, то пусть такая, чтобы была она достойна жизни.
– Ну, а это и есть бессмертие! – сказал Долинин. – Значит, прав Пресняков: за жизнь!
В дверь резко постучали, затем нетерпеливо еще раз стукнули. Все, кто был в подвале, переглянулись, поставили на место поднятые стаканы. Долинин кивнул в сторону двери, Ползунков поднялся с табурета и откинул крючок.
Вошел непривычно строгий Лукомцев и с ним закутанная в изодранную шаль высокая худая женщина. С неудовольствием, из-под накупленных бровей, окинул полковник взглядом пирующих, стол с закусками и бутылки, сбросил папаху.
– Люба! – вскрикнула Варенька и метнулась к закутанной женщине, чтобы поскорее развязать смерзшиеся узлы ее дерюжной шали.
Все поднялись из-за стола. Да, перед ними была она, Ткачева Люба. Но как трудно было ее узнать! Широкий незаживший шрам от мочки уха до уголка губ пересекал наискось лицо, глаза тонули в опухших синих веках, багровые и черные большие пятна лежали на щеках и на лбу. Любу усадили на стул. Она молчала. Дышала тяжело, держась за грудь.
– Два часа назад приползла к нашему боевому охранению. Сильно обморожена, – сказал Лукомцев. – Надо срочно отправить в Ленинград.
Полковник волновался. Когда в штабную землянку привели эту измученную девушку, чистым и нежным лицом которой, ее мужеством и простотой, ясностью суждений он любовался весной в кабинете Долинина, Лукомцев почувствовал не меньшую боль за нее, чем если бы это была его родная дочь. Он немедленно вызвал врачей, но Люба от всякой помощи решительно отказалась; она отхлебнула только глоток портвейна из чашки и потребовала, чтобы ее тотчас, сию же секунду, отвезли к Долинину.