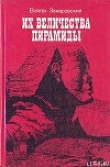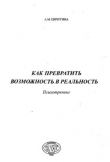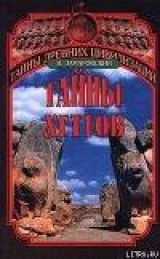
Текст книги "Тайны Хеттов"
Автор книги: Войтех Замаровский
Жанр:
История
сообщить о нарушении
Текущая страница: 13 (всего у книги 23 страниц)
Глава восьмая. ИЕРОГЛИФИЧЕСКИЕ ХЕТТЫ
Непрочитанные надписи из 69 местОткрытие Грозного окончательно сняло с истории хеттов завесу неизвестности. Раскрылась вторая часть Богазкёйского архива, и теперь можно было прочесть не только иноязычную дипломатическую корреспонденцию, но и богатейшие документы из жизни хеттов, написанные на их собственном языке: свод законов, судебные приговоры и религиозные книги, предписания для придворных церемониалов и руководство по выучке коней, обращения к государственному совету и медицинские сочинения, военные уставы и налоговые записи. А затем и стихи и небольшие литературные произведения, в которых – впервые в мировой литературе – зазвучала анекдотическая нотка…
Но еще не были разгаданы все тайны. Большая часть памятников хеттской письменности, рассеянных по всей Передней Азии и найденных в 69 местах, молчала.
Это были памятники, написанные хеттскими иероглифами, письмом, благодаря которому мы, собственно, и познакомились с хеттами и которое тем не менее даже после прочтения клинописных хеттских памятников оставалось покрытым непроницаемой тайной. Непроницаемой, несмотря на то что уже в первые годы после открытия хеттов Сэйс прочел шесть знаков их письма, несмотря на то что уже в 1900 году Мессершмидт издал сборник хеттских иероглифических надписей, так что исследователи не могли жаловаться на недостаток материалов, несмотря на то что над расшифровкой этого письма уже более четверти столетия трудился целый ряд крупных ученых и в рис числе «гроссмейстер древних знаков» Петер Йенсен.
До 1915 года отсутствие успехов в расшифровке хеттских иероглифов можно было бы объяснить крылатым изречением Элис Коубер: «Нельзя расшифровать неизвестные знаки на неизвестном языке!». Но после того как Грозный расшифровал хеттскую клинопись и воскресил хеттский язык, ситуация должна была резко измениться. Теперь в хеттском уравнении оставалось только одно неизвестное – письмо.
Однако ничего не изменилось. Не изменилось не только тотчас же, но и через долгие десятилетия. И опять-таки: несмотря на то что над проблемой бились ученые всех частей света, несмотря на то что в распоряжении их были буквально тонны материала и более 100 двуязычных надписей!
Какие темные силы объединились тут, чтобы свести на нет все усилия двух поколений ученых, пока наконец третье поколение не принудило их к капитуляции? Я не боюсь лишить читателя удовольствия, которое обещает ему эта драматическая и полная напряжения глава, и заранее дам ответ: иероглифический хеттский язык н е был тождествен клинописному хеттскому языку!
Правда, языки эти были родственны и даже весьма близки – примерно в той же степени, как современный словацкий и древнечешский языки, и даже более близки, чем итальянский и латинский. Но по воле коварной случайности клинописные и иероглифические тексты, имевшиеся в распоряжении ученых, были отделены – за несколькими исключениями – половиной тысячелетия. Иероглифические относились к IX–VIII столетиям до нашей эры, то есть к периоду после падения Хеттской державы, а клинописные – преимущественно ко времени ее расцвета, то есть к XVII–XIII векам до нашей эры.
Достаточно сравнить, например, «иезуитский словацкий язык» XVIII столетия с современным словацким языком, чтобы увидеть, как за два столетия может измениться письменная речь. Правда, различия эти не составляют трудности для языковеда, знание их входит в его специальное образование. Однако с хеттским языком дело обстояло совершенно иначе. В первую очередь это было связано с тем, что здесь использовалось фонетически-слоговое письмо. И если мы учтем, что в хеттском иероглифическом письме не делается различия между звонкими, глухими и придыхательными согласными (например, между «Ь», «р» и «ph») и что многие из слоговых знаков здесь следует читать «наоборот» (то есть не согласный звук плюс гласный, а гласный плюс согласный), нам станет ясно, почему даже небольшие языковые различия оказались для ученых непреодолимым препятствием.
При этом иероглифический хеттский язык не был лишь более поздней формой клинописного хеттского языка. В нем проявлялись и местные особенности: Богазкёйский архив находился в главном городе империи, между тем как Хама, Каркемиш, Мараш и другие большие местонахождения хеттских иероглифических текстов были отдаленными окраинными крепостями или провинциальными городами. Скажем так: попробуйте на основании чешской «Официальной газеты», издававшейся в 20-30-х годах XX века, прочесть «Спишскую проповедь» конца XV столетия, написанную готическим шрифтом! Впрочем, как все аналогии, и эта хромает: готический шрифт выработался из латинского и поэтому близок ему, тогда как между хеттским клинописным и иероглифическим письмом нет решительно никаких точек соприкосновения!
Читатель наверняка уже спросил себя: как объяснить, что хеттские клинописные тексты относятся к более раннему периоду, а иероглифические – к более позднему? Гипотез на этот счет много, но названия теории заслуживают, пожалуй, только две из них. Первая исходит из материала и техники письма.
Сейчас уже считается доказанным, что иероглифы были первоначальным, древним письмом хеттов, и весьма вероятно, что они сами их изобрели. Когда? По всем данным, еще 50 своего появления на арене мировой истории в пределах Малой Азии. Притом изобрели их хетты независимо от египтян, с которыми не имели никаких связей. Клинопись же они, напротив, только позаимствовали. Хеттский писец – писал ли он клинописью на глиняных табличках, на свинцовых слитках или на серебряных пластинах – в буквальном переводе называется «писцом по дереву» (DUB. SAR. GIS), из чего следует – и расшифрованные тексты это подтверждает, – что хетты первоначально писали на деревянных дощечках; позднее они обмазывали их известью и обтягивали полотном. Но и переняв клинопись, хетты по-прежнему пользовались своим первоначальным иероглифическим письмом, которое, несмотря на всю сложность, было письмом 5олее широко распространенным, можно сказать, почти народным.[9] [9]Вместе с тем это было письмо наиболее монументальных надписей (как в галерее Язылыкая). – Прим. ред.
[Закрыть] Этим письмом хеттские цари увековечивали свои деяния на скалах и памятниках, этим письмом хеттские священнослужители писали свои религиозные сочинения и хеттские поэты – свои стихи, между тем как применявшаяся одновременно клинопись была письмом государственных канцелярий, международных сношений и «переводной литературы» (не сохранилось ни одной монументальной или «публичной» надписи, сделанной клинописью).
Дерево, полотно и известь подвержены уничтожающему действию времени (больше, чем окаменевшие обожженные глиняные таблички), а серебро представляет слишком большой соблазн для воров. Когда завершилась полутысячелетняя история Хеттского государства (точкой в конце ее последней главы было взятие и сожжение Хаттусаса около 1200 года до нашей эры), подавляющая часть иероглифических текстов на этих материалах стала жертвой всеобщего опустошения, затем завоеватели уничтожили каменные памятники и надгробия, и приходится еще радоваться, что от их внимания ускользнули рельефы и иероглифические надписи в скальном храме Язылыкая.
Через три тысячелетия в развалинах столицы остался только клинописный архив на глиняных табличках. Малозначительные окраинные города каким-то образом пережили уничтожение Хаттусаса, и в столицах государств-наследников еще столетия спустя возникали новые каменные памятники с иероглифическими надписями. Их-то и нашли археологи среди развалин. Но понятно, что значительных государственных архивов с клинописными табличками они там не обнаружили.
Согласно второй теории, клинописные и иероглифические хетты были разными, хотя и родственными народами, которые на протяжении столетий поочередно играли ведущую роль в хеттской культуре. Сначала преобладали клинописные хетты, затем иероглифические, удержавшиеся в окраинных областях и мелких государствах и после падения Хеттского царства. Соответственно этому в разных местах обнаруживаются документы, составленные с помощью различных типов письма и, возможно, на разных языках. Если же мы находим творения клинописных и иероглифических хеттов рядом, как, например, в храме Язылыкая, то, по данной теории, это объясняется тем, что работа над рельефами велась несколько столетий.
Некоторые сторонники этой теории считают, что в эпоху расцвета иероглифического хеттского языка клинописный хеттский язык был уже мертвым или вышедшим из употребления.
Разумеется, против обеих теорий можно найти различные возражения; но «за» и «против» заставили бы нас слишком глубоко зарыться в старые годовые комплекты специальных журналов, занимающихся проблемами хеттологии, а таких журналов выходит сейчас во всем мире почти сотня. Для нас значительно более важно, что в настоящее время «хеттская проблема перестала быть проблемой». Однако, прежде чем мы смогли написать эти слова, должно было пройти 25 лет со дня парижской лекции Грозного. Ровно четверть столетия понадобилось еще ученым, чтобы окончательно расшифровать хеттские иероглифы!
Ослиные и воловьи головы символизируют царей?
Раскрытие тайны хеттских иероглифов принесло новые неожиданности. Пока что последняя неожиданность, которую припасли для нас хетты, и притом неожиданность наименее неожиданная, поскольку иероглифические надписи относятся к позднейшей эпохе и связаны с малозначительными городами, заключается в том, что о самом Хеттском государстве они, собственно, не говорят нам ничего существенного!
Но нет сомнения: даже если бы относительно скромный результат расшифровки хеттских иероглифов был наперед известен, это не остановило бы ученых. Уже потому, что человечество не может примириться с существованием тайны, перед которой наука вынуждена отступить.
А кроме того, это было письмо, которое прямо-таки манило, прямо-таки дразнило каждого исследователя: а ну-ка, испробуй на мне свое умение! Сотни иероглифических надписей блестели на отвесных скалах в лучах палящего солнца, тысячи их скрывались в пропастях пещер и под развалинами мертвых городов. Иногда они были выполнены с таким тщанием, что становились настоящими произведениями искусства (начало надписи царя Арару из Каркемиша до сих пор украшает каждую публикацию «о красоте письма»), иногда строчки были неровными, шли вкривь и вкось, и, если текст не умещался на свободном пространстве рядом с рельефом, резчик без раздумий продолжал надпись на лице изображенной особы, на стене за углом, на приставленной каменной плите. А само письмо было удивительной комбинацией всевозможных знаков, какие только когда-нибудь существовали: сложные, архаичные, на первый взгляд, даже натуралистические рисунки чередовались с совершенно современными стилизованными знаками, и это контрастное сочетание было гармоничным!


Одним из первых после Сэйса чарам этого письма поддался француз Ж. Менан. Его многолетние труды привели к единственному результату: в 1890 году он прочел иероглифический знак «я (есть)». Это один из наиболее часто повторяющихся знаков, весьма похожий на египетский имеющий то же самое значение. (Сэйс, поскольку рука указывает на открытый рот, читал его «я говорю»). Почти одновременно над расшифровкой хеттских иероглифов трудился немецкий ассириолог Ф.Э. Пайзер. В его книге, опубликованной в 1892 году, также только один знак прочтен правильно: разделительный значок между словами. Дело в том, что он ошибся в мелочи – неправильно определил начало одной каркемишской надписи – и потом весь текст «читал» наоборот!
Хотя мы не намерены прослеживать историю ошибок при дешифровке хеттских иероглифов – точно так же, как не прослеживали историю ошибок в главе о Шампольоне, Роулинсоне или в главе о расшифровке Грозным клинописного хеттского языка, – все же нельзя пройти мимо работ Петера Йенсена (1861–1936). Этот видный немецкий востоковед (одна из важных заслуг которого – окончательное доказательство того, что библейское предание о всемирном потопе – лишь более поздняя иудейская версия одного из эпизодов шумеро-вавилоно-ассирийского мифа о Гильгамеше) своими ошибками при дешифровке хеттских иероглифов почти на два десятилетия задержал прогресс в данной области. Такое негативное влияние крупной личности, присваивающей себе право решать вопросы, в которых она неавторитетна, собственно, не редкость: вспомним хотя бы, чтобы не ограничивать себя пределами науки о письме, о споре Кох – Вирхов. У Йенсена к этому присоединялась еще страстная нетерпимость энтузиаста-дилетанта (а в хеттологии он был дилетантом и в прямом смысле слова, поскольку занимался ею ради собственного удовольствия, и в переносном).
Особенно это сказалось в 1923 году, когда молодой немецкий ассириолог Карл Франк подошел к хеттским иероглифам с совершенно новой стороны. Кончилась большая война, и Франк, имевший возможность ознакомиться с методами дешифровки военных кодов и шифрованных депеш, решил употребить свои знания на что-то более разумное. Путем систематизации знаков, установления того, насколько часто каждый из них встречается, классификации их по значимости, учета вариантов и так далее, а также в результате сопоставления с материалами из других ориенталистских источников ему удалось расшифровать несколько географических названий. Йенсен, считавший иероглифы областью, где лишь он полноправный хозяин, набросился на Франка, как панский лесник на браконьера: эпитеты, которыми он наградил молодого ученого, мы встречали в ориенталистских журналах только в переводах 46 проклятий Хаммурапи. «Остается, пылая от гнева, отбросить перо», – заключал он свою статью, которая, по идее, должна была явиться объективной рецензией на работу Франка.
Однако Франк в отличие от других своих коллег не сдался. Он прибег к последнему оружию малых против великих – насмешке. Он отдал обязательную дань почтения старейшине немецких ассириологов, который в расшифрованных названиях городов видел титулы правителей, и с серьезным видом спросил его, «не следует ли нам и в часто встречающихся изображениях ослиных и воловьих голов усматривать идеографические символы царей?…»
Нет смысла останавливаться дольше на этом и подобных спорах: какой бы неприятный осадок ни остался у нас от них, они доказывают, что нет ни одной области науки, где старое не сопротивлялось бы новому, что новому приходится отвоевывать свое место под солнцем. Еще они доказывают, что даже специалисты по филологии древнего Востока, представители «самой сухой и далекой от жизни науки», не всегда бывают холодными учеными.
В остальном же метод Йенсена – что самое удивительное в этой истории – был принципиально верным. Йенсен исходил из правила, которое он сам открыл и которое с большим успехом впоследствии применил Форрер: не стараться установить в первую очередь фонетическое значение знака, а сначала добраться до смысла текста по косвенным данным, то есть стараться, по сути дела, разгадать текст, и лишь потом заниматься отдельными знаками. Но что пользы в правильном методе, если главная посылка ошибочна? Йенсен считал иероглифический хеттский язык ранней формой… армянского языка!
Но – при дешифровке древнего письма всегда находится свое «но»! – несмотря на это, он пришел к одному важному частному выводу. Мы помним, что в египетских иероглифических текстах имена фараонов всегда заключены в особые овальные рамочки (картуши). Нечто подобное встречается и в хеттских иероглифических надписях. Йенсен обратил внимание на особое орнаментальное украшение і обрамлявшее разные иероглифические знаки. Оно напоминало балдахин: его крышей было «крылатое солнце», очень похожее на эмблемы ассиро-вавилонских царей, а эту крышу подпирали два столба, заканчивающихся волютами – волютами прямо-таки в ионическом стиле! Позднее действительно оказалось, что этот балдахин, за которым утвердилось название эдикула, имеет в хеттских иероглифических надписях то же значение, что и картуш в египетских, и так же легко, как ребенок в кукольном театре узнаёт короля по короне, сейчас ориенталист узнаёт в хеттском иероглифическом тексте имя царя по эдикуле!




Так шаг за шагом продвигалась дешифровка хеттских иероглифов в течение целой четверти столетия. Каждый год приносил хотя бы одну новую книгу, но, впрочем, он далеко не всегда приносил новое правильное прочтение хотя бы еще одного знака. Англичанин Р. Томпсон издал в 1913 году «Новую расшифровку хеттских иероглифов», в которой, однако, расшифровал только один (не всегда используемый) определитель личных имен, а его земляк А.Э. Крули в 1917 году расшифровал знак (и установил его отличие от знака который равнозначен союзу «и» и присоединяется к слову как латинское que. (Знак же расшифрованный еще Сэйсом, представляет собой детерминатив для обозначения бога.) Сколь долго могла таким темпом продолжаться дешифровка, если хеттологи не могли прийти к общему мнению даже насчет того, какое количество иероглифов вообще существует – 40 или 400? И являются ли, например, иероглифы четырьмя самостоятельными знаками или четырьмя вариантами одного и того же знака?
До сих пор отдельные ученые трудились над расшифровкой хеттских иероглифов самостоятельно, лучше сказать – изолированно. Их неудачи показали, однако, что и в изучении древних языков эпоха отважных пионеров, полагающихся исключительно на собственные силы, миновала. Как и в остальных областях науки, лучшие умы должны были объединиться, потому что победу можно было одержать лишь совместными усилиями. Она могла быть достигнута только в коллективе, в котором каждый человек не теряет своей индивидуальности, а коллектив в целом устраняет недостатки отдельной личности, чтобы обеспечить общее продвижение вперед.
К счастью для хеттологии, она такой коллектив создала. Его членами стали ученые разных народов и разных специальностей, объединенные общим стремлением решить загадку хеттского письма, даже если за нею окажется лишь мертвая пустыня, как за ледяными барьерами побережья Антарктиды. Стать бойцами передового отряда этого международного коллектива вызвались ученые пяти стран – и никто не спрашивал, больших или малых, – Швейцарии, Италии, Соединенных Штатов Америки, Германии и Чехословакии.

Эдикула с именем хеттского царя Тудхалияса IV (с рельефа, относящегося ко второй половине XIII века до н. э.)
Статистика и динамит на службе археологииПервым в этой пятерке нападения был швейцарский профессор Эмиль Форрер (он родился в 1894 году в Страсбурге), с именем которого мы уже встречались. В первый раз его имя облетело мир в 1919 году, когда он доказал, что хетты не говорили по-хеттски (свою научную карьеру Форрер начал в Цюрихском университете, потом стал профессором в Берлине; когда же центр западной ориенталистики переместился из Германии в Соединенные Штаты, то ученый перешел в университет Балтиморы, а затем Чикаго; сейчас он преподает в Сан-Сальвадоре). Сначала Форрер занимался хеттской клинописью, но в 20-е годы все свое внимание сосредоточил на хеттских иероглифах.
Его метод представлял собой творческую комбинацию всех известных до тех пор методов дешифровки. Те, кто говорит, что вот это у него от Йенсена, другое – от Гротефенда, третье – от Грозного, совершенно правы; однако, критически используя и соединяя отдельные элементы всех этих методов, он создал качественно новый метод, правильное применение которого способствовало прогрессу всей хеттологии.
«Понимание смысла текста должно предшествовать фонетическому прочтению». Форрер строго следовал этому принципу Йенсена и, так же как Грозный в 1915 году, главное свое внимание обратил на идеограммы, которые он мог понять, даже не зная, как они произносятся. Подобно Франку, он учитывал, насколько часто встречаются отдельные знаки, и опять-таки как Грозный, составлял таблицы с рядами знаков, чтобы установить префиксы и суффиксы, а тем самым и грамматический строй языка. Следуя примеру Гротефенда, Форрер искал формулы, несомненно повторяющиеся и в иероглифических текстах: зачины царских надписей, вводные фразы писем и особенно проклятия, которыми в этой части света и в ту эпоху кончалась каждая надпись, закон или государственный договор. (Чем длиннее и решительнее бывали эти благочестивые пожелания, тем большее значение имел документ.) Наконец, как Шампольон и Роулинсон, в качестве отправной точки дешифровки Форрер избрал имена царей (идеограмму, обозначающую титул царя, он установил одной из первых), а кроме того, использовал – тоже отнюдь не новый – сравнительно-аналитический метод, чтобы определить, например, как изображение той или иной особы может помочь в понимании текста рядом с ней, какова зависимость знака-рисунка от его первоначального смысла, насколько взаимосвязан строй языка иероглифических и клинописных текстов и так далее.
Когда в 1932 году Форрер издал свой труд «Хеттское иероглифическое письмо» (это было переработанное издание его «Предварительных сообщений», прочтенных в Лейдене и Женеве), весь коллектив хеттологов уже знал, что он не только правильно расшифровал ряд знаков и слов, но и, как сказал И. Фридрих, «пролил ясный свет на грамматическую структуру и весь синтаксический строй языка иероглифов во всех его подробностях».
Вторым членом этого коллектива был итальянец Пьеро Мериджи, профессор Падуанского университета и языковед с мировым именем: один из тех, кто расшифровал ликийские и лидийские тексты, издатель крито-микенских надписей, исследователь до недавних пор малоизвестного лувийского языка и прежде всего – один из тех, кому принадлежит честь дешифровки хеттских иероглифов.
Свой научный путь Мериджи начал в Германии; он преподавал итальянский язык в Гамбурге и изучению хеттского языка мог посвятить только свободное время. Когда биограф ученого (Э. Добльхофер) спросил, каковы его научная подготовка и метод, он ответил, что более всего обязан работе в механической мастерской своего отца, ибо такая работа «лучше всего способна преподать урок научного подхода к любому вопросу».
Первых результатов, которые Мериджи счел возможным опубликовать, он добился в 1927 году. Результаты не выходили за рамки обычных монографических исследований, впрочем, в науке иначе и быть не может; только поэту порой удается уже в первом юношеском произведении достигнуть вершины собственного творчества. Но в 1930 году Мериджи опубликовал в берлинском «Ассириологическом журнале» статью, которая кончалась фразой: «Важнейшим выводом этой работы, выводом, который я должен в конце своего сообщения подчеркнуть еще раз, является то, что, как мне кажется, в одной группе знаков мною установлено слово «сын».
Мы знаем, какое значение для дешифровки древних надписей имеет слово «сын»: оно позволяет установить родственные связи правителей, а тем самым и их имена. Потом Мериджи прочел слово «внук» и, наконец, «властитель» (буквально «государь страны»). Это был прорыв до тех пор неприступного фронта таинственных иероглифических текстов. Ученые, наступавшие во втором эшелоне, тотчас углубили его. Результатом их трудов явились первые генеалогические таблицы хеттских властителей Каркемиша и Мараша.

Слова «сын» (последнее слово во второй строчке) и «внук» (последнее слово в третьей строчке) в прочтении Мериджи. Слова перед ними означают титул «государь страны»
Третьим был Игнаций Д. Гельб, американец, но только по своему официальному гражданству: он родился в 1907 году в Тернополе на Украине. Интерес к мирам, затянутым дымкой прошлого, пробудил в нем роман Мора Йокаи, герой которого отправляется в Среднюю Азию, чтобы найти прародину венгров. Способный и целеустремленный юноша изучает древние и новые языки, в 18 лет уезжает в Италию, а в 22 года получает диплом доктора Римского университета, защитив диссертацию на тему «Древнейшая история Малой Азии». Готовя ее, Гельб сталкивается с хеттской культурой, которая для любознательного человека, каковым является всякий ученый, представляет слишком заманчивый орешек, чтобы можно было удержаться от соблазна раскусить его. Когда в 1929 году Гельб переезжает в Чикаго, к тому времени крупный центр американской ориенталистики, перед ним стояли уже иные исследовательские задачи, и «со своей возлюбленной, речью хеттов, он может проводить только ночи». Плод этой любви – труд «Хеттские иероглифы», первый том которого вышел в 1931 году (второй – в 1935 и третий – в 1942). На Всемирном конгрессе ориенталистов в Лейдене в 1931 году Гельб выступает не только как самый молодой докладчик, но и как признанный член международного хеттологического авангарда.
Как всякий ученый, Гельб отправляется затем за новым материалом. Не раз – опять-таки как всякий ученый – идет по ложному следу; дни и ночи едет по пустынным областям Центральной Турции ради надписи, которая – как потом выяснится – была вовсе не надписью, а узором трещин на выветрившейся скале. Он в слишком большой степени стал американцем, чтобы в случае необходимости не прокладывать себе путь динамитом и долларами. Близ Кётюкале в Киликии текст находится на выступе нависшей над рекой скалы; две экспедиции вернулись уже, ибо надпись была «абсолютно недоступна». Гельб подкупает руководителя работ на строительстве проходящей неподалеку дороги, рабочие просверливаютВскале отверстия, вкладывают туда динамитные шашки, раздается взрыв – и, когда туча пыли и щебня оседает, путь для охотника за хеттскими надписями открыт…

Некоторые прочтения Гельба оказались ошибочными, но важно то, что он распознавал в знаках глагол a-i-a («делать»), который был не только первым достоверно прочитанным глаголом хеттского иероглифического языка, но и первым доказательством его родственной близости с хеттским клинописным языком. Будущее показало, что именно этому глаголу суждено было стать ключом к расшифровке хеттского иероглифического языка. И к тому же при обстоятельствах, которые ни один серьезный ученый не счел бы правдоподобными. Еще одна весьма значительная заслуга Гельба – решение вопроса, остававшегося до тех пор дискуссионным: сколько знаков в иероглифическом письме. Он установил, что помимо большого количества идеограмм («логограмм», как он их называл) в хеттском иероглифическом письме имеется только 60 фонетических знаков и что, следовательно, оно является слоговым письмом, отличающимся той единственной особенностью, что, как правило, согласный здесь следует за гласным![10] [10]Главной заслугой Гельба было построение системы передачи сочетаний всех согласных с гласными в этом письме. – Прим. ред.
[Закрыть]
Четвертым в этой пятерке нападающих был немец Хельмут Теодор Боссерт – но о нем позднее и подробнее.
Пятым был Бедржих Грозный.
«После прочтения клинописных хеттских надписей я посвятил себя исследованию хеттских иероглифических текстов. Моими соратниками в этой области были ученые Боссерт, Форрер, Гельб и Мериджи. В 1934 году я предпринял пятимесячное путешествие по Малой Азии, чтобы скопировать там ряд неизданных или не полностью изданных иероглифических надписей», – писал Грозный в одной из своих последних работ, которую он назвал «Краткое обозрение моих научных открытий».
Когда в начале июля 1934 года он снова увидел синие воды Мраморного моря, которое соединяет (хотя чаще пишется: разделяет) Европу и Азию, то поверил наконец, что экспедиция его действительно состоится. Ни одно из его путешествий не было связано с такими трудностями – правда, не техническими, а финансовыми. Чехословакия, как и все капиталистические государства, билась в судорогах экономического кризиса, государственные доходы падали, правительство экономило на всем – и на школах и на пособиях по безработице. Нет надобности объяснять, какой успех имело у министра финансов прошение Грозного об ассигновании средств на новую экспедицию.
Впрочем, еще до начала кризиса, в период послевоенной конъюнктуры 1927–1929 годов, Грозный просил субсидию для продолжения раскопок на Кюльтепе. Когда о его финансовых затруднениях узнали немцы, его посетил профессор Юлиус Леви и сказал, что он мог бы найти в Германии средства, необходимые для продолжения раскопок на Кюльтепе.
– Я не сомневаюсь, что необходимые средства найдутся и у нас, – ответил Грозный.
Аргументы Леви звучали убедительно:
– Неважно, кто будет финансировать экспедицию, – ведь наука имеет международный характер.
– Разумеется, международный! Но я играю за нашу национальную сборную!
Однако менеджер этой национальной сборной, если так можно было назвать главу правительства «панской коалиции», отказал в субсидии для продолжения раскопок на чехословацком земельном владении близ Кюльтепе. «Мы – маленькое государство и не можем позволить себе такую роскошь». А министерство школ, шеф которого еще недавно торжественно поздравлял Грозного, отказало и в его просьбе о субсидии для простой научной командировки в Стамбул и Богазкёй! Более того, оно отказалось оплатить путевые расходы по поездке Грозного в Рим на Международный конгресс лингвистов и в Париж на его подготовительное заседание, так что Грозному пришлось просить господина М. Дюссо из Французской академии прочитать его доклад! Этому трудно поверить, но многому в истории предмюнхенской республики сейчас трудно поверить.
Хотя объективные предпосылки для экспедиции Грозного были чрезвычайно неблагоприятны, он не отступил.
Дальнейший прогресс в дешифровке хеттских иероглифов требовал прежде всего проверки на месте некоторых спорных надписей. Деньги на поездку он буквально выпросил – «правда, с благородной гордостью испанского нищего» – у Бати и в Шкодовке,[11] [11]Разговорное название концерна «Шкода». – Прим. перев.
[Закрыть] в бухгалтерии которых они были занесены в рубрику «расходов на рекламу».
И вот Грозный снова проходит по ущельям Тавра, снова спит в постелях, кишащих клопами, снова направляется к целям, определенным еще в Праге. На этот раз, впрочем, без лопат и кирок, лишь с проводником, которого ему предоставило турецкое правительство.
«К числу самых крупных и важных «хеттско»-иероглифических надписей принадлежит Топадская, или, точнее, Аджигёльская, надпись, вытесанная на большой скале. Автографию этой надписи издал Х.Т. Боссерт в «Восточном литературном журнале», 37 (1934), стр. 145 и поел., по фотографии и копии Малоазиатского отделения Берлинского музея. Часть же этого текста не была до 1935 года ни переписана, ни переведена», – начинает Грозный рассказ о «главной цели своей археологической экспедиции в Малую Азию в 1934 году» (в третьем томе его «Хеттских иероглифических надписей»).
«В сопровождении Салахаттина Кандемир-бея из анкарского Министерства народного образования 28 октября 1934 года я прошел 23 километра, отделяющих Невшехир от Аджигёля. Топада, в то время называвшаяся Аджигёль, находится к юго-западу от Невшехира. Это деревня с 1800 жителей, центр нахие (уезда)… Мы остановились в доме мухтара (старосты) Мехмеда; иного выбора, кроме как воспользоваться его гостеприимством, у нас не было. В течение 5 дней, по 1 ноября включительно, каждое утро мы отправлялись в бричке к местонахождению нашей надписи, примерно в 6–7 километрах к югу от Аджигёля. Этих пяти дней мне хватило на то, чтобы проверить правильность первоначального издания надписи, которую я переписал и перевел в первый раз в журнале «Архив ориентальны», VII, стр. 488 и поел. Теперь, спустя два года, я предлагаю вниманию читателей переиздание этой статьи с рядом уточнений и с новыми фотографиями надписи… Должен, однако, добавить, что этот перевод, так же как характеристика его содержания, являются, на мой взгляд, лишь первым опытом, который я предпринял, стремясь преодолеть необыкновенные трудности этого текста…» Затем на 26 страницах следовал перевод со 187 подстрочными примечаниями и двумя добавлениями.