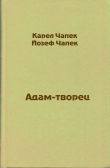Текст книги "Как сон"
Автор книги: Войцех Кучок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 13 страниц)
Довольно с нас одной этой фоновой сцены, остальное при монтаже состыкуется, добавим только, что ребенок по дороге в магазин налетает на сильно разозленного Красавчика (доктор разминулся с тобой, Красавчик, и даже головой не кивнул, не поприветствовал, ты расстроен, пытаешься понять, специально он это сделал или просто не заметил, и на всякий случай злишься). Красавчик демонстрирует железную хватку здоровой руки, поднимает пацана за шкирку и держит над землей, сучащего ногами, пытающегося освободиться.
– Отстань, я за сигаретами отцу!
(Эй, Красавчик, не сердись на малолеток, зря теряешь время, Адам только что пришел домой, может, еще не лег спать.)
– Плюнешь дальше, чем я, тогда отпущу.
Красавчик опускает парня на тротуар, втягивает носом, отхаркивает тяжелую флегму из самых глубоких пазух и наконец с силой выплевывает ее на другую сторону улицы, почти достав до противоположного тротуара; парнишка ловчее: никакие сопли не могут сравниться со старой жвачкой; у ребенка в карманах много всякой гадости, жвачка уже давно иссохлась в твердый шарик, ну и пожалуйста, сейчас выстрелила из его рта точно артиллерийский снаряд, противоположный тротуар взят, свобода завоевана, можно бежать в магазин за дешевыми сигаретами и новой жвачкой.
Красавчик выходит из укрытия, сосед занят «выстраиванием» жены, хоть он и закрыл окно, но все равно отчетливо слышны визг, поток брани, настойчивый, как джазовое соло бездарного саксофониста, который громкостью пытается восполнить отсутствие техники; крик пролезает через дрожащие стекла, сосед огрызается и т. д., во всяком случае, Красавчик может какое-то время незаметно стоять под домом Адама и смотреть в сторону окон на его этаже, в которых ничего не видать; он мог бы свистнуть, но не хочет обращать на себя внимание, лучше сразу войти внутрь.
Адам уже спал бы, если бы не телефонный звонок Матери; Мать расспрашивает, беспокоится, говорит, что скучает. Адам дремлет с трубкой у уха, уже без ботинок, без носков, брюки тоже практически снял; ладно, пусть мамаша выговорится до конца и даст ему наконец поспать после дежурства, но она еще только это и еще вот это, совсем забыла, ну и конечно, должна ему сказать, что уже все растолковала Отцу, уже его уговорила и что он уже совсем не сердится, понимает, что стремления сына надо уважать, а с домиком ничего не станет, может подождать, так что ты, Адась, скажи нам, когда лучше всего к тебе приехать, мы бы тебе чего-нибудь привезли, а я бы поубирала у тебя, погладила бы, у тебя-то небось совсем нету времени такими делами заниматься, ну, так когда можно тебя навестить в этом городе… Адам говорит, что ему все равно когда, лучше с утра или в обед, а может, в воскресенье. Адаму действительно все равно, он даже не понимает, на самом ли деле он слышит стук в дверь, или это ему только снится, нет больше сил говорить (стук повторяется, он явственнее, чем полудрема). Адам встает, как лунатик подходит к двери, открывает и оказывается лицом к лицу с Красавчиком.
Сон как рукой сняло.
5
Пока Жене не захочется покинуть постель, постучаться в дверь и вызвать Роберта на разговор, ванная – одно из немногих мест ненарушаемого уединения на территории дома. Душ слышен через дверь; Роберт уже давно вымылся, а сейчас просто сидит, собирает мысли последних нескольких часов, упорядочивает их, тревожно замечая, что все они концентрируются вокруг состояния его здоровья и все тяжелы, потому что обросли недобрыми предчувствиями. Душ изливает воду, а душа изливает печаль каждый раз, когда Роберт пытается думать о протекшей, как вода сквозь пальцы, жизни; самое время вспомнить, что ты смертен; смерть тоже думает о нем. Роберт не боится смерти, он боится болезни, больницы, вони дезинфекционных средств в процедурном кабинете, в операционной, он боится сине-белого жесткого больничного пододеяльника, баночки с компотом, который он будет не в состоянии выпить, но больше всего он боится боли. Боль уже давала знать о себе, посылала сигналы, предупреждала, отправляла телеграммы, проверяла его стойкость, каждый раз позволяя себе все больше, даже вот только что, под душем, она провела испытательный взрыв где-то в позвоночнике, ну да ладно, небось у каждого иногда постреливает в пояснице. Роберт уже понюхал первые цветочки боли, он боится, что, не ровен час, все в нем болезненно расцветет. Он пытается представить, как будет выглядеть во власти страдания, свою борьбу за право на безболезненность. Можно ли привыкнуть к боли? Какой она будет? Неотступной, непереносимой, диктаторской, не терпящей возражений, или она сомнет его до основания в несколько мгновений на одре болезни? Роберт боится кнопок над кроватью, которыми пользуется пациент, чтобы вызвать медсестру; вызовет и молится, чтобы пришла поскорее и сразу с нужным уколом, а не так, чтобы дежурила одна из тех молодых, которые приходят и спрашивают: «Что с вами? Ах, болит? Ну хорошо, сейчас я сделаю вам укол», а потом снова уйдет к себе в дежурку найти лекарство, приготовить инъекцию и вернуться, а на все это уходит время, минуты судорожного теребления пододеяльника и сминания простыни; Роберт боится минут, во время которых он весь будет отдан такой боли, что даже не застонет, потому что испугается, что боли могут не понравиться его стоны, что в наказание она может усилиться; стонать можно только тогда, когда укол начинает действовать и ты чувствуешь, что боль говорит «пока» (и это хуже всего, смертельно больные стонут не от боли, а от скорби, что боль никогда не говорит «прощай», а всегда «пока», «бывай»; «бывай» – самая изощренная из формул прощания, потому что боль знает: смертельно больные уже не существуют, а только бывают; здоровые живут постоянно, больные – только в минуты просветления, их жизнь дала трещину, время просветлений – время собирания все более мелких осколков и попытки их склеить; смертельно больные здоровы только в осколках, во фрагментах, уже не получится, чтобы все фрагменты были одновременно готовы к жизни, но случаются минуты, в которые большинство из них мобилизуется, – и тогда больные чувствуют что-то вроде облегчения). Роберт ищет выход из камеры дурных предчувствий, – в конце концов, приговор еще не вынесен, во всяком случае не оглашен, последняя встреча со специалистом должна произойти через несколько десятков часов, и в течение этого времени, как бы нездорово, болезненно и даже смертельно слабо он себя ни чувствовал, он будет все еще по эту сторону – в мире здоровых; пока он не знает ничего наверняка, пока последний из полученных анализов не будет детально изучен и добавлен в качестве доказательства против него, он все еще по эту сторону жизни. Даже если он неизлечимо болен, Жена ждет его в постели, и, быть может, именно сейчас подворачивается уникальный случай стать счастливым отцом, а вернее, тот самый случай, чтобы существо, которому он даст жизнь, получило бы гарантию счастливого детства. С тех пор как он покинул сущий ад родительского (но о них тсс!) дома, Роберт не разговаривал со своим отцом до самой его смерти; мертвый отец не перебивает, не встревает в разговор с целью унизить, мертвый отец слушает и молчит, как могила, в которую его опустили; с тех пор как он покинул тот адский дом (тсс!), Роберт уверен, что лучше всех со своими отцами находят общий язык дети, родившиеся после смерти отца.
Жена лежит в постели и непохоже, что она ждет не дождется мужа, читает модный женский журнал – на самом деле читает, а не просто листает, и хуже всего то, что она вчитывается в ряды букв, прикидывающихся словами, в колонки слов, прикидывающихся предложениями, и в предложения, прикидывающиеся текстом, и делает она это в уверенности, что таким образом получает дневную порцию чтения, необходимого для правильного духовного развития и поддержания умственной активности. К книгам Жена обращается редко, а когда читает их, практически тут же засыпает, лежа, сидя, вечером, средь бела дня – все равно: литература ее усыпляет, а модные журналы – нет; Роберт недоумевает, не пропитаны ли их страницы каким-нибудь возбуждающим средством. Жена говорит, что не читает книги с тех пор, как Роберт перестал писать; таким хитрым способом она придает своей умственной лени измерение демонстративного поста, голодовки протеста; это его, Роберта, вина: он был ее любимым писателем, над его книгами она никогда бы не заснула, другие книги навевают на нее скуку, так что он может больше ей не предлагать книги других писателей. Жена лежит и читает, одеяло сползло у нее с ноги, слишком откровенно обнажив все самое сокровенное, лоно безгрешно раскрылось и дремлет или, скорее, симулирует дремоту, игриво нацелившись на Роберта, его взглядом вдохновляемое, потому что совсем не кажется напряженным, призывно влажнеет, так что не подлежит сомнению, что Жена все-таки намеренно принимает такую позу, а случайное сползание одеяла и сгибание ноги не такие уж и случайные: Жена искусно выбрала эту позу и придала ей вид случайности; Жена – мастер создавать иллюзию случайности, ее маленькая грудь не выносит бюстгальтера, зато она прекрасно годится для якобы случайных выглядываний между бортами не застегнутой доверху блузки, в декольте во время неловко ловкого наклона, в, казалось бы, плохо подобранном, слишком просвечивающем платье; Жена любит играть на чувствах мужчин, потому что всегда выигрывает. Роберт начинает церемониал прохождения языка по ноге с самого низа до самого верха. Жена пока еще не протестует, она любит эту неспешность, распаленная пипочка ждет своей очереди, теоретически она горит от нетерпения, но это как раз и есть самое приятное; если бы Роберт слишком быстро добрался до пункта назначения, он испортил бы всю игру, он должен кружить, нежно вылизывая промежность, приближаясь по депилированным окрестностям, пока Жена не почувствует, что готова воспарить; только тогда ему можно тихонечко постучать в дверь, а принц-язык может приступить к методичному открыванию замка, в котором сокрыта принцесса-горошина, а потом уже сильнее, энергичнее, быстрее, с обеих сторон, вдоль и поперек губами в губы, тем не менее не отрываясь от главного объекта – принцессы-горошины, он не может потерять ее с языка, да и незачем терять, врата замка все равно останутся закрытыми, особенно если их пытаться пробить тараном. Как только Роберт прекращает поцелуи и пытается поместить отвыкший от работы член в тепленькое местечко, Жена хватает его за волосы и призывает к порядку или просто отпихивает, объясняя, как всегда:
– Ты ведь знаешь, что нам нельзя это делать.
– Опять какие-то фантазии.
– Нельзя: беременность убьет меня, я больна.
– Ничем ты не больна, а кроме того, человечество придумало пару верных способов предохранения.
– Но ни один из них не дает гарантии на сто процентов!
И так кончается очередная попытка зачать ребенка, который мог бы родиться уже после его смерти. Роберт пытается еще раз, но не может подлезть со своими нежностями и поцелуями, Жена обижена, холодна, закрыта. Роберт тем не менее пытается силой (уже много месяцев Жена называет сексом примитивное разрубание узла его страстей: она берет в свои руки штурвал семейной лодки, а через несколько минут идет в ванную вымыть руки, тогда как Роберт, почувствовав облегчение, засыпает), сегодня он твердо намерен любиться с ней во что бы то ни стало, потому что потом, когда боль в нем основательно поселится, такого случая уже может и не представиться.
– Перестань клевать меня своим… Я же тебе ясно сказала: нет! – Жена встает, поправляет пеньюар, не оставляя ему шансов. – Или ты успокоишься, или я иду спать к родителям.
– Боже, я с тобой больше не выдержу.
– Ты умеешь только брюзжать и стращать, уж больно ты на язык ловок.
Роберт раскрывает книгу, Жена возвращается в постель, берет журнал, но только на минуту, она взвинчена, буквы перестали прикидываться словами, она не может читать, хочет погасить свет и уснуть, а этот опять при свете с головой уйдет в чтение, надо что-то сделать, чтобы его выключить.
– Написал сегодня хоть что-нибудь?
Роберт не отвечает, уперся и, видать, на самом деле собирается читать, несмотря на упреки, что не пишет; ничего ведь так и не написал, и Жена об этом прекрасно знает, иначе не стала бы спрашивать. Она находит под одеялом его член, еще горячий, но отвергнутый, обиженный. Жена снисходит к нему, берет его в рот и не собирается выпускать до тех пор, пока не получит репарации; обычно это длится недолго, впрочем, процесс можно и ускорить, поскрести коготочками; так даже удобнее, не надо идти в ванную, достаточно проглотить, потом повернуться спиной и спать. Свет он погасит сам.
– Сколько я с тобою сплю, никогда мне ничего не снится, слышишь?
Роберт не лжет, ему никогда ничего не снилось, он пытался уговорить себя, что сны ему снятся, только он не может вспомнить их, во всяком случае, он всегда был как бы отрезан от снов и всегда переживал это как свою неполноценность, но, когда его спрашивали, хорошо ли он спал, ему не на что было пожаловаться, и действительно: кошмары его не беспокоили, спал он в полной отключке, ровно, слепо. «Даже зверям снятся сны, – думал он. – Я несчастен. Жизнь без снов – это жизнь без смысла, – думал он. – А ведь есть люди, которые и разговаривают во сне, более того, разговаривают на неизвестных им языках», – жаловался он мысленно. Из того, что ему не снились сны, он делал метафизические выводы: ему казалось, что отсутствие снов – это признак отсутствия души, и боялся, что жизнь после смерти – этот бесконечный сон бессмертной души – обойдет его стороной; молитвы о даровании сновидений также не давали результата. «Бог не слышит меня, потому что я молюсь только умом, а не душой. Потому что я человек бездушный» – вот какие мысли терзали его.
– Слышишь?
Жена не слышит его, что-то бормочет и вертится во сне, Роберт решил потревожить ее, потому что догадывается, что у Жены эротический сон, он ревниво смотрит на нее, ему кажется, что Жена изменяет ему с ним же самим (ему в голову не приходит, что Жене может сниться кто-то другой). Из-за стены доносится передаваемая в это время по радио молитва, минуту спустя молитва приближается со стороны двери в портативном радиоприемнике, поднесенном к уху Тещи, которая каждый день на заре приходит проверить, чтобы зять не проспал. Превыше всего Теща ценит семейную гармонию и порядок, она верит, что порядочный человек – это такой человек, который подчиняется определенному порядку, принципам гармонической жизни; Теща борется за порядок в доме, заботится о завтраке для мужчин. Она разделяет традиционные ценности, в числе которых борьба за семейную гармонию, а потому она крутится по кухне в халате, заваривает чай, ставит тарелку с бутербродами на стол; мужчины садятся за стол в выходных костюмах. Тесть открывает ноутбук и читает под кофе последний выпуск интернет-газеты, потом вбивает свою фамилию в поисковик и проверяет, где что сказано о нем нового за последние двадцать четыре часа, не важно – плохого или хорошего, потому что хуже всего будет, если в какой-то из дней ничего нового не появится, Тесть не хотел бы дожить до такого дня, когда не найдет о себе никакой свежей информации; Тесть боится не столько смерти, сколько несуществования. Он боится, что мог бы скатиться в несущественность, панически трепещет от одной только мысли, что настанет такой день, когда его поступки, речи, все, что он сделает, станет несущественным и в СМИ не будет никакого упоминания; несущественность – это несуществование. Тесть еще в детстве заболел мыслью иметь улицу своего имени, с той поры он всегда расспрашивал о тех, в честь кого названа та или иная улица; где бы он ни появился, везде он читал таблички с фамилиями тех, в честь кого названа улица, и проверял, чем тот прославился; детство Тестя выпало на то время, когда улицы называли в честь так называемых деятелей; когда нельзя было найти никаких сведений о том, в честь кого названа улица в маленьком городке, старшие говорили: «Наверное, это был какой-то деятель», так что Тесть решил, что будет деятелем, что бы это слово ни значило. Со временем он понял, что деятель – это такой человек, деяния которого существенны, заметны, фиксируются и остаются в памяти, чаще всего именно потому, что он – представитель властей, а значит, его деятельность влияет на ход всех важных дел и, как знать, может, и истории. Тесть пребывает у кормила власти так давно, что, видимо, не выжил бы, если бы его лишили власти. Он тогда мог бы действовать, сколько душе угодно, но никто не обратил бы на это никакого внимания. Тесть со страхом ждет того дня, когда не найдет о себе ничего нового в прессе. Есть еще одна немаловажная привилегия, от которой отвыкнуть в городе с низкой пропускной способностью дорожной сети невозможно: Тестю, как высокопоставленному деятелю с депутатским иммунитетом, положена мигалка, благодаря которой вечно забитые улицы для него не являются проблемой: когда он едет со спецсигналом в правительственном лимузине, машины сами расступаются, словно Красное море перед Моисеем, нет такой пробки, которую мигалка не смогла бы выбить; Тестю пока еще не случалось стоять в пробках, он не знает, как это иногда бывает приятно, Роберт не разговаривал с ним об этом.
– Опять меня цитируют.
Сегодня Тесть очень доволен, вчера он был в хорошей форме: мало того что он довольно удачно выступал в сейме (большинство депутатов из его фракции испытывают трудности с формулированием мысли, так что прибегают к его врожденному ораторскому таланту, Тесть – записной оратор, голос своей партии, хорошо смотрится в СМИ, его невозможно вывести из равновесия), так он еще добавил в кулуарах, там всегда говорят то, о чем не принято говорить с трибун, но журналисты рассчитывают как раз на эти его неофициальные высказывания, цитируют его как «депутата, который просил не называть его имени», но и так всем известно, о ком речь, Тесть в качестве депутата, просившего не называть его имени, – любимец СМИ, он получил предложение от нескольких солидных издательств опубликовать свои высказывания в книге под названием «Депутат, который просил не называть его имени», но Тесть пока что не соглашается, он пока подождет, он не хочет вступать в конкуренцию с зятем; в конце концов, кто писатель – он или Роберт? Тем временем Тесть читает вслух свое исключительно остроумное интервью, а Теща, которая уже соблюла утреннюю гармонию, подала завтрак и поправила мужу галстук, начинает сердиться:
– Почему опять неофициально, почему без упоминания фамилии? Это говорит об отсутствии личной смелости. Это свидетельствует о том, что совесть нечиста. Это худший вид трусости и конформизма. Его преподобие всегда говорит прямо и без обиняков, он не боится, что кому-то это может не понравиться. Достаточно только начать служить Истине, и человек сразу перестает бояться; может быть, тебе как-нибудь попробовать?
Тесть и эту чепуху, прямо из радио перенятую, пропустил бы мимо ушей и не стал бы комментировать, но за столом сидит Роберт, как раз доедает завтрак и прислушивается, а в присутствии Роберта Тесть обязан остаться хозяином положения, а потому отвечает:
– Моя дорогая, дипломатия требует до определенного времени сообщать некоторые сведения анонимно. Здесь преследуется одно: чтобы само общество первым под ними подписалось.
И прежде чем Теща успеет еще что-нибудь выдать, Тесть меняет тему; он вежливо, но решительно (как он сам говорит, он никогда ничего не достиг бы в жизни и особенно в политике, если бы не вежливая решительность) спрашивает Роберта:
– Ну и как там писательство?
– Да никак. Нет вдохновения.
– Вдохновение? Оно нужно поэтам. А вот если у тебя не хватает идей, я мог бы посодействовать…
– Я не говорю, что у меня нет идей. Просто я не могу писать.
– Что это значит? Что это за цацканье какое-то, нянченье с собой? У тебя есть талант, вот и возьми себя в руки, садись и пиши…
– К сожалению, никак. Не могу. У меня слова устали.
Роберт откашливается, не кончает завтрака, допивает кофе, благодарит, встает из-за стола и направляется к выходу. Тесть в бешенстве, ему претит такая невразумительная позиция, активный политик не может понять художника в состоянии релакса, активный деятель раздражен бездеятельностью творца, потому что творец обязан творить. У Тестя есть еще надежда, что это просто такое кокетство и что на самом деле Роберт потихоньку крапает себе какой-нибудь эпохальный роман, но прячет до поры до времени, предпочитает хранить его в тайне; так, наверняка именно так дело и обстоит, недаром же дочь уверяла его, что Роберт гений и вскоре получит Нобелевскую премию, ну а премия – ясное дело – сделает Тестя еще более уважаемым в глазах окружения; воспитать под собственной крышей нобелевского лауреата – это вам не шутки, здесь надо терпеливо ждать, присматривать, создать тепличные условия, для того он и устраивал Роберта на тепленькое и непыльное местечко, чтобы у того было в день несколько часов полного спокойствия; гении трудны в общении, они чудаковаты и капризны, Роберт наверняка что-нибудь да пишет, только не хочет сглазить; но довольно спекуляций на эту тему, надо будет все проверить, еще раз послать к нему девушку на разведку, и пусть она только попробует вернуться с пустыми руками – враз ее уволит.
Роберт беспомощен, он сидит в подвале, смотрит в монитор компьютера и не хочет приступать к писанию, потому что единственное, что приходит ему в голову, так это роман о писателе, который не может написать роман; писать о невозможности писать – это чаще всего последний гвоздь в гроб писателя, который не может писать. Роберт не хочет быть писателем в состоянии кризиса, он вообще не хочет быть писателем, он хочет, чтобы писалось само собой, как это было у него когда-то, незаметно, без усилий; как только он замечает, что написал несколько фраз романа, герой которого писатель в кризисе, он немедленно уничтожает весь текст (всегда с помощью backspace и никогда с помощью delete, Роберт подсознательно идет за стрелкой влево, предчувствуя, что это правильное направление; лишь бы только Тесть об этом не узнал).
Роберт смотрит через подвальное окно, открывающее вид на ноги, и вспоминает, что когда-то сказал ему старый мастер, когда еще пути-дороги Роберта никто не отслеживал с семейной наблюдательной вышки, когда он не обязан был спрашивать разрешения на изменение маршрута, когда еще он захаживал к людям, с которыми мог поговорить, а не просто потрепаться; Роберт истосковался по разговору, изо дня в день он слышит вокруг себя только треп. К сожалению, в подвале судебного архива не с кем поговорить, зато есть на что посмотреть, если выпадет теплый денек, такой как сегодня. Роберт вспоминает слова старого мастера, которые он услышал в ответе на вопрос, что надо делать, чтобы само писалось. «Genius loci[4]4
Гений места (лат.).
[Закрыть], молодой человек, тебе нужен genius loci, художник должен найти свое место, такое, в котором он заключит мир с духами, в котором он будет без слов понимать дух стола, дух стула, дух чашки с утренним кофе: ты, молодой человек, должен избегать бездушных мест. Из того, что ты мне рассказал, следует, что живешь ты в бездушном месте; и, как бы ты там ни напрягал все свои чувства, тебе будет казаться, что кто-то туго стянул твою голову тюрбаном, душащим всякую мысль, все твои мысли покажутся тебе мелкими, ни одна из них не будет достойна увековечения. Ты должен избегать таких мест, такие места враждебны интеллекту; даже если тебе удастся выкрасть незаписанные истории у других мест, когда ты их принесешь с собой в место бездушное, из них немедленно выветрится genius loci и они станут никакими, лишенными ценности, ты будешь пытаться строить из них свое повествование, но ощутишь лишь немощь. Тебе, молодой человек, следовало бы переселиться; есть ведь такие места, в которых духи постоянно пируют, куда они любят ходить в гости, и, когда ты садишься творить, они тут как тут и перекрикиваются, стараясь опередить друг друга своими подсказками, каждый из них первым хочет нашептать тебе прямо в душу свою историю. Это места, в которых когда-то жил творческий интеллект; даже если творцы давно их покинули, а то и вовсе умерли, их творческий интеллект пропитал каждый квадратный метр этих мест, которые только и ждут нового постояльца, чтобы вдохнуть в него творческие импульсы. Так что, молодой человек, бросай-ка ты это свое бездушное место, поищи для себя место, где обитает genius loci, осмотрись повнимательнее, найди свой угол и приспособь к нему вид из окна, это очень важно, у каждого должен быть ежедневный контакт с природой, пусть даже только через окно. У каждого за окном должно расти хоть одно деревце, хоть часть дерева, хоть пара веток, чтобы видеть, как другой живой организм реагирует на ветер и слякоть, у каждого перед взором должно быть свое дерево, круглосуточно доступное на экране окна, постоянно меняющееся, подвижное на ветру, в гаме птичьего щебета, цветущее или роняющее листья, спокойно принимающее любое время года, долгожитель. Люди должны учиться у деревьев, они не должны соглашаться на квартиры, из окон которых не видно ни одного дерева, и уж ни в коем случае нельзя соглашаться на квартиры, из окон которых видны другие окна, окна в окна в колодцах старых домов, окна на обшарпанные и вонючие, всегда затененные дворы старых домов, такие окна тоже всегда бездушные глазницы бездушных квартир, в таких дворах люди как раз чаще всего выбрасываются из окон, в таких дворах люди, замыслившие самоубийство, усилием воли обрывают балконы и падают вместе с ними вниз, на чахлые газончики, обосранные соседскими таксами. Из своих окон люди должны видеть кусок неба и кусок дерева; я говорю вовсе не об окнах с видом на море, ни о террасах у подножия гор, я говорю о праве каждого человека на ничем не загораживаемый вид на краски неба, облаков, листьев и коры; человек, который добровольно отказывается от такого пейзажа, – человек бездушный; человек, которого вопреки его воли лишили такого пейзажа, которого приговорили к отсутствию пейзажей, – самоубийца; человек духовный, который мучится в бездушном месте, лишенный возможности повседневного контакта с природой хотя бы через окно, такой человек, даже если он пока не наложил на себя руки, все равно самоубийца, он не живет, он всего лишь оттягивает самоубийство, в его голове нет больше мыслей, кроме как о самоубийстве, он погибший человек». Тогда Роберт еще не работал в подвале и не успел расспросить старого мастера, что он думает о виде из окна на человеческие ноги, не успел с ним поговорить о том, чему могут научить ноги; потому что вскоре мастер выбросился из окна своей квартиры в старом доме, его тело упало на всегда темный и студеный, как колодец, двор, на который он смотрел в последние годы жизни.
И вдруг обнаженные ноги, знакомые, показываются за окном, а над ними прелестная шпионка в коротенькой юбчонке, что выдает себя за Практикантку, приседает и очаровательно делает ладошкой козырек над глазами, вглядываясь в окно его подвала. Роберт обескуражен, никогда до сих пор он не сталкивался с таким нарушением порядка, это меняет суть вещей, целое мировоззрение рухнуло, потому что мир подглядывает теперь за Робертом глазами красотки-Практикантки, Роберт не знает, как себя держать, куда спрятаться так, чтобы его не обнаружили; но обнаженные ноги исчезают, а это может означать, что сейчас они направляются к его подвалу и у него появится возможность поговорить или хотя бы обратиться к девушке, которая, если способна говорить, наверняка умеет так же прелестно слушать. Роберт устраивается за столом, принимая рабочую позу, выжидает, ага, уже слышно, подходит, ноги ее понесли, каблуки своим стуком предвещают ее скорое появление. Вот и она, стучится, входит, улыбается заискивающе и очаровательно, так что Роберт впервые в жизни замечает, что у него на руках волосы: они встали дыбом, он опускает рукава.
– Вы что, снова заблудились?
– Нет… Я… только хотела сказать, что знакома с вашими книгами… Читаю…
Вот те раз – Тесть, должно быть, решительно и на грани приличия потребовал немедленного прогресса в следствии, коль скоро Практикантка пошла ва-банк, неуклюже попытавшись выдать себя за Почитательницу Таланта; Роберту так бы хотелось верить в то, что эта девушка засыпает с его книгами под подушкой, что он решается развеять миф сразу:
– Что вы говорите? А какую конкретно вы читали?
Практикантка заливается румянцем (нет, видимо, нужды говорить, что выходит это у нее очаровательно), выпячивает грудь, хлопает ресницами (на экзамене это всегда помогало), голос переводит в более высокий регистр, она беззащитна, как эмбрион, в такие минуты Тесть должен чувствовать непреодолимую потребность защитить ее эфирное существо и усадить к себе на колени.
– В смысле… Э-э-э… Чита-а-аю, но не лично…
– В смысле?!
– Просто… просто я читаю о вас… Много писали в газетах. А здесь-то что вы делаете? Целыми днями в этом подвале? Вы, наверное, пишите что-то?
Очень, ну очень не хочется Практикантке, чтобы ее уволили из секретариата Тестя, она не вдается в детали, ей неохота вдаваться в дискуссию с этим трупно-бледным, нездорово выглядящим типом, она никогда не была сильна в дискуссии, молчала, хлопала ресницами, этого хватало, и так все всегда искали понимания именно в ее глазах, а этот нелюбопытный, кажется, смотрит на нее свысока; расслабься, парень, нечего на меня так смотреть. Практикантка начинает крутиться по комнате, все разглядывать, высматривать подробности; когда она подходит к окну, к излюбленному наблюдательному пункту Роберта, как бы пытаясь вжиться в мировоззрение любимого писателя, то окончательно проваливает порученную ей миссию.
– Он, по крайней, мере заплатил тебе за это?
– Что? Кто? О чем вы?
– Не прикидывайся. Не тебя первую он посылает сюда.
Он предлагает ей стул – присаживайтесь, Роберт не позволит ей уйти ни с чем; она так прелестна, в другое время и в другом месте это на самом деле было бы большим плюсом.
– Самое главное – выбрать правильную исходную точку зрения. Так ведь? Что видно?
Практикантку вовсе не радует, что этот немодный, припорошенный нафталином тип собственноручно сажает ее на стул; когда Тесть сажает ее себе на колени ну и все такое прочее, это хотя бы записано в налоги, это выгодно, в депутатском бюро Практикантка впервые в жизни зарабатывает выше средней по стране, так что старый сатир может иногда ее посадить себе на колени и все такое прочее, тем более что человек он влиятельный, хорошо одет и от него хорошо пахнет, не какой-нибудь там свинопас с соломой в сапогах – настоящий депутат; а тут что? Не пойми что из себя представляет, и никакой он не писатель, а туда же – лапы распускает, да еще будет сажать ее, как ребенка, на стул, да еще на женщин снизу велит ей смотреть, ну вот еще одна прошла; глаза Роберта сразу ей показались какими-то неприятными с первого взгляда, какие-то такие бестолковые, такие… от правильной линии куда-то в сторону глядящие, да все и так ясно, смотрит он этими своими извращенными глазами на женщин, и никакой он не писатель, а самый настоящий извращенец, псих, обмылок, трухач; чего ему надо от нее, зачем велит смотреть?