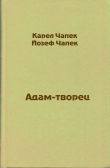Текст книги "Как сон"
Автор книги: Войцех Кучок
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 10 (всего у книги 13 страниц)
Адам, словно Господин Тень, мог бы уйти за Красавчиком на край света, по тропам его периферийных перипетий. Пожалуй, так он и на матч за Красавчиком увяжется. С этим надо что-то делать, нельзя больше прикидываться, что он ничего не замечает, того и гляди, Лютик сочтет, что Красавчик привел за собой хвост, надо Адама предостеречь, объяснить, предупредить его, что ли. Но как? Надежнее всего – по телефону; вечером, прервав молчание, но сохранив лицо, а вернее, единственную в этой ситуации допустимую позу (позу принимающего решения; того, кому, собственно говоря, все равно; того, кто имеет моральное превосходство, потому что удачнее прикидывается, что ему все равно), навязать по телефону новые принципы, а вернее, один главный принцип:
– Слышь, хорош таскаться за мной.
Адам даже не удивлен; он знал, что это не родители: те прервали с ним всякую связь со времени последнего визита к нему; из больницы тоже не звонят, потому что он выпросил себе короткий отпуск; в это время телефон должен молчать, в это время Адаму обычно снится телефонный звонок, и он просыпается по нескольку раз, желая снять трубку; если бы он спал крепче, возможно, ему мог бы присниться разговор с Красавчиком, но, увы, его сон запутался, в его снах ему пока не удается вовремя поднять трубку, ему снится сон, что ему снится сон, он даже во сне понимает, что спит, и, может, именно поэтому он всегда просыпается до того, как успевает в своем сне поднять трубку; но сейчас настоящий телефон звонит по-настоящему, Адам хватает трубку, и успевает услышать голос Красавчика, и даже дать категорический ответ:
– За кем хочу, за тем и хожу.
– Ты даже не представляешь, в какой ты жо… в смысле во что ты вляпался. Они тебя зае… короче, они тебе покажут, где раки зимуют.
Какая-то прекрасная борьба мальчика с мужчиной происходит в Красавчике, Адам восхищен его попытками подавить в себе вульгаризмы; что ж, видать, Давид лишил Голиафа дара речи, чаша весов качнулась – победа! Красавчик сам себя выдал на полуслове, теперь уж Адам точно знает: сколько бы ни пришлось ждать, он своего дождется и парень в Красавчике через мужчину прогрызется и вернется к нему, уже отцеженный от хама, в виде экстракта паренька, которого следует на путь истинный направить и опеку над ним нежную, самую нежную установить.
– Не бойся вернуться ко мне. Все образуется, все уляжется. Мы с тобой сами все уложим.
Красавчик уж и не знает, как ответить, он хотел бы рявкнуть жестоко и устрашающе, но скорее склонен сам себя сосватать Адаму; он открывает рот, чтобы выразить протест на варварском диалекте, но слова лопаются у него на губах словно мыльные пузыри, Красавчик не находит в себе силы сопротивляться, он от этого весь зарделся, ему уже хочется к Адаму сейчас, немедленно, так что лучше повесить трубку. Благие намерения или нет, но для тебя, Красавчик, это прямая дорога к искушению, так что уж лучше дай соблазнить себя ему, чем кто-то другой совратит тебя на стадионное беспутье, так иди же к нему, туда, где тебя ждет нежная постель, туда, где ты сладко выспишься, добрым словом привеченный; куда ты идешь, Красавчик, не туда путь твой, холодно, поверни вон туда, теплее, уже тепло, еще один поворот, до конца улицы по прямой – и станет совсем горячо.
Станет горячо: Адам открыл, потому что подумал, что это Красавчик стучит в дверь, что наконец, мужскую шкурку где-то навсегда сбросив, парень пришел к нему, да и кто бы еще мог прийти в такую пору и после такого разговора, если не Красавчик собственной персоной; но кто это такие некрасивые и чужие, выглядывающие один из-за другого, и этот третий, с рожей отвратительной и мерзкой, откуда-то знакомой, кто этот изверг с головой лысой и гладкой, как кость, – кто они, зачем пришли сюда, чего хотят? Непозволительно задержался на секунду в своих размышлениях Адам, не успел дверь перед ними захлопнуть да на засов закрыть, лоб гладкий и тяжелый, как палица, приветственно мозжит ему нос, а может, оно и к лучшему, потому что эта первая боль концентрирует на себе все внимание, Адам не чувствует ударов, которыми его осыпает Лютик, а это больно для хрупких ребер, Адам даже не стонет, он пока не знает, в чем дело, а у него уже столько переломов, и от удара в солнечное сплетение у него перед глазами темнеет… (сколь же хрупка структура человека, сколь немощны его члены и при всем этом так трогательно терпеливы, когда срастаются)
…сознание возвращается, когда Лютик поднимает его с пола, ставит перед собой и бьет ладонью наотмашь по щеке, чтобы удостовериться, что его слышат:
– Ну и что теперь?
Исключительно уместный вопрос, Адаму самому хотелось бы знать, сломают ему еще что-нибудь или нет, можно ли уже приступать к зализыванию ран.
– Чего ты вынюхиваешь? Кому стучишь?
Адам даже не пытается защищаться, просить пощады, он смотрит на Лютика совсем без страха, что они еще могут сделать ему, расширить ассортимент травм парой дополнительных, добавить ножевые раны, но ведь раны – это будущие шрамы, и чем больше их будет на его теле, тем больше он будет похож на Красавчика, ну давай, ударь еще, пожалуйста, у меня уже щек не хватает подставлять, думает Адам, а Лютик чувствует, что разливается в нем тот род остервенения, которому он обязан своей кличкой: лишь учует чужую боль – и уже ничего не видит, ничего не чувствует, кроме нее, бьет Адама еще и еще, и каждый раз сильнее, разъяренный отсутствием сопротивления, бьет по нему, как по боксерской груше, и требует реакции:
– Ну, защищайся, пидор! Сражайся, сука, защищайся, защищайся!!!
Страдание нарастает. Красавчик тоже страдает; он уже был в садике, но гусыню не успел поприветствовать, потому что более проворные лисы на нее напали, и ему пришлось отстать на лестничный пролет, и теперь он ждет в подворотне, молясь о том, чтобы парни оттащили Лютика вовремя; он не может вмешиваться, иначе нарвется на вопрос, что он тут делает, сам ли хотел со стукачом расправиться, а может, сотрудничает с ним; Красавчик ждет в подворотне и впервые в жизни плачет от бессилия, это не фильм со Стивеном Сигалом, он не поспешит на помощь и не раскидает напавших ударами карате, не получит медаль за преданность и отвагу, он может только ждать, выжидать, прислушиваться, пока все не утихнет, пока Лютик со своими приспешниками не уйдет; Красавчик рванет наверх; лишь бы не было слишком поздно.
Они сбежали по лестнице быстро и тихо, никто из них даже не засмеялся, это недобрый знак; Красавчик минуту ждет, смотрит им вслед, да, ушли, надо полагать, не вернутся; он идет наверх. Дверь приоткрыта. Видна кровь. Адам сидит на полу там, где его оставили. Лучше не смотреть.
Он жив, хоть до конца жизни его лицо будет напоминать ему о том вечере. Возможно даже, он улыбается; сейчас мы увидим это отчетливее. Красавчик смочил полотенце и, как реставратор, открывающий взору многоцветье картины, смывает с Адама кровь; так, уже видно лучше; Адам и впрямь улыбается. Как знать, не станет ли теперь его лицо более бандитским, чем у Красавчика: нос перебит и свернут, факт, что называется, налицо, об остальном узнаем, когда опухоль спадет, но, судя по другим лицам, обработанным Лютиком, изменения будут радикальные; у Лютика есть свой стиль, он как художник среди психопатов – бьет и при этом ваяет людские лица; если бы его жертвы поставить в рядок, то глаз знатока легко бы заметил общие для всех них характерные черты (но чье лицо хочет он вылепить в других? кто отважится задать ему этот вопрос? что-то желающих пока не видать). Это настоящая сцена из фильма: Красавчик омывает покалеченное лицо Адама, никогда еще в жизни он не был столь нежным; Красавчик знает, тоже из фильмов, что обмывание ран героя, как правило, предшествует сцене поцелуя и его постельного продолжения, хорошо было бы подчиниться этому правилу, тем более что ум Красавчика не находит в эту минуту ничего лучше среди известных наркотически-успокоительных средств, но как его поцеловать в эту кровь из носа и из губы, а, ладно, пусть это будет кровавый поцелуй, зато мужской, пусть это будет началом их братства на крови, братства мужчины с мужчиной, а не пидора с пидором (пока что, как нам известно, ничего такого у них не было); Красавчик целует Адама взасос, слизывает кровь с его языка, сглатывает ее как свою.
Его отпуск продлится, теперь уже за свой счет; а сколько ему пришлось упрашивать в больнице, чтобы его отпустили домой: они ему – тяжелые травмы; он им – какое там, уже почти не болит; они – старичок, ты ничего не чувствуешь, потому что ты в шоке; он – я врач и могу справиться с ситуацией; они (Красавчику) – тогда вы хотя бы проводите его домой, а лучше, если с ним побудете какое-то время, если можете; Адам заливается краской под бинтами и пластырями. Ну да ладно, все уже прошло, оба лежат, прижавшись друг к ругу, Адам – в бинтах. Счастливый, он слушает вылеченного им парня: его умиляют попытки Красавчика говорить красиво, он никогда раньше так не говорил, все в нем изменилось; он говорит твердо, решительно, до правильной речи ему еще очень далеко, а если оно и проскакивает, звучит пока неестественно, еще кое-где он должен продираться через старые привычки, но это прекрасно. Сейчас это самое прекрасное в Красавчике: что спрятанный в нем мужчина, этот хам из хамов, отступил, а мальчик в нем победил и, не охватив еще этого явления до конца умом, он уже инстинктивно пытается пользоваться невооруженным, мягким языком, употребляя правильные формы (Адам ему в этом помогает).
– Я же говорил тебе, что тебя отпиз… что ты доиграешься, если будешь за мной шастать (ходить)… Хорошо, что они меня, блин, не выделили (встретили)… а то бы рассекли (заподозрили), что я с тобой… что мы… блин, только об этом подумаю, как…
Довольно; Адам закрывает его рот рукой. Не надо говорить, надо подумать, где теперь будем жить.
11
У Роберта в разговорах постоянно звучала одна тема: все только и ждут, когда из-под его пера выйдет неудачный роман, поэтому он и медлит. Фактически это частный случай графомании – мания неписания. Долгое время он жил на деньги от своего последнего, самого известного романа, получившего всеобщее признание; и тогда он почему-то втемяшил себе в голову, что должен сделать перерыв, да подольше, чтобы набраться сил и отстраниться от прошлых текстов; успех романа сильно поправил его дела, Роберту уже не нужно было писать для хорошего самочувствия, тем более что именно тогда он познакомился со своей будущей Женой и начал семейную жизнь; в окружении доброжелательно к нему настроенных людей, радуясь близости принадлежащей только ему привлекательной женщины, он совершенно перестал корить себя за то, что не пишет, можно сказать, он потреблял успех, который, впрочем, был неоспоримым, – благосклонно настроенные критики не скупились на восторги, критически настроенные говорили, что просто роман идеально попал в тему; так или иначе, никто не счел его книгу неудачной. Со временем он стал жаловаться на то, что все только и ждут, когда из-под его пера выйдет неудачный роман, – так он поначалу говорил Жене и Тестям, объясняя, почему совсем не пишет; нет, конечно, книги он подписывал, блистал остроумными комментариями на тему литературной и окололитературной жизни, но писать свой новый, на этот раз неудачный, разумеется неудачный, как он говорил, роман решительно отказывался. На вопрос Жены: почему же «разумеется неудачный», как он мог вбить себе в голову такую нелепицу, он отвечал, что последний роман был перехвален, и все несчастье состоит в том, что завышенная оценка была поверхностной, и все те, кто им бессовестно восхищался, теперь должны чувствовать себя обязанными принизить оценку его нового романа, должны с нетерпением ждать его неудачного романа; чтобы он смог в будущем стать по заслугам оцененным писателем, он должен принести в жертву «неудачный роман», должен принять критику, ощутить вкус поражения, должен позволить всем тем, кто начал задним числом стыдиться своих громогласных похвал, теперь публично отхлестать его за его новый, неудачный роман, за литературное недоразумение, каковым этот роман должен предстать; он говорил, что удачный роман в этих условиях невозможен хотя бы из тех соображений, что его последний, необычайно удачный роман описывал страдания, из-за чего благожелательно настроенные критики сочли его пронзительным, а критически настроенные критики сочли его циничным, эксплуатирующим человеческие эмоции, хотя и они не отказывали ему в убедительности описаний страдания главного героя; Роберт не писал свой второй роман, потому что и этот, второй, должен был бы рассказывать о страдании. Проблема состояла в том, что он не мог искренне писать ни о чем, кроме страдания, но ни в коем случае не хотел писать роман о невозможности написать роман о чем угодно, кроме страдания; его новый роман, если бы он в конце концов приступил к его написанию, должен был бы, как и предыдущий его роман, описывать страдания, его герой, как и герой предыдущего романа, должен был бы заниматься прежде всего страданием, скорее всего, он страдал бы точно так же, как и герой предыдущего романа, из чего благожелательные критики первого романа должны были бы признать второй его роман попыткой воспользоваться проверенной рецептурой по написанию пронзительного романа, критически же настроенные критики должны были бы счесть эту книгу свидетельством творческого увядания и автоплагиата; поэтому он долго отказывался писать свой новый роман, а когда Тесть устроил его на должность в подвале суда, чтобы он мог уединиться в тишине и попытаться что-то написать, пошли ноги за окном и всякое такое, что, как он говорил, утомило его слова. Он объяснял, что не может писать очередную книгу о страдании, что у него нет ни малейшего желания, но ни о чем, кроме страдания, он писать не может, в конце концов он мог бы написать неискренний роман, что расходилось бы с его целью (а его целью была литературная искренность), поэтому он мог бы написать искренний роман о невозможности написать роман о чем-то, кроме страдания, но у него не было ни малейшего желания, это был бы явный крах, говорил он, табуны кретинов получили бы пищу, говорил он, писать о невозможности писать – литературное самоубийство, говорил он и вполне логично не начинал работу над новой книгой. Когда Жена заставала его за работой в кабинете, еще задолго до того, как кабинет превратился в – как она его язвительно называла – мемориальный зал, еще когда он служил Роберту как мастерская писателя, итак, когда она заставала его за писанием, он говорил, что это ерунда, что это написано без веры, а кроме того, слишком мало, чтобы слепить из написанного неискренний роман о тепле и радости жизни, отвечающий ожиданиям издателей, равно как и меценатов, главных редакторов, министров, всех тех культурных надсмотрщиков, которые постоянно советуют ему «написать на этот раз что-нибудь теплое, позитивное», потому что «народ и так уже устал от всего, что творится вокруг», «вот мы и ждем, что по крайней мере художники слова перенесут нас в какой-то другой мир», а если конкретнее – «в мир теплый и позитивный»; он не верил, но обязательно хотя бы раз в день садился за стол и пытался думать о мире тепло и позитивно – не получалось; он не умел и страдал от этого неумения, отказывался писать и призывал Жену, тогда еще охотно вживавшуюся в роль принадлежащей ему привлекательной женщины, тогда еще клевавшую на приманку удовольствий, призывал ее, а потом все шло по такой схеме: Жена спрашивала, удалось ли ему хоть что-нибудь написать, Роберт отвечал, что пока еще не до конца рассеялся сумрак его души, Жена спрашивала, может ли она ему как-то помочь, Роберт отвечал, что, конечно, она может вместе с ним совершить великий акт жизнеутверждения, который наверняка вдохновит его на творческое завершение остатка дня, и, говоря это, пытался подманить ее поближе к письменному столу, а когда Жена начинала ретироваться, вопрошая, не трактует ли ее господин писатель слишком утилитарно, он отрезал ей путь к двери, поворачивал ключ в замке и прятал его в карман брюк, Жена начинала нервически хихикать и говорила, что он должен сосредоточиться на работе и наконец-то начать писать, Роберт отвечал, что не может схватить вдохновение, передвигал компьютер на край стола, чтобы освободилось место, и уговаривал Жену лечь на стол, Жена оказывалась безоружной и подчинялась его уговорам, как, впрочем, и собственным страстям, но предупреждала: «Только боже упаси тебя описывать, как ты меня тут на столе», после чего, то есть после начала совместного ритмичного жизнеутверждения, время от времени выдыхала слабым голосом: «Ты мой писатель…»
Роберт доволен собой, ему удалось дождаться нужного момента: пришло время романа. Смерть, при всех ее недостатках, имеет то достоинство, что сильно продвинет его творение; как у автора, уже отошедшего в мир иной, у него будет значительно более благосклонная критика, и, что самое важное, он сам придаст себе окончательный контекст. Роберт смертельно серьезно думает о том, чтобы начать писать, но в данный момент он должен испариться.
Все измельчало. Ребенком он приезжал сюда каждый год в летние и зимние лагеря; теперь, четверть века спустя, у него странное чувство, которого следовало ожидать: заборчики, барьерчики, тротуарные бордюрчики, ограды скверов, наконец, сама кирпичная стеночка вдоль бульвара над рекой – все измельчало, скукожилось; в памяти Роберта все осталось на уровне роста десятилетнего мальчика, и теперь он должен смириться с уменьшением всего вокруг на сорок сантиметров. Может, это не он вырос, а мир уменьшился; может, это не он исчезает, хоть его угнетает напророченная смерть, а это мир вокруг него увядает; может, он боится не того, что его не хватит, а что ему не хватит мира, что мир съежится, став недоступным для чувств, и Роберт останется один, без декорации, без публики, с душой столь же бессмертной, сколь и бесполезной в пустыне вечности. Прямо с утреннего автобуса, еще до апогея дневной жары, еще до разгара летнего сезона, по пустым, сонным улицам идет он к нижней станции фуникулера, входит по ступенькам, которые когда-то были ступенями, и, хоть в прошлом они были выше и круче, он помнит, как бегал по ним гораздо быстрее ленивых взрослых, – он, более легкий телом и душой, потому что не думал тогда о том, что каждый его шаг где-то записан и сосчитан и что с каждым шагом он становится ближе не только к продавцу мороженого и киоску с новым «Жбиком»[12]12
«Капитан Жбик» – самая длинная (53 тетради) серия польских комиксов.
[Закрыть], но и к тому, что, согласно путеводителям общей медицины, должно было означать неосвященное мученичество, без ангельских труб, без житийных писаний, без вознесения на небо.
Он садится на кресло фуникулера одним из первых в этот день, персонал предупреждает, что наверху еще очень холодно, советуют потеплее одеться; он едет, склоны безлюдны, небо чисто, лишь через пару часов его заполнят парапланеристы, если ветер поможет им, а все говорит за то, что именно так и будет; но пока безветрие, высокие ели стоят неподвижно, холодный воздух от движения фуникулера обдувает лицо Роберта – бодрящее предветрие. Ему на память приходит одна из давних максим Тещи, отчитывающей Тестя за любовь к дорогим костюмам: «Кто живет как мот, того после смерти на все стороны света размотает» – или что-то в этом роде, во всяком случае это должно было звучать своего рода предостережением, что останки расточителя вороны по бездорожью растащат (а может, лучше «враны»: с некоторых пор в католических СМИ, которые без остатка завладели умом Тещи, пошла мода на библейские архаизмы; «и враны разнесут кости твои непогребенные» – так по идее должна была звучать новейшая версия проклятия тем, кто грош не ставит ни в грош), как же хорошо, что уже скоро ему не придется это слушать и вообще ничего, кроме ветра, минуточку, кто это пел, что ветер приходит, чтоб нас отсюда сдуть, стереть наш след и засыпать наш путь, следы на дорогах, где мы прошли вдвоем, не то все подумают, что мы еще живем… Претенциозно получается, думает Роберт; а как думать о смерти, чтобы было непретенциозно, как непретенциозно умереть, что надо делать, чтобы просто отбросить коньки, без высокопарных воспарений, но в то же время не позволить этой банде католиков распоряжаться его прахом; ох какое удовольствие испытали бы они, вкладывая в его руки погребальную свечу, а в его уста – последнее святое причастие, лучше уж ветер, даже если кому-то покажется, что это напыщенно, пошло, что такому, как ни крути, творческому уму не подобает столь банальная мысль; плевать, в конце концов, это его смерть, не хватало еще, чтобы ему кто-то советы давал, как переселяться на тот свет. Даже если того света нет, ветер все равно есть, и Роберт верит в дуновение и хочет, чтобы именно ветер смерть-невеста принесла ему в приданое; на вечное отдохновение и вечный свет он не претендует, а коль скоро дух веет и ветер дует где хочет, Роберт хотел бы отсюда дунуть как можно скорее.
Вот и пришло это самое когда-нибудь, и ничего не сходится: где та хатка деревянная под Дзянишем (а ведь зарок себе дал, что когда-нибудь купит ее), где высокая грудь горянки (а ведь клялся, что когда-нибудь найдет себе девицу красну с лицом ясным, чтобы с нею любиться и, согласно Божьему наказу, размножаться и плодиться), где та гряда Высоких Татр (а ведь собирался когда-нибудь пройти ее до конца)? Почему жизнь его прошла в низине, если только в горах он чувствовал себя как в своей тарелке? Опомнился: того и гляди, обращусь в прах, надо сдержать данное себе слово.
Многие из его старых друзей по альпинистской связке забросили альпинизм ради так называемого парапланеризма; те, кому всегда не хватало воздуха, кому контакт со скалой не доставлял такого удовольствия, как свободный спуск до основания стены после восхождения, теперь просто парили над горами на парапланах, раскручивая поднебесный бизнес – коммерческие полеты, эти хорошо оплачиваемые инъекции адреналина для охочих до впечатлений воскресных туристов, а еще – фирменные корпоративы (и работы меньше, чем с чайниками, желающими покорить Монаха[13]13
Монах – скала в Польских Татрах (2067 м).
[Закрыть]). Рожденные ползать по предгорьям смогли взлететь над горами, озирая их с высоты птичьего полета; свобода частых полетов освободила их от земных страхов, именно парапланеристы, предпочитающие, чтобы их называли на немецкий манер гляйтерами (ибо какой же это параплан, если как раз они, в отличие от всех остальных, и летают в прямом смысле слова: без мотора, без жестких крыльев, птичьим чутьем выискивая воздушные потоки, с ветром на «ты»), именно они казались Роберту единственными, кто не злоупотребляет понятием свободы. Они ступали по земле легко, как будто только того и ждали, чтобы оттолкнуться и вновь взлететь; подсевшие на кайф свободного полета, понимавшие, что, если раз удастся оторваться от земли и благополучно приземлиться, возврата больше нет – больше ничто в жизни не даст такого удовлетворения; парапланеризм – это как героин, говорили они, это круче секса, а при этом, что для Роберта было важнее всего, они во всем непретенциозны: даже когда говорят, что там, наверху, они словно птицы, находящиеся во власти ветра, они абсолютно, буквально правы. Вот на одного из них и пал его выбор: Роберт должен с кем-то поделиться своими горестями и быть уверенным, что тайна Иова Многострадального не разлетится по близким и дальним знакомым; в противном случае это вызвало бы неловкость с обеих сторон, Роберт стал бы личностью избегаемой; действительно, с какой стати люди должны хотеть заглядывать в глаза смерти, они пока что по сю сторону далеко идущих бизнес-планов, кредитных дилемм, отпуска на следующий год и беспокойств о парниковом эффекте, а он уже со смертью ходит, мысля минутами, часами, днями, недели робко отсчитывая, тогда как она уже в нем отсчитывает каждую секунду. Все они едут сейчас на ярмарку, а он уже – с ярмарки.
Только парапланеристу можно верить, только ему можно спокойно довериться, поделиться своими проблемами; парапланерист никогда не скажет нет, если только ты не захочешь удержать его перед стартом, он занят исключительно тем, что ищет воздушные трубы, паруса над горами, избегает завихрений, чтобы не было схлопываний, слушает вариометр; его жизнь – сплошная подготовка к полету; эти ребята лишь делают вид, что их интересуют земные дела. Вот почему при встрече через много лет парапланерист обнимет тебя, многозначительно намекнет, что всякое дыхание Господа хвалит, что гора с горой не сходится, спросит, что у тебя, и сразу, прежде чем ты успеешь ответить, поинтересуется, а как насчет полетать в тандеме.
Как раз по этому вопросу приехал договориться Роберт, без церемоний, но не сегодня и не над этими горами, в обстоятельствах, специфику которых он объяснит, но не впопыхах, а спокойно, лучше всего на базе, за чаем с ромом. Нет, лучше перед базой, потому что человек-крыло должен следить за ветками деревьев: если начинают качаться, значит, есть поток, значит, будет полет, время летать, вскакивают один за другим и уходят ввысь.
– Понимаешь, старик, как бы тебе это сказать… Я с тобой, а как придет время, сам понимаешь, нет вопросов, для меня это даже дело чести, а пока что крепись, держи лапу, мне пора, смотри, какие потоки, как несет.
Ну все, заметано.
У него пересохло во рту; язык как будто обложен всем тем, что он откладывал на потом. У него болит все сильнее, и, наверное, уже не пройдет печаль по путям-дорогам, по которым он уже не пройдет. Женщины не его жизни будоражат его память (у других выбор был более удачным); Роберт свернул с пути, лег в траве и мстит себе за все не использованные в жизни случаи, истязает себя в стороне от многолюдья. Четверть века тому назад он так же отчаянно на том же самом месте гонял балду, но если тогда он прибегал к фантазии, то теперь к воспоминаниям. Вроде как ничего в том нет особенного, но ожесточенное отшельничество на этой высоте, в общем-то, истощает, Роберт через минуту будет слишком утомлен, чтобы собственными силами добраться до остановки; воды тоже неоткуда зачерпнуть, сбился, видать, с дороги, источники остались на другой стороне склона. А что, споткнется на оползне, запутается в колючках густого кустарника или просто притомится в лесу – и не переживет ночных заморозков; если раньше он представлял себе смерть в горах только как героическую, то сейчас самое время сменить свое мнение. Надо бы ему помочь, мы готовы потерять к нему остатки уважения. А что, если дать ему слегка в Розе запутаться? Тем более что домик ее неподалеку стоит, высоко над долиной, эдаким во всех смыслах особняком, в глухомани, ловцы сенсаций больше не прячутся по укрытиям, потому что показатель ее медийности за последнее время упал вместе с рекламными плакатами, на которых было ее лицо; так почему бы не столкнуть друг с другом эти два одиночества? Ведомый инстинктом и силой воли, Роберт все равно ведь дойдет до так называемых первых построек, так пусть же это будет забор знакомой нам усадьбы; а мы посмотрим, что из этого получится.
– Боже мой, что с вами?
Лай собаки привлек внимание человека женского пола, Роберту повезло, едва он успел нажать на звонок у ворот, как присел у забора, ослаб, болевые приступы случались все чаще и становились все более продолжительными, а боль все сильнее. Совсем недавно ему казалось, что, возможно, он привыкнет к ней, если начнет тренировать выдержку, точно так же как и в обычной здоровой жизни после каждого цикла упражнений он увеличивал нагрузку, ну скажем, количество отжиманий, так и теперь, во время болезни, он каждый раз будет стараться прибегать к анальгетикам хотя бы на несколько минут позже, четко соблюдая наложенное на самого себя ограничение; еще совсем недавно ему казалось, что с болью можно совладать, но теперь она все чаще посылает его в нокдаун; баланс простой: боль прибавляет в силе, а Роберт становится слабее. С трудом добрался он до первых построек, нажал на кнопку звонка с надеждой, что кто-нибудь откроет, и свился в клубок, чтобы переждать приступ; пригвожденный болезнью, он пока не в силах подняться, не говоря уже о приветственных любезностях и объяснениях; он ждет, пока боль отступит (волна, похоже, стала спадать, еще чуть-чуть – и будет сносно, но таблетку придется принять, вот только в горле пересохло, без глотка воды не проглотить).
– Простите… Сейчас пройдет. Если можно – стакан воды.
У Роберта пока нет сил поднять голову; он видит до пояса человека женского пола, видит домашний халатик, а через неплотно прилегающие полы – ноги, красивые и знаменитые; Роберт узнаёт их, а по ним и женщину, часто легкой походкой проходившую мимо его подвальчика; выразительные ноги, прибегавшие к исключительно выразительным шагам для рассказа самых разных историй, своих собственных и чужих, ноги актрисы, которые после каждой премьеры шли иначе, порой трагически, порой комично, в зависимости от сыгранных ролей, а порой и сгибались под тяжестью бездарно написанной жизни.
– Да, конечно, сейчас принесу, – доносится до него откуда-то сверху.
Он видит, как ноги быстро удаляются, не теряя достоинства ни на минуту; Роберт помнит, что всегда, неизменно, безотносительно к тому, какое повествование эти ноги выстукивали перед его окошком, вне зависимости от настроения и погодных условий, их отличала поступь, исполненная достоинства, свойственная женщине благородной, знающей себе цену и не ищущей постоянно подтверждения этого своего знания; в достоинстве ее поступи было своего рода примирение с жизнью, непринужденность бытия, необязательность существования, перед которой Роберт не мог устоять, потому что сам был опутан угрызениями совести и хитросплетением невыполненных обязательств; он тяжело, меланхолически, теряя ритм, тащился по этой жизни, будто был плохо пристроен к собственным ногам.
Боль отпускает, Роберт может подняться; он опирается на забор и смотрит в сторону, откуда приближается, показывается, является во всем своем великолепии – в прекрасном достоинстве и достойной красоте – Роза, относительно которой в другой жизненной ситуации Роберт принял бы ряд первых же пришедших в голову экстренных и радикальных решений, потому что она видится ему озаренной своего рода сдержанной развязностью, невинной распущенностью, моложавой зрелостью, мудрой наивностью, хрупкой твердостью, суровой нежностью, открытой скрытностью, экстравертной робостью, благосклонной недоступностью, каких он еще никогда не видал; она предстанет перед ним как женщина, лучащаяся обилием парадоксов, но внутренне симметричная, возможная и в то же время невероятная; принимая из ее рук стакан, Роберт чувствует, что ради такой женщины он мог бы отдать жизнь (однако он немедленно призывает себя к порядку, поскольку у него немного осталось, что он мог бы отдать). Он пьет и смотрит на ее ноги: «Да, на таких ногах, даже совсем чуть-чуть пройдясь, можно далеко уйти»; в нем по-солдафонски встрепенулась самцовая и скандальная мысль: «Тебя увидел, и, поверь, во мне проснулся дикий зверь», – подпевает забытый баритон из района гипофиза; Роберт слишком торопливо встал, в башке у него завертелось, и ему снова пришлось сесть, потому что он уже перестал понимать, что он говорит вслух, а что про себя; Роза спрашивает, не вызвать ли скорую, Роберт категорически возражает, после чего моментально слабнет, обмякает, Роза пытается поддержать его, полы ее халатика так удачно распахиваются, что на мгновение показывается грудь, свободная и красивая; ох как же мало теперь ему надо, чтобы потерять чувства от впечатлений, он еще раз извиняется и, отчасти сам, отчасти влекомый Розой, добирается до садового кресла, чтобы уже в нем приступить к заговариванию беспокойства.