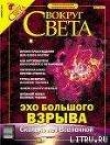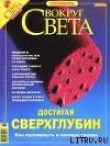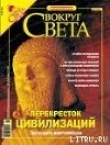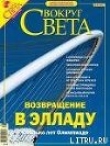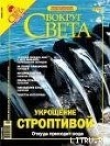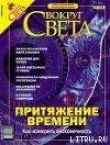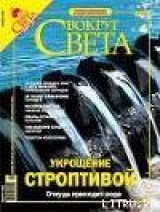
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» № 11 за 2004 год (2770)"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 10 страниц)
Зоосфера: Горбоносые интеллектуалы

Судя по всему, попугаи действительно умны и смекалисты гораздо в большей степени, чем принято думать. Они, конечно же, являются не просто копировальщиками и подражателями звуков. Многие из них вполне способны поддерживать беседу, что очень красноречиво подтверждает небезызвестный 27-летний жако Алекс, именем которого называют посвященные попугаям журналы и интернет-сайты. Не один год наблюдая за его поведением, исследователи смогли убедиться в том, что Алекс способен оперировать такими понятиями, как размер, цвет, число, а по уровню интеллекта он сопоставим с 4-летним ребенком. Его поведение не менее интересно: он избирательно относится к приставленным к нему ассистентам и умудряется даже проводить свою политику в коллективе исследователей. И хотя Алекс – случай уникальный, многие владельцы попугаев утверждают, что за поведением их любимцев можно следить буквально часами, не переставая удивляться их уму и особенностям проявляемого ими характера.
…Эта история, приключившаяся со мной жарким августовским днем в самом центре столицы, заставила поначалу сильно усомниться в реальности происходящего, а потом благодарить провидение за удивительную возможность оказаться в эпицентре событий из жизни пернатых.
Раздумывая о неожиданно свалившейся на меня командировке, я стояла у открытого окна авиакассы в ожидании своей очереди. Жара была такая, что ни ехать, ни лететь никуда не хотелось. И чтобы хоть как-то от нее спастись, приходилось периодически ловить сквозняк, выглядывая в окно. На улице по клубившемуся асфальту медленно плыли машины, образовав четыре ряда движения на дороге шириной в две полосы. Вдруг какой-то черный пакет начал метаться над крышами автомобилей, носимый невесть откуда взявшимися потоками воздуха, в то время как деревья вдоль тротуара стояли не шелохнувшись. Заслонившись рукой от слепящего солнца, я стала наблюдать за странной картиной и тут же поняла: этот пакет есть не что иное, как невероятно проворная, большая и почему-то очень агрессивная ворона. Сначала показалось, что она хочет спикировать на машину, везущую ярко-зеленый диван. Потом, когда машина поравнялась с окном, у меня появилась другая версия: водитель ест мороженое и смелая, а может быть, прирученная кем-то ворона решила угоститься. Реальная же причина такого поведения птицы, словно на крыльях, вынесла меня из здания авиакасс, и я за несколько секунд покрыла расстояние трех лестничных маршей – на перекладине верхнего багажника автомобиля, прижавшись к зеленому дивану, сидел, трепеща всем опереньем, молодой ара, похожий на клочок бордового бархата. Он был такой взъерошенный и испуганный, что всем своим видом говорил: «Спасите, кто может!» А в следующий миг стало ясно, что бедолагу надо действительно спасать: ворона, как торпеда, не обращая ни на кого ни малейшего внимания, пыталась в очередной раз долбануть его своим клювом. Попугай, не будь дурачком, подлез под нависающую драпировку обивочной ткани и умоляюще смотрел вокруг. Доселе такого осознанного взгляда у птицы мне видеть не приходилось.
Ошеломленная всем произошедшим в последние десять секунд, я вдруг решила, что попугай как-то зафиксирован на багажнике, и попыталась выяснить у хозяина машины, дивана и попугая: почему птица едет таким образом? Водитель, почти уснувший от жары и бесконечной дорожной пробки, как и следовало ожидать, был не в курсе того, что происходит у него на крыше. Он отшутился, спросив, куда подвезти любителя пернатых. Обстановка накалялась. Ворона готова была повоевать уже и со мной. И тут, выгнувшись изо всех сил, я попыталась схватить попугая. Наверное, это получилось очень резко: птица вспорхнула и, издав пронзительный крик, полетела прочь, а ворона же мгновенно помчалась за ней.
Какой же это был страшный танец! Они кружили в воздухе прямо над потоком машин, в какой-то миг попугай даже прибился к форточке одного из автомобилей, но тут же взмыл ввысь. В висках у меня стучало: через несколько минут ворона его прибьет, и получается – не без моей помощи. Я неотступно бежала за ними, но птицы были в воздухе, а я на земле. А дальше произошло чудо. Рассекая воздух, ара пронесся над дорогой, маневрируя так, будто ускользает от летящих градом пуль, и исчез в кроне огромного клена. Когда же я подошла к дереву, мне потребовалось время, чтобы понять, куда скрылась везучая экзотика: ара, плавно покачиваясь – прикидываясь кленовым листком, висел вниз головой в той самой нижней части кроны, которая уже подкрасилась предстоящей осенью. Он был едва различим. А ворона кружилась над макушкой клена, в том самом месте, куда несколько секунд назад влетела ее несостоявшаяся жертва. Мне же оставалось тихо и осторожно подойти к попугаю и взять его в руки.
Обессиленный жуткой погоней, на сей раз он не сделал даже попытки сопротивляться. Лишь сердце ары колотилось так, что мои пальцы, слегка сжатые на его груди, вибрировали. Посадив несчастную птицу в плетеную сумку, я помчалась домой, размышляя о том, что сильные ноги попугаев приспособлены к стволам, веткам и жердочкам, а не к плоскому дну сумки, а еще о том, что этот ара стал четвертым попугаем, которого мне довелось ловить на улице, и что мне вообще странным образом «везет на этих птиц»… Вспомнилось, что первый экзотический парк, который мне довелось посетить, был Лоро-парком (Парком попугаев), а также то, что единственный, доставшийся мне за всю жизнь выигрыш в лотерее являл собой альбом с фотографиями попугаев и самой разной информацией о них. Что же на сегодняшний день известно науке об этих горбоносых интеллектуалах? Попугаев 350 видов. Причем ни одного из их представителей не перепутаешь с другой птицей. Всех попугаев – от 10-сантиметровых дятловых попугайчиков из Новой Гвинеи до громадного красавца ары ростом около метра – выдают крючковатый клюв, ловкие и цепкие лапы, которыми птица действует не хуже обезьяны, и не менее цепкий ум. Окраска оперения у них, как известно, самая разнообразная – у одних она элегантна, в сдержанных тонах: белая, как у какаду, или жемчужно-серая, как у жако, у других поражает глаз многоцветьем.
Попугаи встречаются во всех тропических и субтропических регионах мира, от восточных районов Афганистана (это самая северная область естественного распространения попугаев) до острова Огненная Земля. Если говорить о наиболее известных попугаях, то в Австралии и Океании обитают какаду, лори, розеллы и ставшие совсем привычными для нас волнистые попугайчики, в Америке – ары и амазоны, в Африке – жако и неразлучники, в Юго-Восточной Азии – кольчатые попугаи.
Как это ни парадоксально, несмотря на свою чрезвычайную популярность, попугаи во многих отношениях до сих пор мало изучены по сравнению с другими видами птиц. В дикой природе изучать их затруднительно: его трудно отловить, еще труднее пометить, поскольку этим пернатым ничего не стоит стащить кольцо с лапы или сорвать с перьев клейкую метку. Непросто и следовать за попугаями – попробуй поспеть, ведь они порой покрывают огромные расстояния. И уж настоящая проблема вести наблюдение за птицами, которые большую часть времени проводят в кронах деревьев, часами напролет скрываясь в густой листве.
До недавнего времени все данные об их поведении складывались в основном из наблюдений за ними в неволе. Все сводилось главным образом к тому, каким сложным может быть их социальное поведение. Более или менее хорошо изучены лишь отдельные их виды – наиболее распространенные, да еще те, что обитают на открытых пространствах, и, наконец, как ни странно, самые редкие: численность их очень мала, и ради сохранения птиц исследователи предпринимают героические усилия, пытаясь разобраться, насколько это возможно, в сложных процессах, составляющих их жизнь. Совсем недавно произошло событие, лишний раз показавшее, что науке известно о попугаях далеко не все: в 2002 году бразильские исследователи опубликовали в журнале «Science» сообщение о новом виде попугаев, который был открыт ими в лесах Амазонии. Эти некрупные, чуть более 20 сантиметров в длину, зеленые попугайчики с ярко-желтыми головами получили название Pionopsitta aurantiocephal.
В природе большинство видов попугаев держатся большими, порой тысячными стаями – эти-то стаи, например, какаду в Австралии, и совершают набеги на сельскохозяйственные угодья. Именно жизнью в стае объясняются коммуникабельность попугаев и их тяга к компании, а также то, что порой эти славные пернатые могут быть невыносимо крикливыми и шумными. Что делать, ведь живя в стае, попугаи постоянно подают самые разные звуковые сигналы, перекликаясь со своими сородичами.
Ноги у попугаев крепкие и короткие, а снабженные острыми когтями пальцы расположены особым образом: два средних смотрят вперед, два наружных – назад. Попугаи берут лапой предметы, подносят к глазам, рассматривают, словом, ловко орудуют лапой так же, как мы рукой.
Есть у них и «третья нога» – так иногда называют своеобразный клюв, уникальный, какого нет больше ни у кого из птиц. Толстый, крючковатый, с подвижно прикрепленной к черепу верхней половинкой – с помощью такого инструмента птицы легко удерживают и крупные плоды, и мелкие скользкие зернышки, раскалывают орехи. Клювом попугаи могут открутить намертво закрученную гайку, крушат деревянные доски, а могут выполнять точные и аккуратные движения. А когда лазают по веткам, то так ловко подключают клювы к движению, словно их клюв и впрямь третья лапа.
Как выглядит попугай ара, мы представляем себе в основном благодаря кино и зоопаркам. А вот видеть этих потрясающих птиц в дикой природе доводится далеко не каждому. Ара – самые крупные и представительные попугаи, среди которых выделяется обитающий в Бразилии гиацинтовый ара. Этот попугай – самый внушительный из всех, вес его 1,7 килограмма, длина тела не меньше метра. Гиацинтовый ара питается плодами определенных видов пальм. Встречаются гиацинтовые красавцы редко, и мало кому удается наблюдать их в природе.
Самый редкий в мире попугай, да и вообще самая редкая птица – тоже ара и тоже синего цвета, но далеко не такой крупный. По данным на 2000 год, в лесу восточной Бразилии обитал единственный дикий самец Cyanopsitta spixii – по крайней мере, несмотря на все усилия, обнаружить других птиц ученым не удалось. Попытки же «познакомить» одинокого самца с подругами, выросшими в неволе, не увенчались успехом. А теперь о грустном. Нелегальная торговля дикими попугаями привела к исчезновению многих экзотических видов. И если бы не способность птиц размножаться в неволе, многие бы виды исчезли безвозвратно. Эта же способность упраздняет надобность в такой торговле. И все же неуемная страсть людей к экзотике и готовность хорошо платить за редкие экземпляры попрежнему ставят под угрозу существование в природе многих видов попугаев. В Сингапуре и Индонезии, Центральной и Южной Америке ведется отлов и активный контрабандный вывоз птиц, принимающий угрожающие размеры. Из одного довольно обширного (сравнимого по площади со штатом Калифорния) района Боливии, к примеру, за десять лет, начиная с 1975 года, были вывезены попросту все обитавшие в тамошних лесах крупные ара! Удивительны попугаи Новой Зеландии. Какапо (Strigops habroptilus) – громадная птица, самый тяжелый в мире попугай: вес самцов достигает 3 килограммов. Какапо утратили способность к полету и ведут ночной образ жизни: самцы этого вида издают по ночам такие громкие и рокочущие звуки, будто они грозные охотники. На самом же деле, так какапо призывают подруг. Другой редкий новозеландский попугай, кеа (Nestor notabilis), тоже необычен – эта птица приспособилась к жизни высоко в горах, у самой границы снегов.
За исключением немногих видов, живущих в степях или, как кеа, в горах, большинство попугаев – обитатели лесов. Это обусловлено двумя основными факторами. Первое – это пища: плоды, цветы, орехи, произрастающие главным образом на деревьях (хотя среди попугаев встречаются и хищники). Второе – это особенности проживания, поскольку почти все попугаи гнездятся в дуплах, а их легче всего найти в старых деревьях. Это обстоятельство для большинства попугаев настолько важно, что если в какой-то местности по тем или иным причинам исчезают деревья с дуплами, попугаи покидают ее, даже если остальные условия, в том числе и кормежка, остаются вполне сносными. Впрочем, некоторые виды со временем приспособились к другим условиям: одни научились извлекать пользу из соседства с человеком, точнее, с его полями и плантациями, которые служат отличной кормовой базой. А некоторые мелкие виды по-своему решили проблему гнездования: они переориентировались на термитники, устраивая гнезда непосредственно в них, что, кстати, также прибавляет плюсов к их неординарности.
Елена Владимирова
Загадки истории: Стихия великого переселения

Середина I тысячелетия – бесспорный рубеж в истории Европы. По одну сторону от него остался древний мир римлян и греков. По другую – та история, которую каждый европейский школьник учит как историю своей страны.
По традиции содержанием эпохи видятся грандиозные перемещения народов. Их прямым следствием стали падение Римской империи и образование варварских королевств. Слова «переселение народов» попали в нашу речь от немцев. Французские историки привычно называют то же самое «германскими нашествиями». Тут можно улыбнуться. Но едва ли – усмотреть большую разницу. Различаются интонации. А по существу то и другое названия имеют в виду одну картину. Придя в неописуемую подвижность, народы толкают друг друга до тех пор, пока от античного мира не остается камня на камне. Миграционные процессы захватывают огромные пространства Евразии и радикально меняют этнический, культурный и политический облик целой страны света.
В понятии «переселение народов» акцент сделан на «переселении». Мы поступим рассудительно, если спросим себя еще и о том, что мы понимаем под словом «народ»?
Кто куда пошел
События приняли для Рима катастрофический оборот в конце IV века. Появившиеся в степях Восточной Европы гунны молниеносным ударом разгромили готов, контролировавших территорию современной Украины. Часть побежденных пошла за победителями. Другие униженно просили императора Валента позволения перейти Дунай и поселиться в пределах Римской империи. Вскоре взаимное недоверие готов и римлян вылилось в военную конфронтацию, развязка которой наступила 9 августа 378 года. Разгром римлян при Адрианополе, во Фракии, был столь сокрушительным, что сам император Валент пропал без вести. Недавние беглецы неожиданно оказались хозяевами положения. Адрианопольская катастрофа явилась переломным моментом в истории отношений империи и наступающих варваров. В череде военных столкновений и договоров под единоличный контроль готов фактически перешли целые римские провинции на Балканах и в Подунавье.
Вторжение готов под предводительством Радагайса в Италию закончилось истреблением полчищ варваров. Но ночью 31 декабря 406 года вандалы, аланы и свевы прорвали границу империи на Рейне. Три года грабежей и насилий, по выражению очевидца, превратили Галлию в один погребальный костер. Осенью 409 года вандалы, аланы и свевы сумели пробиться через пиренейские перевалы в Испанию и закрепиться там.
Новость о взятии Рима вестготами во главе с королем Аларихом 24 августа 410 года потрясла воображение современников. Три дня Вечный город находился в руках варваров. По договору с римскими властями готы получили значительные территории в Южной Галлии, еще больше расширили их военным путем и глубоко продвинулись в Испанию, вытесняя оттуда вандалов. Вандалы и примкнувшие к ним аланы через Геркулесовы столбы (современный Гибралтарский пролив) переправились в римскую Африку – теперешние территории Алжира и Туниса. В 455 году они с моря вторично атаковали и разграбили Рим.
К середине V века западные провинции Римской империи оказались под страшным ударом гуннов. В 451 году сражавшиеся плечом к плечу римляне и готы остановили гуннский натиск в истребительной битве на Каталаунских полях в Галлии. Гуннская держава распалась со смертью своего предводителя Аттилы два года спустя, хотя врагов у римлян от этого не стало меньше. Подобно взорвавшемуся вулкану, она выбросила в римский мир огромные куски прежней гуннской коалиции.
Римская Британия мало-помалу становилась добычей англов, саксов, ютов. На свою долю Галлии помимо преуспевших первыми готов претендовали бургунды, затем и франки. Франкский король Хлодвиг в сражениях с римлянами и готами в 481 и 507 годах объединил под своей властью три четверти галльских земель. Его сыновья довершили дело, в 534 году расправившись со слабосильным бургундским королевством. После 476 года Италию контролировали варварские отряды под предводительством Одоакра, происходившего из скиров. Можно сказать, что это и было падением Римской империи. Современники на это уже не обратили особого внимания. Лакомый кусок у разношерстного воинства Одоакра в 493 году вырвал король Теодорих, выступавший во главе той части готов, которая в свое время подчинилась гуннам.
От Римской империи осталось то, что современники продолжали называть Римской империей, но мы сегодня называем Византией. Византийский император Юстиниан попытался силой вернуть империи Западное Средиземноморье. Успехи его полководцев, Велисария и Нарсеса, были столь же грандиозны, сколь и непрочны. В ожесточенной борьбе византийцы сокрушили королевства вандалов в Африке и готов в Италии. Все усилия пошли прахом буквально через несколько лет. Начиная с 568 года большей частью Италии овладели новые варвары – лангобарды. Но византийским императорам в это время было уже не до них. Они столкнулись с неразрешимыми трудностями на Востоке в борьбе с персами, а затем и арабами.
Авары, следующие после гуннов хозяева европейских степей, и их союзники славяне жестоко опустошали Балканский полуостров, осаждали города, не делая исключения и для византийской столицы. С грабительскими набегами и вражескими армиями в какой-то мере еще можно было совладать. Едва ли не худшим злом для византийских Балкан, изрядно обезлюдевших после вторжений VI века, оказалась мирная славянская колонизация. «Мирные» разбойники просто приходили и селились на этих землях. Отнюдь не склонные платить установленные в стране налоги, чересчур подчиняться властям, переселенцы стремились оставаться независимыми. Такое неуправляемое население нельзя было по-настоящему ни победить, ни прогнать, ни научить жить по местным порядкам. Быть императором с таким народом – если не утопия, то точно наказание.
Этнографические понятия древних
Набросанная картина варварских вторжений по-своему резонна. Вот только надо почувствовать и оценить ее односторонность. В своем изложении мы естественным образом идем по стопам римских и греческих писателей. Повторяя за ними, мы незаметно для себя перенимаем схематизм их жизненного восприятия, начинаем думать, как они. В этом не было бы ничего зазорного, если бы только их взгляды на жизнь нас вполне устроили. Держимся ли мы сами тех же взглядов, что и древние авторы текстов, ставших для нас свидетельствами эпохи?
Слова о чужих народах – способ, которым древние авторы стремились определить сходства и отличия между большими группами людей. Чужие народы, в их понятии, суть похожие между собой и неизменные единицы мира. Мир людей складывается из народов. А это означает, что все чужие люди – обязательно какой-нибудь чужой народ. Они не могут оказаться, к примеру, просто бандой разбойничающего на римской границе случайного сброда. На Рейне в IV веке такие банды называли себя германским словом «аламанны», что приблизительно и значит «банда». Однако в устах римлян «аламанны» – это такое дикое племя. С легкой руки римлян французы этим словом зовут немцев до сих пор.
Племена издревле делят землю и дают названия странам. Разные народы не похожи языком, общественным укладом, боевым вооружением и военной тактикой, в конце концов, тем, как люди одеваются, стригутся и причесываются. Римляне и греки считают эти признаки существенными, но вторичными. В их глазах чужие племена построены на фундаментальном принципе происхождения. Гунны родятся от гуннов, готы от готов. Народ – не отношения между людьми, а некоторое качество, присвоенное индивиду лично неотъемлемым фактом его рождения. В каком-то обобщенном, но вполне серьезном смысле варварские народы мыслятся как коллективы дальних родственников. Отсюда, по убеждению древних, людей одного народа как родню объединяют узнаваемые черты физического облика – телосложение, цвет волос и тому подобное.
В такой связи чужие народы рисуются частью скорее природы, нежели истории. Воображение греков и римлян отказывалось верить в то, что народ может сформироваться или измениться на их глазах, в переживаемых исторических обстоятельствах. Если народа не было, а потом он появился, значит, он переместился из неведомого пространства земли в известное. Больше ему неоткуда взяться.
Древние римляне и греки были трезвыми людьми и трезвыми глазами смотрели на социальную жизнь. Но это у них касалось только самих себя. Рим и Греция виделись им «обществами», а не «племенами». Римская империя сделала римлянами половину света. Быть римлянином – социальный навык и правовое определение. Римлянами становятся, до цивилизации умственно и нравственно дорастают. Чужие «племена» – другое дело. Кому не дано жить в цивилизованном обществе, тех заведомо не может сплотить ничто, кроме глухого, животного зова крови. За описаниями варварских «народов» и их «переселений» в конечном счете встает античный стереотип понимания того, как соотносятся «цивилизация» и «варвары».
Если древние авторы уверяют нас в факте эпохального «переселения народов», то это потому, что что-нибудь другое они элементарно затрудняются себе представить. Они загоняют себя в интеллектуальный тупик тем, что не признают у варваров наличия «общества», видят в них сплошные «народы», отправляют само понятие «народ» кудато в область биологии. По-человечески их можно понять. Римляне и греки таким способом претендуют на законченное совершенство собственного мира. Едва ли, однако, мы обязаны плестись в хвосте их идеалов и интеллектуальных способностей. Зачем нам чужие предрассудки? Или нам мало своих?
Было бы славно, если бы мы подумали что-нибудь другое. Народы – если говорить о них – начинаются с того, что становятся фактами воображения. Никто не может знать ни всех своих соплеменников, ни тем более предков. Остается эту связь себе воображать. Народы – умственные явления, из которых родятся человеческие поступки.
Взятые в исторической перспективе, народы напоминают движущиеся из прошлого в будущее монолиты. Сплошь и рядом мы сами примерно так и выражаемся. Это не лишено смысла, но чересчур образно. Народы по-настоящему существуют в калейдоскопе обстоятельств сложных человеческих взаимоотношений.
Гунны как умственное явление
Ужасающее нашествие гуннов во многих отношениях выглядит как экстремальный пример «переселения народа». Этнографические зарисовки латинских и греческих писателей откровенно тяготеют к зоологии. По словам одного, гуннов «можно принять за двуногих зверей» или «грубо обтесанные в виде человеческих фигур чурбаны». Если это и был «род людей, – продолжает другой, – то только в том смысле, что гунны обнаруживали подобие человеческой речи». Их черные лица – «безобразные комки с дырами вместо глаз». Откуда они свалились? Ученые писатели античности отвечали себе так: «Гунны были долго заключены в неприступных горах». Или же – «жили по ту сторону Меотийских болот (то есть Азовского моря) у Ледовитого океана».
Впечатляющая картина фантастических пришельцев расплывается и теряет убедительность по мере нашего знакомства со свидетельствами, не достигающими уровня ученого обобщения. Особенно любопытен рассказ греческого автора Приска. В 448 году он участвовал в посольстве императора Феодосия II к всесильному и грозному правителю гуннов – Аттиле. С одним гунном Приск разговорился. Гунн оказался бывшим греческим купцом. На хорошем греческом языке они поспорили о достоинствах и недостатках Римской империи. В стане гуннов, сообщает Приск, обретался римский аристократ Орест, будущий отец последнего римского императора Ромула Августула. Замуж за Аттилу хотела красавица Гонория, дочь императора Констанция, сестра царствующего императора Валентиниана. Из династических соображений брат обрек ее на вечную девственность. Измученная такой несправедливостью, Гонория передала Аттиле перстень в знак их обручения и просьбу завоевать Италию и избавить ее от тирании брата.
Приск рассказывает, как за столом Аттилы «смешивают латинскую, готскую и гуннскую речи». Он приводит одно слово «по-гуннски»: у них вместо вина пьют то, что они сами называют «мед». Всего латинские и греческие авторы записали два «гуннских» слова, и оба они – безусловно славянские. Зато имя Аттилы совершенно точно происходит из языка готов. Оно буквально значит «папа» или «папочка». Правда, историки не уверены, что «Аттила» – это имя, а не титул правителя гуннов, принимаемый за имя по ошибке. Германский героический эпос Средних веков явно не считает Аттилу чужим героем. В «Песне о Нибелунгах» Аттила выступает под именем истребителя бургундов Этцеля. Скандинавская «Эдда» помнит о нем как об Атли. О происхождении гуннов повествует готское предание, записанное через 100 лет после крушения гуннской державы. Согласно этой легенде готы прогнали от себя нескольких колдуний. От их соития со встреченными в пустыне нечистыми духами и пошли гунны. Надо уловить оба смысла сказанного. Имеется в виду: гунны готам – родные люди, хотя и черти из преисподней, с другой стороны. Насчет их происхождения мы знаем больше благодаря китайцам. «Гунны» – то же самое, что «хунну» или «сюнну», кочевавшие в степях Забайкалья и Монголии за 7 веков до Аттилы. Для защиты от «хунну» и началось строительство Ваньличанчэн, фортификационного сооружения на северной границе Китая, которое европейцы называют Великой китайской стеной. Ко II веку от былого могущества «хунну» не осталось и следа. Полностью разгромленные новыми кочевыми народами, «хунну» двинулись на Запад, увлекая за собой массу тюркоязычных племен Центральной Азии, ираноязычных кочевников Средней Азии, угроязычные и самодийские племена юга Западной Сибири и Приуралья. Их бегство превратилось в нашествие, втягивавшее в общее движение кочевых орд бесчисленные народы.
Ядро воинов, пришедших из Азии, легко вбирало других. Эти другие не вполне теряли собственное этническое лицо. Отметить этот видимый парадокс важно для понимания эластичности и хрупкости этносов в «эпоху переселения народов». Гунны – на самом деле и гунны, и не гунны. Армия Аттилы в исторической битве на Каталаунских полях состояла из едва ли не одних германцев. Быстрая дезинтеграция гуннской империи, стремительное исчезновение самого имени гуннов последовали за первыми значительными неудачами и смертью вождя. Гунны снова оказались готами, скирами, ругиями, гепидами, сарматами. Греческий эпитет, которым награждает гуннов Приск, означает «случайно сбежавшаяся толпа», «сброд». Гунны – не проблема Азии, пришедшая в Европу. Прежде всего это проблема этнической истории Европы, в которой необозримые массы людей были готовы приобщиться к гуннам. Если бы не они, ни о каких гуннах никто бы в Европе и не услышал.
Кто кого разрушил первым
Если варварский мир разрушил Римскую империю, то это потому, что сначала Римская империя разрушила варварский мир. Рим и был настоящей причиной тех катаклизмов, которые потрясли Европу и в конечном счете привели его к катастрофе.
Германский мир, каким мы его знаем в середине I тысячелетия, обязан своим существованием инициативе и энергии Рима. Его экспансия переворачивала жизнь соседей. Военный, политический, культурный пресс империи уничтожал устоявшиеся формы жизни той части Европы, которая оставалась за ее границами. Завороженные величием и богатствами цивилизации средиземноморского юга, варвары стремились к тому же. Успех предприятия был настолько полным, что к концу античности, когда готы, бургунды, франки оказались хозяевами Римской империи, для них было уже совершенно невозможно представить самих себя, не прибегая к этнографическим, политическим, нравственным категориям Древнего Рима.
Римляне хотели себе понятных и управляемых германцев. Им казалось проще и лучше иметь дело с немногими вождями, которые бы контролировали своих соплеменников. С плохо организованной и управляемой массой населения не совладает никакая сила. С хаосом без толку воевать и ни о чем нельзя договориться. Римляне в своей практической политике насаждают среди своих соседей королевскую власть, фактически провоцируя их консолидацию.
Варварские народы, разрушившие Римскую империю, стали продуктом драматического кризиса варварского мира, повлекшего за собой трансформацию традиционных варварских обществ. Он разразился с конца II века. Римляне знают его под именем «войны с маркоманами». Для них это был тяжелый пограничный конфликт на Среднем Дунае. Император Марк Аврелий опрометчиво передвинул несколько римских легионов с дунайской границы на восток, после чего полчища квадов и маркоманов дошли до Аквилеи. Только огромными усилиями и кровью римляне сумели тогда переломить ситуацию в свою пользу. На стороне варваров выступили племена едва ли не всей Германии. «Война с маркоманами» была на самом деле лишь мощным эхом грандиозной перестройки всего германского мира. Одни племена – те же маркоманы – навсегда исчезли. Новые объединения сложились.
Бури конца II века радикально изменили саму структуру германских обществ, сделав их другими. В обстановке хронической военной нестабильности война становится главным делом всех. Новые народы, «построенные» для войны, совпадают с войском. Такие военизированные народы – дело рук военных олигархий и вождей. Присоединяя разрозненные группы «искателей приключений», ассимилируя разбитых врагов, новые германские племена слагались из разных людей, которые собирались вокруг относительно небольшого ядра и очень скоро начинали чувствовать себя сопричастными этому ядру и его этнической традиции. Имя единого народа и есть средство организовать людей.
Подлинная этническая история «эпохи переселения народов» – это история непрерывного изменения, радикального нарушения преемственности, политических и культурных зигзагов, замаскированных повторяющимся присвоением старых слов для определения новой реальности. Неудивительно, что в какой-то момент «готами» оказываются одновременно два разных «народа». У одних будет королевство в Испании и Галлии, у других – в Италии и Иллирике.