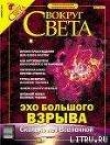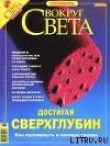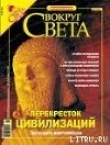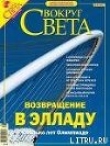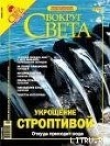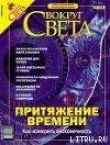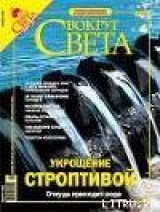
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» № 11 за 2004 год (2770)"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 10 страниц)

У могилы неизвестного норвежца
Есть на окраине Диксона одинокая могила, с которой связана одна из загадок Арктики. Обходя поселок, мы подошли к высокому, крутому берегу, на котором был установлен памятный знак – окруженная массивной железной цепью гранитная плита, у основания которой лежит морской якорь. Надпись на табличке, прикрепленной к граниту, гласила: «Тессем, норвежский моряк, член экспедиции м/ш „Мод“. Погиб в 1920 году». Чуть ниже по склону берега стоял старый деревянный крест, на прибитом к нему куске жести было написано: «Вблизи этого места погиб участник экспедиции Руаля Амундсена Петер Тессем».
Начало этой трагической истории относится к осени 1919 года, когда двое участников экспедиции Амундсена отправились с мыса Челюскин к Диксону. В 1918 году Руаль Амундсен на шхуне «Мод» совершал путешествие вдоль северного побережья Евразии. У мыса Челюскин судно зазимовало. Опасаясь за судьбу собранных научных материалов, Амундсен поручил своим спутникам – Петеру Тессему и Паулю Кнутсену – доставить их на полярную станцию острова Диксон. Хотя двум норвежцам предстояло преодолеть в условиях полярной ночи почти 1 000 км, задание не выглядело чрезвычайно сложным – оба были очень опытными путешественниками. 15 сентября 1919 года Тессем и Кнутсен вышли в путь, но добраться до Диксона им было не суждено.
В конце августа 1922 года Никифор Бегичев, отправившийся охотиться на оленей на восточный берег материка напротив острова Диксон, километрах в трех от полярной станции нашел труп человека. Очевидец этих событий, известный геолог Николай Урванцев позднее писал: «Останки представляли собой уже скелет, без кистей рук и ступней ног… В карманах фланелевой рубашки были найдены патроны к винтовке, коробка спичек, перочинный нож и маленькие ножницы. Документов не было. Около пояса лежали металлические часы карманного размера. На задней крышке гравировка по-английски: „Полярная экспедиция Циглера. Петеру Л. Тессему, корабельному плотнику судна „Америка“… На ремешке у пояса висели свисток и обручальное кольцо с гравировкой на внутренней стороне: «Паулина“. Ни лыж, ни винтовки поблизости не оказалось.
Погибший лежал навзничь на земле, но сразу под его ногами уже шел гладкий каменный склон. Руки были вытянуты вдоль тела, левая нога прямая, правая немного подогнута». Надо сказать, что за год до этого, осенью 1921-го, возглавляемые Бегичевым поиски двух пропавших норвежцев были прекращены. Поисковые работы оказались практически безрезультатны – партии Бегичева удалось найти в глубине большой бухты у полуострова Михайлова, что в 300 км от Диксона, остатки костра, а в нем обгоревшие кости, принятые за человеческие. Тут же находились разнообразные мелкие предметы – пуговицы, патроны, пряжки. Тогда было решено, что это – стоянка норвежцев, на которой один из них кремировал останки своего погибшего товарища. А почти за месяц до находки тела норвежского моряка неподалеку от полярной станции Диксона экспедиция Николая Урванцева, в которой Бегичев работал проводником, обнаружила близ устья реки Зеледеева (километрах в 90 от Диксона) пакеты с научными материалами и почтой Амундсена, а также личные вещи, без сомнения, принадлежавшие Тессему и Кнутсену. Казалось, картина их гибели ясна – у полуострова Михайлова нашел свою смерть Кнутсен, а на Диксоне скончался Тессем.
На то, что у полярной станции похоронили именно Тессема, как будто указывали обнаруженные рядом с телом часы и обручальное кольцо. Ведь оба эти предмета принадлежали именно ему (Паулиной звали жену Тессема). Однако и кольцо, и часы были найдены не на теле, а рядом с ним. Поэтому появились предположения, что до Диксона добрался Кнутсен, а найденные при нем кольцо и часы он должен был передать родным погибшего ранее Тессема. В середине 1970-х годов после тщательного анализа архивных материалов выяснилось – стоянка у полуострова Михайлова не имеет никакого отношения к переходу Тессема и Кнутсена, что еще больше запутало эту давнюю историю. До сих пор неизвестно, кто из норвежцев похоронен под гранитным обелиском и где находится могила другого.
Стоя на берегу, мы пытались представить себе, как по этому обрывистому склону карабкался измученный, истощенный человек. Возможно, он даже видел огни полярной станции, добраться до которой ему не хватило немного сил и удачи.
Со стороны моря ветром нагнало липкий, влажный туман, начал накрапывать мелкий дождь, пора было поворачивать к заставе.
«Хранилище погоды»
На следующий день мы отправились на остров. Тот же самый катер перевез нас через пролив, и мы оказались в островной части поселка, с которой, собственно, и начался Диксон. Так же как и на материке, здесь все пришло в упадок. Когда-то на острове стояла воинская часть ПВО, несколько лет назад военных отсюда вывели. Но, судя по всему, их поспешный уход больше напоминал бегство. Территория бывшей воинской части захламлена валяющимися в беспорядке бочками, строительным мусором, цистернами, вокруг стоят полусгнившие, местами обгоревшие убогие домишки.
Островной Диксон, словно отражение материкового, – тот же унылый пейзаж запустения, сменивший благополучные дни поселка. Кажется, что здесь давно позабыты все, и живые, и мертвые – местное заброшенное кладбище с повалившимися оградами и упавшими деревянными надгробиями, на которых уже не прочесть имена похороненных людей, выглядит сегодняшним символом этих мест.
На острове расположено одно из немногих все еще работающих предприятий Диксона – Управление по гидрометеорологии.
Мы зашли к синоптикам и – словно попали в другой мир. Чистое, ухоженное здание, просторные кабинеты, на столах компьютеры, окна заставлены цветами. Диксонский метеоцентр – один из важнейших пунктов наблюдения за погодой. Когда-то здесь работали более тысячи человек, почти 40 метеостанций, разбросанных по всему арктическому побережью, занимались непрерывным сбором синоптических и гидрологических данных, ледовой разведкой. Этот тяжелый и опасный труд хорошо оплачивался. Что бы ни случилось, метеоцентр Диксона не закроют – без работы здешних метеорологов навигация в западном секторе Арктики невозможна, да и прогноз погоды по европейской части страны в отсутствие данных из этого региона будет крайне ненадежен. Сегодня Управление по гидрометеорологии переживает далеко не лучшие времена – коллектив сократился в несколько раз, осталось лишь 7 метеостанций, уже много лет штат не пополнялся выпускниками вузов. За мизерную зарплату здесь трудятся в основном люди пенсионного возраста, но и они предполагают остаться на Таймыре еще лишь на год– два, многие уже отправили свои семьи на Большую землю.
На УАЗике одного из метеорологов мы возвращаемся к причалу, заодно осматривая местные достопримечательности – заброшенное здание клуба, закрытую библиотеку, гостиницу. На крутых подъемах нос машины отчаянно задирается, мы въезжаем на главную улицу, приближаясь к памятнику погибшим на Диксоне во время войны морякам-североморцам…

Северная «пятиминутка»
Едва мы вернулись на заставу, прапорщик Плотян, сверкнув золотым зубом, сказал: «Собирайтесь, на рыбалку пойдем». Мы кинулись переодеваться, но оказалось, что наша поспешность напрасна. Мичман Рыжков, капитан пограничного катера, на котором мы должны были отправиться на рыбалку, заявил, что в такой туман он в море не выйдет. Час проходил за часом, а несговорчивый мичман не соглашался ни с какими аргументами Плотяна и вертолетчиков, которым не терпелось наловить рыбы. Наконец, ближе к полуночи Рыжков сдался. Мы погрузили на катер сети, продуктовые концентраты и вышли в море. Спустя сорок минут судно оказалось в виду низменного берега, близ устья речки Лемберова. Рыжков на самых малых оборотах вел катер к суше, поставив на бак матроса, который постоянно промерял глубину метр-штоком. Наконец, метрах в двухстах от берега мичман застопорил мотор и приказал отдать якорь – предстояло пересесть на лодки. Их у нас было три – две резиновые надувные и одна алюминиевая. Тут выяснилось, что хорошо грести умеет только прапорщик. Он лихо управлялся с веслами и через несколько минут уже разгружался на берегу. У нас на веслах – штурманы обоих вертолетов Матвей Носков и Володя Дорошин. Уключины были давно сломаны, лодка вертелась во все стороны, и мы под смех и шутки кое-как добрались до берега. Нос лодки уткнулся в песчаный пляж, покрытый черной галькой, заваленный плавником – бревнами, ветками, сучьями, выброшенными штормами, выбеленными морем и ветром, изрядно потрепанными волнами. Пляж простирался далеко в обе стороны побережья, и повсюду лежали, словно скелеты каких-то гигантов, побелевшие стволы деревьев.
Пока мы пытались добраться до берега, прапорщик успел поставить сети и уже вытащил четырех омулей. Метрах в трехстах от места нашей высадки, на берегу речки, виднелся балок – небольшой домик, его единственное подслеповатое оконце смотрело на море. Мы остановились в этом нехитром жилище, всю обстановку которого составляли двухъярусные нары, стол да печка-буржуйка. Летчики тотчас разожгли в очаге огонь, и внутри фанерной избушки мигом разлилось тепло. Матвей Носков и бортмеханик Сергей Зинчук, вооружившись спиннингами, отправились на речку ловить хариуса. На улице уже принялись разделывать пойманного прапорщиком омуля. Андрей Перминов, ловко орудуя ножом, потрошил и чистил (шкерил) трепыхающуюся рыбу. Ребята принесли с реки чистую воду, поставили на огонь чайник. Все они делали быстро, легко, словно играючи. Посыпались шутки, между делом завязался разговор. Работа у летчиков нелегкая – на старых, видавших виды машинах они в любое время года и порой в самую отвратительную погоду несут службу в небе Арктики. Однако ни от одного из них мы не услышали ни слова жалобы, напротив, летчики производили впечатление очень уверенных в себе, жизнерадостных, нашедших свое место в жизни людей.
Из пойманной рыбы Архипов приготовил «пятиминутку» – мелко нарезанного омуля залил уксусом, посолил, поперчил, добавил лук. Попадающуюся в рыбе икру ели сырой, лишь слегка присолив. Белое полотнище тумана застелило берег, слившись с лежащим кое-где снегом. Прапорщик предложил сходить на реку, посмотреть, как ловят хариуса. Путь через тундру трудноват – ноги частенько проваливались во влажный мох. Прапорщик шел легко, быстро, на ходу рассказывая о тундре, о своем житье-бытье, да еще и успевал собирать грибы. У одного из плесов мы встретили летчиков, на берегу – пяток выловленных ими рыб.
Прапорщик Плотян остался недоволен уловом и повел нас в более рыбные места. Солнце постоянно скрыто низкой серой облачностью и туманом. С высоких речных утесов открылась морская даль, объятая необычайной тишиной и покоем. Прапорщик привел нас к широкому перекату, успев по дороге набрать земляных червей. Рыбалка здесь и впрямь оказалась удачливее – уже через несколько минут на берегу, сверкая серебристыми боками, лежали великолепные красавцы-хариусы.
По возвращении в балок неутомимый прапорщик отправился к морю – там уже вынимали сети. Тут же рыбу разделывали, потрошили, мыли, солили крупной солью и рядами укладывали в пластиковые бочки. Вскоре в них лежало килограммов 200 омуля. После такой работы у всех разыгрался аппетит, пора было вернуться в балок и отведать «пятиминутки». Блюдо оказалось необыкновенно сытным, дополняла трапезу свежепосоленная икра, целый котелок которой переходил из рук в руки. Ночь давала о себе знать – кто-то начал клевать носом у стола, кто-то задремал в уголке.
На берегу из плавника разложили костер. У огня Рыжков положил коптиться пару рыбин. К утру заметно похолодало, туман унесло ветерком, небо прояснилось. Летчики хотели остаться здесь на целый день, но Рыжков стал пугать надвигающимся штормом, и мы засобирались в обратную дорогу.
Край света по имени Эклипс
Минуло трое суток с тех пор, как мы прибыли на Диксон. Наконец погода смилостивилась. Утром было холодно, ветрено, пасмурно, но без тумана, и оба вертолета, сделав прощальный круг над Диксоном, взяли курс на северо-восток, унося нас к мысу Депо. В воздухе нам предстояло пробыть около трех часов, сделать промежуточную остановку на погранзаставе Эклипс, а уже оттуда перелететь на побережье залива Миддендорфа, к конечной цели нашего путешествия.
Застава Эклипс – одна из самых труднодоступных точек нашей страны, связь с которой большую часть года поддерживается только по радио. На заставу с нами летел возвращавшийся из отпуска старший лейтенант Андрей Егоров. Ему тоже предстояло отправиться на мыс Депо – командование пограничников, опасаясь визитов в наш лагерь белых медведей, включило в состав экспедиции лейтенанта в качестве вооруженной охраны. На Эклипсе Егоров должен был забрать снаряжение и оружие.
Маршрут наших вертолетов был проложен над морем. Вскоре под нами появились первые плавучие льды. Эти ледяные поля были еще невелики, между ними видны обширные пространства открытой воды. Не прошло и часа, как мы покинули Диксон, а все вокруг заволокло туманом. Иллюминаторы словно залеплены ватой, с нашего борта 51 стал едва различим ведущий вертолет. Обе машины поднялись выше, пробив завесу тумана и облаков, за которыми теперь уже не разглядеть ни суши, ни моря.
Наше воздушное путешествие тянулось бесконечно долго, но вот наконец вертолеты начали снижаться. За бортом, в клочьях тумана, появились какие-то полуразрушенные строения, стоящие на берегу моря цистерны. Видимости не было почти никакой, и наши машины снижались очень медленно, словно на ощупь. Мы приземлились на крошечную посадочную площадку, обозначенную оранжевыми огнями. У трапа нас встретила группа пограничников. Для заставы визит вертолета – целое событие, он прилетает сюда не чаще двух раз в год, судно, доставляющее продукты и топливо, приходит раз в год, радиосвязь с внешним миром неустойчива. Это действиительно край земли. Посадочная площадка расположилась прямо у моря, возле берега стоял лед. Унылый пейзаж дополняли огромные цистерны с топливом, развалины домишек, оставшиеся от выведенной части ПВО, кучи ржавых бочек, груды битого кирпича, покореженные ящики, в изобилии разбросанные вокруг, вбитые в грязь куски труб и обрывки проводов. Туман загустел, стал почти осязаем. Наши летчики не рискнули в такую погоду отправиться дальше, и нам пришлось искать приют на заставе.
На Эклипсе пограничники обосновались в 1968 году. Когда мы подошли к каким-то баракам, которые и оказались погранзаставой, то решили, что с конца 1960-х годов здесь ничего капитально не ремонтировалось. Вся застава, на которой живет не более 30 человек, – это, по сути, несколько балков. Даже наших летчиков, повидавших многое, впечатлил вид этого забытого Богом и людьми места. Вокруг кучи разнообразного мусора, лужи горюче-смазочных материалов, убогие, сколоченные из попавшихся под руку досок,постройки. Кажется, человек сделал все, чтобы его существование здесь стало безрадостным и невыносимым.
После стандартного обеда (макароны с тушенкой) мы на небольшом вездеходе отправились на мыс Вильда, туда, где находится единственная достопримечательность этих мест – так называемый крест Колчака. На мысе установлен знак, будто бы сооруженный Колчаком во время плавания «Зари».
За идущим по тундре вездеходом увязались чуть ли не все местные собаки. По мере удаления от заставы пейзаж начал меняться – пропали из виду неказистые постройки, исчез разбросанный по округе хлам. В отсутствие этих признаков человеческой цивилизации отступило какое-то тягостное чувство, не покидавшее нас на заставе. На открывшемся просторе тундры глазу не за что было зацепиться, лишь колеи от гусениц вездеходов вычерчивали на бесконечной равнине замысловатые узоры.
Вскоре мы выехали на песчаный берег, покрытый галькой. Из-под гусениц полетели камни, комья грязи, вездеход прошел еще с километр и остановился на небольшом галечном мысе. На одной его стороне стоял деревянный столб, чуть дальше и ближе к морю расположились в ряд три могилы. Пейзаж был строг и суров, подкрашен туманом. Чуть накренившийся столб – это и есть крест Колчака, на прибитой к нему табличке – координаты этого места и какая-то аббревиатура. Могилы, приютившиеся на мысе, появились здесь в разное время. Одна из них почти 100-летней давности, в ней в 1915 году похоронили кочегара Мячкова, ходившего на судне «Вайгач», которое зимовало у этих берегов. Другая в 1974 году стала последним пристанищем для замерзшего солдата из части ПВО, стоявшей на Эклипсе до 1995 года. На третьей лаконичная надпись: «Сергей Кузнецов 1980—2000». 4 года назад, зимой пограничники – двое солдат и лейтенант – выехали с заставы на МТЛБ (малый тягач легко бронированный). В пути машина сломалась, началась пурга. Один из солдат выкопал яму в снегу и благополучно переждал непогоду. А Кузнецов и лейтенант решили пойти на заставу, до которой с тяжелейшими обморожениями добрался только один офицер. Тело Кузнецова нашли несколько суток спустя…
Мы просидели на заставе еще несколько часов, и вот, ближе к вечеру, когда пограничники уже начали устанавливать для нас кровати, в молочном занавесе тумана появилось «окно». Участники экспедиции заняли свои места в вертолетах, и машины тотчас взмыли в воздух.
Дневник мыса Депо
2 августа, вечер
Белая мгла тумана поглотила берег, вертолеты садятся по приборам. Летчики – настоящие виртуозы: высаживают нас точно на место, у столба, под которым хранится склад Толля. Выгружаемся, не выключая двигатели. Винты взбивают воздух, делая его плотным и вязким. Трудно дышать, нелегко таскать тяжеленные рюкзаки. Наконец машины уходят. Переведя дух, осматриваем окрестности. Вокруг, насколько хватает глаз, – кочковатая равнина, покрытая реденькой травкой, мхом и лишайником, которая постепенно спускается к морю, превращаясь в чередующиеся галечниковые, каменистые и песчаные пляжи. На море стоит лед. Дует очень сильный, холодный ветер. Начинаем устанавливать палатки и тент для кухни, но ветер словно задался целью нам помешать. Дрова для первого костра нашлись на берегу, однако плавника в непосредственной близости от лагеря очень мало. Идем по побережью в поисках топлива. Местность вокруг однообразна и в то же время интересна – кажется, можно без конца ходить вдоль моря. Пока готовился ужин, определили место будущих раскопок – оно находится в нескольких метрах от столба. Туман еще больше сгустился, начался дождь. Забираемся в палатки, устраиваясь на ночлег. Ночевка холодна, но после забот прошедшего спится неплохо.
3 августа
Приступаем к раскопкам. Мерзлая земля почти не поддается ни лому, ни кирке. Работаем, непрерывно сменяя друг друга. Из лагеря иногда приносят горячий чай и бутерброды. За 3 часа углубляемся в грунт примерно на метр и натыкаемся на крышку первой фляги, в которую уложены продукты 30-летней давности. Яма становится все шире, появляются еще две фляги, жестяные банки и два ящика. Работы приостановлены – надо осмотреть находки и понять, какие из них подлежат выемке, а какие необходимо оставить до 2050 года. Целый день идет дождь, наша одежда давно промокла насквозь. Термометр показывает +5°. Чтобы не мерзнуть, необходимо все время двигаться. Продолжаем долбить мерзлоту, теперь работа продвигается медленнее – опасаясь повредить содержимое емкостей, орудовать ломом приходится очень аккуратно.
4 августа
Цель достигнута – мы извлекли из вечномерзлого грунта продукты, выдержавшие испытание временем. В том, что продовольствие прекрасно сохранилось, ни у кого не возникает и тени сомнения – на консервных банках, много лет пролежавших под землей, нет и пятнышка ржавчины. Не располагает к порче и температура, при которой хранились продукты: минимальный термометр, поднятый на поверхность вместе с банками, показывает –37,5°С. Среди 35 наименований продуктов, столь долгий срок находившихся в плену холода, выделяется несколько блистающих желтыми боками консервных банок, на которых написано: «Щи с мясом и кашею. 1900 год». В освободившуюся яму опускаем емкости с современным ассортиментом – мясные консервы, кофе, чай, шоколад, конфеты, сухое молоко… Работу заканчиваем уже под вечер, без перерыва льет все тот же дождь. Лагерь утопает в грязи.
5 августа
Непогода наконец оставила нас. Прекратился дождь, нет ни малейшего намека на туман, горизонт раздвинулся, открыв вдруг самые отдаленные берега залива Миддендорфа. Все вокруг пропиталось дождевой влагой, мерзлая земля не принимает воду. Последний день нашего арктического путешествия на исходе, завтра должны прилететь вертолеты.
6 августа
Ранним утром сворачиваем лагерь, с опаской глядя, как все новые волны тумана заливают берег. Мыс тонет в белой липкой влаге, висящей непроницаемым плащом в холодном утреннем воздухе. С каждой минутой тают наши надежды на то, что вертолеты смогут сегодня прийти за нами. Все вещи давно собраны, мы сидим на тюках, томясь в ожидании. Проходит несколько часов, и вдруг ветер доносит шум винтов вертолетов, он то приближается, то исчезает вовсе – летчики ищут нас в призрачных владениях тумана. В воздух одна за другой летят ракеты, и прямо перед нами, разорвав винтами туманную пелену, опускаются обе машины. Погрузка занимает несколько минут. Перед тем как захлопнуть люк, я оборачиваюсь, чтобы в последний раз взглянуть на этот краешек далекой земли, принадлежащий стране по имени Таймыр.
Таймырский (Долгано-Ненецкий) автономный округ
Положение в составе России Округ является частью Красноярского края, граничит с Республикой Саха, Ямало-Ненецким АО и Эвенкийским АО. Полностью расположен за полярным кругом. Площадь 904,6 кв. км.
Административный центр Город Дудинка. Численность населения округа 292,5 тыс. человек. Среди других крупных населенных пунктов Норильск, Хатанга, Диксон.
Время Разница с московским временем составляет +4 часа.
Климат Резко континентальный. Средняя январская температура в районе Дудинки -30 °С, июля 2—13 °С. В течение всего года на полуострове очень невелико количество ясных дней, высока влажность воздуха, часты туманы, сильные ветры северных румбов. Продолжительность зимы 8 – 9 месяцев, лето короткое и прохладное.
Транспорт Сообщение осуществляется в основном по воздуху – самолетами и вертолетами, рейсы которых не всегда регулярны.
Дмитрий Иванов