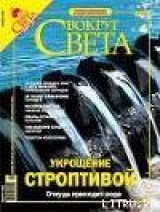
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» № 11 за 2004 год (2770)"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
В «берлинском разделе» – стилизованном, но довольно мрачном – есть аттракционы по-своему любопытные. В зале установлена телефонная будка, в которой время от времени звонит телефон-автомат. Если вы снимете трубку, услышите забавный рассказ о супружеской паре – китаянке и гражданине ГДР, которые были агентами трех разведок, что, судя по всему, в Берлине было делом обычным. Немец – аспирант Пекинского университета – и студентка поженились в 1966 году. К этому моменту он уже был агентом Штази, а она – китайской разведчицей. Через год они переехали в Восточный Берлин, перевербовали друг друга и зажили припеваючи на деньги двух спецслужб. Потом их обоих завербовало ЦРУ – они много знали, вращаясь в дипломатических кругах. Жизнь стала еще богаче. В 1990 году, уже в демократические времена, к ним пытались подобраться сотрудники КГБ, но было поздно – они устали.
Зал славы
Музейные кураторы относятся к материалу, с которым работают, со здоровой иронией. Об этом свидетельствует, например, лихо смонтированный ролик, состоящий из фрагментов шпионских фильмов и пародий на них – от Хичкока и Орсона Уэллса до Остина Пауэрса. Но когда речь идет о цеховых нормах и профессиональных идеалах, разговор с посетителем ведется вполне серьезный. Экспозицию венчает пространство, которое можно назвать Залом Шпионской Славы. На больших мониторах крутятся фильмы о разоблачении Олдрича Эймса, а члены Совета директоров музея рассказывают более или менее интересные истории из собственной практики. По стенам развешаны фотографии разоблаченных шпионов, которые достойно прошли свой профессиональный путь, иногда поплатившись за это жизнью. Тут все равны – агенты ЦРУ, Моссада и КГБ. Олег Пеньковский, который, по мнению многих, ценой собственной жизни предотвратил ядерную катастрофу. Разоблаченный и повешенный израильский шпион Элиа Коэн, который сумел под прикрытием проникнуть в сирийское высшее общество. Лари Чин, китайский шпион, работавший в ЦРУ и разоблаченный в 1986 году, задушил себя пластиковым мешком в тюремной камере. Адольф Толкачев, казненный по наводке Эймса. «Архивист КГБ» Василий Митрохин, передавший в 1992 году британским спецслужбам 300 тысяч секретных документов, и многие другие.
Нужные вещи
Музейный магазин – одно из самых симпатичных и привлекательных мест в ММШ. Чего здесь только нет! Разумеется, все о Джеймсе Бонде: его костюмы, его женщины, его оружие, музыка из фильмов о нем и сами фильмы. А также – множество безделушек с двойным дном и тайниками, ручки с невидимыми чернилами, приборы ночного видения, замаскированные под столовые приборы диктофоны, шифровальные (криптографические) игры и головоломки. Или еще – элегантные контейнеры с какими-то гранулами с этикеткой, содержащей информацию, что это сверхсекретные документы ЦРУ, вернее – продукты их ежедневной переработки.
Спецканцтовары – папки для бумаг с грифом «Совершенно секретно», печати, на которых вырезано: «По прочтении – сжечь», «Не копировать», «Это самоуничтожающееся сообщение», «Этого документа не существует».
Особое удовольствие доставляет просмотр книг из известной серии «Для чайников…» Только «чайники» здесь пытаются освоить не Word, а, например, криптографию. В серии также «Методы наружного наблюдения для чайников», «Боевые искусства для чайников», «Деятельность спецслужб» – для них же и тому подобное. По признанию продавцов, самым большим успехом у посетителей пользуются майка с надписью «Deny everything» («Все отрицай») и кепка «Шпион». Есть майка, на которой изложены правила поведения в Москве («Никогда не оборачивайся – ты под наблюдением»; «Всегда доверяй своим инстинктам»). Но это все – игрушки. А если серьезно, то тут можно купить и настоящие прослушивающие устройства (имея в виду, правда, что в некоторых штатах– список прилагается – использование этого приспособления незаконно) или камеру наблюдения, замаскированную под уловитель дыма.
А вы сами похожи на шпиона?
Прежде чем покинуть музей, вы попадаете в своеобразную переходную зону, где одни компьютеры проверяют, как вы запомнили свою легенду, и решают вопрос о том, выпускать вас из страны или сдать спецслужбам, а другие помогают найти окна вашей квартиры на аэрофотосъемке, сделанной со спутника. На стене висит простой объект – зеркало. Оно находится в нарисованном на стене растре оптического прицела. Под зеркалом надпись: «Вы увидели множество шпионских лиц. А вы сами похожи на шпиона?» Вопрос серьезный. Не найдя однозначного ответа, я оглянулся и увидел, что за компьютером два пастора проверяются на знание легенды. О том, что эти люди священнослужители, свидетельствовали только длинные черные пиджаки и белые подворотнички. Выглядели они крайне подозрительно…
Анатолий Голубовский
Роза ветров: Лицом к восходящему солнцу

Добраться до «восточного Востока» можно либо из города Дарвина, что на севере Австралии по другую сторону Тиморского моря, либо с индонезийского острова Бали. Только с ними Тимор-Лешти связывают регулярные авиарейсы. А прилетают самолеты в столицу Восточного Тимора Дили – его самый большой город, хотя вообще-то большим назвать его трудно: численность населения всего 50 тысяч человек.
Еще Дили – главный порт страны и центр ее деловой жизни, которая отнюдь не бьет ключом. А потому в приморском городе царят покой и тишина, которую лишь изредка нарушает музыка, несущаяся из открытых окон такси, без толку раскатывающих по пустым широким улицам. Редким туристам водители такси рады как родным: число их постоянных клиентов неумолимо убывает. С 1999 года самыми частыми пассажирами такси были военнослужащие миротворческих сил ООН, контингент которых постепенно сокращается с тех пор, как 20 мая 2002 года остров получил независимость – во второй раз за свою историю. Впервые это произошло 28 ноября 1975 года, когда Тимор назывался Португальским, и пробыл он тогда независимым всего 9 дней.
Португальцы появились на Тиморе в начале XVI века, а в его середине весь остров стал их колонией. Но потом о своих претензиях заявили голландцы, которые, начав колонизацию Индонезии с острова Ява, захватывали все новые и новые земли архипелага. Столкновения между голландцами и португальцами на Тиморе в конце концов привели к тому, что в 1859 году они поделили остров, и его восточная часть стала Португальским Тимором. Индонезия, получив независимость в 1949 году, с португальцами не связывалась. Но через 9 дней после того как они ушли, Индонезия захватила бывшую колонию, превратив ее в свою провинцию Восточный Тимор.
Однако Тимор-Лешти (более чем на 90% католический) провинцией Индонезии (почти на 90% мусульманской) быть не желал, и началась война, продолжавшаяся 20 с лишним лет. За это время, по разным оценкам, погибли от 100 до 250 тысяч жителей и еще 250 тысяч бежали из страны. Так что ее население сократилось примерно до 800 тысяч. В 1999 году под давлением ООН Джакарта согласилась провести на острове референдум, в ходе которого 30 августа того года подавляющее большинство жителей высказались за независимость от Индонезии. Мусульманская община (менее 4% населения) с этим не согласилась, и кровопролитие продолжалось. Поэтому для поддержания порядка на остров были введены 11 тысяч миротворцев ООН. Сейчас их осталось всего 604 человека, но и те рано или поздно уедут. Есть еще и сотрудники разных международных организаций, оказывающих помощь Восточному Тимору, но численно компенсировать уход миротворцев они не могут, так что радость тиморского таксиста при виде любого туриста вполне объяснима. А говорят местные извозчики, в силу непростой истории своей страны, аж на четырех языках. Прежде всего это, конечно, официальный португальский. Второй официальный язык – тетум, является родным для трети островитян, но говорит на нем примерно 60% населения, представленного 12 разными национальностями и языками (мамбаи, кемек, макасай, галоли, токодеде и так далее).
Непростая история страны – еще и ключ к пониманию того, почему она до сих пор лежит вдали от основных туристических маршрутов, хотя потенциал у «тропической Португалии» по этой части громадный. Чистейшие белые песчаные пляжи, прозрачное море, отличные отели и рестораны, где цены вовсе не кусаются, а еще – колониальная архитектура, которую не уничтожили два с лишним десятилетия войны. Чего еще нужно гостю этой страны? Мира? Он наконец-то воцарился.
…Когда выезжаешь из Дили, дорога сначала идет вдоль моря, и видно плещущихся там детей и рыбаков на лодках. Рыболовство – одно из главных занятий тиморцев. Но основной источник существования – сельское хозяйство. На острове выращивают кофе, рис, кукурузу, сладкий картофель, сою, капусту, бананы, манго, ваниль. Чистоте воздуха на Тиморе можно не удивляться: промышленности, если не считать переработку кофе и мыловарение, просто нет. Еще выделывают ткани и занимаются деревообработкой, но атмосферу этим не загрязнишь. Уйдя от моря, дорога забирается в горы, и буйство тропической растительности постепенно сходит на нет, уступая место саванне. В пяти милях от Дили, на горе Фатукама, высится огромная статуя Христа, явно сделанная по образу и подобию той, что стоит в другой португалоязычной стране над Рио-де-Жанейро. Это, однако, не часть португальского наследия, а подарок бывшего президента мусульманской Индонезии Сухарто христианскому Тимору. Горы покрывают большую часть острова, и не зря сельскохозяйственные угодья занимают менее 5% его площади. В горах легко забываешь, что ты в тропиках: к вечеру не обойтись без свитера, а то и пальто. Самая высокая вершина – Татамаилау высотой 2 963 метра.
Все дороги в Тиморе рано или поздно проходят мимо живописных селений с деревянными хижинами, где никогда не догадаешься, что на дворе XXI век. Пробраться в эти деревни ему не дает бедность. Тимор-Лешти – самая нищая страна Азии. Местная экономика производит продукции всего на 25 миллионов долларов в год, причем в основном эта продукция – кофе. Средний заработок тиморца 55 центов в день, притом, что почти половина населения работы вовсе не имеет. Кстати, американский доллар – официальная валюта Восточного Тимора. Из 3 800 километров дорог в стране заасфальтированы только 428, а остальные километры убеждают, что дороги – это не только российская беда. И если бы не международная помощь, страна бы не могла свести концы с концами.
Правда, в обозримом будущем все обещает измениться: в Тиморском море найдено несколько месторождений нефти. И ее запасы только одного из них – Байу-Ундан – оцениваются в 3 миллиарда долларов.
Олег Поляковский
Большое путешествие: Полуостров холода

У самого северного края Евразийского континента, за Полярным кругом, в обширных владениях Арктики лежит объятый водами Студеного моря огромный полуостров. Эту оконечность матерой земли давно облюбовал холод. Здесь бесконечно долгой зимой пурга и метель без устали штопают черное платье полярной ночи, мороз и ветер усердно обновляют бело-голубую краску застывших равнин, пустынные пространства которых посещают лишь белые медведи да песцы. Скоротечное лето, едва освободив эту землю от белоснежных одежд, облачает ее в пестрый, яркий наряд, щедро украшенный желтыми пятнами ягельников, голубыми брызгами бесчисленных озер, тончайшим зеленым кружевом карликовых деревьев. Начинается пиршество жизни – в тундру приходят стада северных оленей, от идущей на нерест рыбы вскипает вода в холодных быстрых реках, над озерами не смолкает гусиный гомон.
Выстуженные недра этого края, даже летом скованные вечным холодом, хранят несметные сокровища. Земля эта богата и обильна, и имя ее – Таймыр. У самого северного края Евразийского континента, за Полярным кругом, в обширных владениях Арктики лежит объятый водами Студеного моря огромный полуостров. Эту оконечность матерой земли давно облюбовал холод. Здесь бесконечно долгой зимой пурга и метель без устали штопают черное платье полярной ночи, мороз и ветер усердно обновляют бело-голубую краску застывших равнин, пустынные пространства которых посещают лишь белые медведи да песцы. Скоротечное лето, едва освободив эту землю от белоснежных одежд, облачает ее в пестрый, яркий наряд, щедро украшенный желтыми пятнами ягельников, голубыми брызгами бесчисленных озер, тончайшим зеленым кружевом карликовых деревьев. Начинается пиршество жизни – в тундру приходят стада северных оленей, от идущей на нерест рыбы вскипает вода в холодных быстрых реках, над озерами не смолкает гусиный гомон. Выстуженные недра этого края, даже летом скованные вечным холодом, хранят несметные сокровища. Земля эта богата и обильна, и имя ее – Таймыр.
Наследство барона Толля
Утром 27 августа 1900 года в залив Миддендорфа, у западного побережья Таймыра, самым малым ходом, беспрестанно измеряя глубину лотом, вошла трехмачтовая шхуна. Несмотря на все меры предосторожности, в незнакомых водах судно село на мель. Тотчас данный задний ход и сильное встречное течение помогли быстро сняться с камня, не повредив корпус. Шхуна отошла назад, на глубину и бросила якорь на глинистом грунте. Проглянувшее в этот момент из-за облаков солнце осветило борт судна, на котором легко читалось название шхуны – «Заря». Это была яхта Русской полярной экспедиции, которая под началом известного исследователя Арктики геолога барона Эдуарда Васильевича Толля 21 июня 1900 года отправилась из Кронштадтского порта на поиски легендарной Земли Санникова. По утвержденному Академией наук плану, экспедиция к исходу лета 1900 года должна была достичь восточного побережья Таймыра и зазимовать севернее Хатангского залива, занявшись исследованием этого почти неизученного участка полуострова. Весной «Заре» предлагалось направиться к Новосибирским островам, найти и изучить еще не открытые земли, оставшись в Арктике на вторую зимовку. Планировалось, что, перезимовав, судно попытается пройти Северным морским путем и, миновав Берингов пролив и северную часть Тихого океана, закончит плавание во Владивостоке.
В заливе Миддендорфа, который путешественники поначалу приняли за Таймырский пролив, «Заря» простояла почти три недели – путь судну преградили льды. Во время этой вынужденной задержки на одном из мысов пустынного побережья участники экспедиции заложили продуктовый склад (или, как тогда говорили, депо), которым Толль рассчитывал воспользоваться, совершая зимние походы по Таймыру. Однако планам Русской полярной экспедиции не суждено было осуществиться. Ледовая обстановка по маршруту плавания «Зари» оказалась столь тяжела, что судну лишь к сентябрю 1901 года удалось пробиться в район Новосибирских островов, израсходовав при этом почти весь запас угля. Когда стало ясно, что продолжение плавания по намеченному плану невозможно, Толль решился на отчаянную попытку – в начале июня 1902 года начальник экспедиции в сопровождении астронома Фридриха Зееберга и двух каюров Николая Дьякова и Василия Горохова на собачьих упряжках отправился по дрейфующим льдам к острову Беннетта, надеясь разрешить наконец загадку Земли Санникова, которая, по мнению Толля, находилась в пределах прямой видимости от острова Беннетта. О дальнейшей судьбе этой четверки почти ничего не известно. Спасательная экспедиция лейтенанта Александра Васильевича Колчака, добравшись до острова Беннетта, обнаружила там следы пребывания партии Толля, отчет о жизни на острове и записку, в которой сообщалось, что отряд направился по льду к Новосибирским островам. О том, что произошло дальше, не знает никто…
Оставшийся невостребованным продуктовый склад на мысе Депо в 1973 году в ходе целенаправленных поисков обнаружила одна из групп полярной экспедиции Дмитрия Шпаро. Тогда из вечной мерзлоты извлекли часть оставленных Толлем продуктов, которые даже по прошествии столь длительного времени отлично сохранились и ничуть не утратили своих качеств. Этим случайно поставленным уникальным экспериментом по долгосрочному хранению продуктов заинтересовались специалисты Министерства пищевой промышленности СССР. Опыт решено было продолжить – на следующий год на мыс Депо отправилась экспедиция, которая забрала для исследований еще часть продовольствия из склада начала века и заложила продукты образца 1974 года. 6 лет спустя группа ученых и путешественников снова посетила мыс Депо. Очередной срок выемки и закладки продуктов был намечен на 2000 год. Однако из-за материальных трудностей поездка не состоялась. И вот в 2004 году Российская сельскохозяйственная академия, Федеральное агентство по госрезервам и клуб «Приключение» Дмитрия Шпаро при поддержке Пограничной службы организовали экспедицию на побережье залива Миддендорфа. Это была уникальная возможность поучаствовать в небывалом эксперименте и побывать в самых труднодоступных местах Таймыра.
Будни воздушных дорог
Уже больше трех часов мы находились в полете, с нетерпением посматривая в иллюминаторы в надежде вот-вот увидеть в разрывах облаков остров Диксон. Далеко позади осталась Воркута, откуда на двух вертолетах Ми-8 Отдельного арктического погранотряда стартовала наша экспедиция. Еще утром при погрузке экспедиционного снаряжения в вертолеты мы грелись под лучами яркого, незаходящего солнца и нам не верилось, что где-то может быть нелетная погода, о которой только и говорили все вокруг. Когда большая часть наших рюкзаков и баулов уже скрылась в чреве вертолетов, кто-то из пограничников, помогавших нам грузиться, сказал, показывая на одетого в камуфляж невысокого, плотного человека лет пятидесяти: «С Архиповым в любую погоду долетите до точки. Во всей Арктике не сыщется такого места, где бы он не смог сесть». Командир эскадрильи Константин Архипов был назначен старшим в полете к мысу Депо, он же командовал вертолетом с бортовым номером 47. Нас распределили по машинам, по семь человек на каждый вертолет. Летчики посматривали на гражданских немного снисходительно, но с любопытством. Командир борта 51, второго вертолета экспедиции, Олег Сидоров, зайдя в салон машины, с сомнением глянул на нас и строго сказал: «В полете не курить, по салону не ходить, до тех пор, пока не будет команды, машину не покидать, – и, помолчав, добавил: – Если что, выпрыгивать вам надо через хвостовой люк».
Наши вертолеты были оборудованы дополнительными топливными баками – три здоровенные бочки литров по 700 каждая втиснуты и без того в не очень просторный салон. Угол в хвосте машины завалили экспедиционным имуществом. В «воздушном извозчике» оказалось очень тесно, сидеть пришлось на узкой деревянной скамеечке, поставленной между баками. В салоне – резкий запах авиационного топлива, сильная вибрация и оглушающий рев двигателя.
…Сотни километров прошли вертолеты над тундрой и морем. Пейзаж, предстающий за мутноватыми стеклами иллюминаторов, довольно однообразен – плоская, прорезанная многочисленными ручьями и речушками равнина в палевых и коричневатых тонах, разбавленных зеленью карликовой растительности. Иногда машины оказывались над морем. Внизу – штиль, с удалением от берега вода теряла свой серый цвет и вспыхивала синевой. Временами вертолеты входили в облака и завесы тумана, тогда картинка за бортом исчезала и мы видели только ведущий вертолет – борт 47 держался впереди и чуть левее нас. Вынырнув из тумана, снова видели под собой тундру, на ее плоской поверхности реки выписывали невероятные петли. В салоне заметно холодало – чувствовалось приближение настоящего Севера, пришлось утепляться.
К исходу четвертого часа полета из кабины пилотов вышел бортинженер Андрей Перминов. На его широком, добродушном лице – улыбка. Он чтото кричит нам, но мы ничего не слышим, все перекрывает гул двигателя. Андрей тычет пальцем в иллюминатор, мы прилипаем к стеклянному окошку и видим, что под нами остров, на берегу которого расположился небольшой поселок, состоящий в основном из 3—5-этажных зданий. Остров отделен нешироким проливом от материка. На побережье континента рядами выстроились дома, в порту высятся краны, на холмах разбросаны антенны. Сомнений быть не может – мы прилетели в знаменитый Диксон.

В ожидании Диксона
Вертолеты развернулись, заходя на посадку со стороны моря. Через несколько минут мы окажемся в поселке Диксон, о котором каждый из нас знает еще с детства. Это тот самый, единственный на побережье Карского моря порт, овеянный славой имен знаменитых полярников и путешественников, воспетый в стихах, описанный в многочисленных газетных статьях и книгах. Отсюда полярные летчики устремлялись в ледовую разведку, в этот порт заходили после долгих и опасных плаваний суда ледокольного флота, здесь, отрезанные от всего остального мира, на полярных станциях жили метеорологи. В 1970—1980-х годах, читая газетные публикации, посвященные Диксону, не верилось, что в этом крае, где зима продолжается 7—8 месяцев, а морозы доходят до 50°, строят на вечной мерзлоте многоквартирные дома, есть свои хорошо оборудованные поликлиника и больница, Дом культуры, музей и даже самая северная в стране картинная галерея. Казалось невероятным, что люди здесь живут обычной жизнью, дети ходят в школы и детские сады, посреди арктической пустыни выращивают в теплицах овощи и содержат собственное стадо коров. Тогда, 20—30 лет назад, от желающих переехать на Диксон не было отбоя. Привлекала, конечно, не только романтика Крайнего Севера и красота первозданной природы, но и весьма приличные зарплаты, отличное снабжение (ассортимент диксонских магазинов даже не снился большинству советских граждан), многочисленные льготы, налаженный быт, неплохое медицинское обслуживание. В ту пору в удобную гавань порта регулярно заходили суда, следующие по Северному морскому пути, и Диксон стали именовать не иначе как воротами Арктики.
…Шасси вертолетов мягко коснулись взлетной полосы. Винты машин застопорены, и мы выходим на бетонную площадку островного аэродрома. На Диксоне нам надо сделать остановку – нужна дозаправка, пилотам требуется отдых, необходимо узнать погоду по дальнейшему маршруту. Несмотря на то что уже конец июля, арктическое лето не балует теплом – температура не выше 5°, резкий холодный ветер пригнал с северо-запада туман. Вокруг аэродрома плоская равнина, ограниченная лишь несколькими холмами, на которых виднеются какие-то строения. По склонам холмов – горы мусора, железного хлама, бочек. На фоне этого рукотворного пейзажа, вызывающего ощущение запустения, радует глаз раскинувшаяся во все стороны тундра, покрытая желтыми куртинками цветущего полярного мака и белоснежными хлопьями «седовласой» пушицы.
Сгустившийся туман «проглотил» наши вертолеты, улегся в лощинках тундры, вполз по склонам холмов. От синоптиков пришли неутешительные вести – в ближайшие три дня вылета не будет, да и предварительный прогноз на предстоящие две недели неблагоприятен. Для Диксона такая погода – дело вполне обычное. Армейский ЗИЛ отвез нас на берег – надо перебираться на материк, где как минимум трое суток мы будем гостями погранзаставы «Диксон».

Вотчина пограничной стражи
Упричала нас уже ждал пограничный катер – летом это единственное транспортное средство, которое связывает материковую и островную части поселка. Перебираемся на суденышко, катер отходит от причальной стенки и под бойкий стук дизеля принимается лихо резать серую холодную воду пролива. По берегам острова коегде все еще лежит снег. Короткое морское путешествие закончено, мы на материке. Идем вслед за исполняющим обязанности командира погранзаставы «Диксон» старшим лейтенантом Михаилом Ермаковым. С удивлением рассматриваем поселок, имя которого когда-то гремело по всей стране. Повсюду признаки некогда кипевшей здесь жизни, которая ныне сменилась невероятным запустением. Как напоминание о былых лучших временах на берегу лежит несколько проржавевших насквозь судов. Вдоль пустынных улиц, мощенных шлаком, стоят, словно призраки, брошенные многоквартирные дома с заколоченными окнами, потрескавшимися стенами, облупившейся штукатуркой.
Этот унылый путь до заставы занимает минут двадцать. Территория пограничников, огороженная колючей проволокой, расположилась на окраине поселка. Здесь находится построенное в форме буквы «Ж», приземистое, давно не видевшее ремонта одноэтажное здание, больше похожее на барак. Оно является домом примерно для 40 человек, несущих службу на Диксоне. Несмотря на неприглядный вид здания заставы, в помещениях есть свет, тепло и горячая вода – главное в этих краях.
Пограничники оказались радушными хозяевами, сразу усадили нас за стол. На обед была подана обычная солдатская еда – макароны с мясом. Продукты завозят сюда один раз в год. Поэтому похвастаться разнообразием и изобилием меню пограничники не могут. Овощей хватает лишь на пару месяцев, да и хранить их тут целая проблема. Зато рыба на столе присутствует всегда и во всех видах – жареная, соленая, копченая. Нас угощали омулем, но реки и море здесь богаты и хариусом, и горбушей, и сигом. Рыбацкие и охотничьи трофеи стали хорошим подспорьем на кухне погранзаставы.
Нашим обустройством у пограничников занимался незаменимый на заставе человек – старший прапорщик Игорь Плотян. Обладающий кипучей энергией, он успевал за день сделать тысячу дел. Перед нашим приездом он выловил несколько центнеров омуля, который тотчас был отправлен на кухню: прапорщик – главный добытчик, снабжающий заставу рыбой, олениной, мясом диких гусей. На нем же – обширное пограничное хозяйство, экскурсию по которому Плотян не преминул тотчас для нас устроить. Быстрый, живой, любящий пошутить, прапорщик показывал нам баню, коптильню, хлев с двумя свиньями (одну зарежут на Новый год, другую – на День пограничника), склады, строительство холодильника, при этом на ходу Плотян успевал отдавать какие-то распоряжения, приказания. А еще его забота – те самые свет и тепло, без которых заставе не выжить. Общение с прапорщиком вывело нас из того уныния, в которое поверг ужасающий вид Диксона. Перед нами предстал человек, совершенно не растерявшийся и не опустивший руки в сложной жизненной ситуации, он как будто даже не замечал той разрухи, посреди которой вдруг оказался. Вообще после поездки по Таймыру появилось ощущение, что этот край теперь во многом держится именно на пограничниках. Отсюда ушли и военные, и гражданские, а пограничники остались и занимаются самыми разными, зачастую совсем не своими обязанностями. Ловят браконьеров, доставляют больных к врачам, возят почту. И случись какая беда, первым делом местные власти позовут на помощь пограничников…
Обветшавшие «ворота арктики»
Выйдя за территорию погранзаставы, мы направились в поселок в надежде увидеть хоть что-то, оставшееся от тех романтических времен, когда в Арктику снаряжались экспедиции, вошедшие затем в школьные учебники. К счастью, наступивший в этих широтах полярный день позволял осматривать окрестности без оглядки на время суток. Безлюдный поселок производил гнетущее впечатление. Когда-то здесь жили до 10 тысяч человек, сегодня едва наберется 900. Тех, кто еще остался на Диксоне, переселили поближе к побережью, в относительно новые 5– и 9-этажные панельные дома. Большая часть поселка пустует. Покинутые здания с выбитыми дверями и кривыми крылечками покосились, покрылись трещинами. Заброшенные дворы полны мусора, ржавых бочек, кусков арматуры, остатков техники. Сохранившиеся в изобилии на стенах домов изрядно полинявшие советские лозунги и плакаты добавляют нереальности этой картине, а накатывающие время от времени волны тумана делают все вокруг похожим на сон или чью-то фантасмагорию. Несмотря на царящую тишину, не покидает ощущение смутной тревоги. Кажется, что эти места постигла какая-то страшная беда, эпидемия, пощадившая лишь немногих – люди покинули поселок, а он стоит, словно памятник человеческой трагедии. Вообще место поражает своей неуютностью и неприбранностью, причем таким его сделало именно пребывание человека. Достаточно отойти от поселка на несколько сот метров, повернуться лицом к морю, и взгляду открывается завораживающая бесконечность побережья, где упругие волны уже тысячи лет разбиваются в пыль о дикий камень базальтовых скал. Эдуарду Толлю, посетившему Диксон в августе 1900 года, местные пейзажи неожиданно напомнили среднерусский ландшафт: «Благодаря полуночному солнцу с его золотистым сиянием перед нашими глазами предстала совсем иная, волшебная картина: голые гребни на острове и материке казались покрытыми темно-зеленым еловым лесом, а сквозь деревья виднелись нивы с волнующейся спелой рожью… Бурая и желтая тундра в промежутках создавала обманчивую картину возделанных полей».
Поселок Диксон относительно молод, хотя места эти были описаны еще в XVIII веке, во время Великой Северной экспедиции. Название «Диксон» появилось на морских картах в 1875 году после плавания А. Норденшельда, который присвоил это имя бухте острова в честь шведского предпринимателя Оскара Диксона, финансировавшего экспедицию. Удобная, глубокая бухта пустовала недолго – в нее все чаще стали заходить морские суда. Первым строителем Диксона с полным правом можно назвать барона Толля, который в бытность свою на острове поставил на пустынном тогда берегу угольный склад. Однако официальная биография поселка начинается с 1915 года, когда на острове появился первый домик расположившейся здесь радиостанции. Сегодня, спустя почти 90 лет с момента своего основания, Диксон находится на грани вымирания. Немногочисленные жители поселка работают в порту, местном гидрометцентре, заняты в сфере обслуживания, рыбачат и охотятся.
Надеясь поговорить с кем-нибудь из диксончан, заходим в небольшой магазинчик, расположившийся на первом этаже жилого дома. Пожилая продавщица сокрушенно вздыхает: «Ассортимент невелик – давно не было завоза. Цены раза в 2—3 выше московских, многим не по карману, часто приходится отпускать продукты в долг». Как о последней надежде для поселка местные рассуждают о возможном строительстве нефтепровода от Игарки до Диксона, который позволит перегружать сибирскую нефть на заходящие в порт танкеры. В реализации этого проекта многим видится возрождение позабытого благополучия Диксона, но, оглядываясь вокруг, люди говорят, что это уже скорее сказочные грезы.
Оказавшись в центре поселка, мы остановились перед необычным памятником – на небольшой площадке, образованной огромными глыбами диабаза, возвышался пьедестал, на который будто только что взошел статный, крепкий человек, облаченный в старомодную одежду русских землепроходцев Севера. Любой, кто хоть немного знаком с историей освоения Арктики, без труда узнал бы в этом вышедшем навстречу полярному ветру человеке Никифора Бегичева. В экспедиции Эдуарда Толля Бегичев служил боцманом на «Заре». Впоследствии он осел на Таймыре, исходил этот край вдоль и поперек, открыв несколько островов, успев поучаствовать в спасательных и поисковых экспедициях. В 1927 году во время зимовки в низовьях Пясины его подкосила цинга. В устье этой реки, неподалеку от мыса Входного, и похоронили Никифора Бегичева. В 1964 году его прах был перенесен на Диксон и вмурован в пьедестал памятника. Теперь монумент человеку, открывавшему этот край, стоит посреди поселка, будущее которого так же туманно, как и далекий морской горизонт, в который со своего постамента вглядывается Никифор Бегичев…







