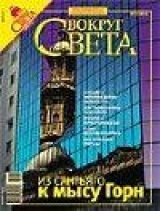
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 12 страниц)
Преобразователь
Географическое общество наградило скромного героя золотой медалью и 25 гинеями в придачу еще до его прибытия к родным берегам (он отплыл на большом военном корабле с острова Маврикий , взяв с собой в качестве «приятного сюрприза» одного негра, но тот при виде безбрежного океана сошел с ума и выбросился за борт). В салонах и пабах только и разговоров было, что об африканских делах.
Шотландец мог быть доволен: ему удалось пробудить настоящий интерес к делу, которому он отдавал все силы. По привычке, не выходя из ритма методичного ежедневного труда, он вставал в шесть утра и усаживался за сведение своих записок в книгу – даже в родной Блантайр не поехал, пока не закончил ее. И вскоре появился бестселлер «Путешествия и исследования миссионера в Южной Африке», который, несмотря на заломленную издателем высокую цену, разошелся моментально (на вырученные деньги в ходе Второй экспедиции автор смог купить пароход). Последовали чествования в Географическом обществе, правительственные приемы, приглашения читать лекции. Ливингстону даже присвоили звание почтенного доктора Оксфордского университета. Сознавая и используя новизну своего положения, миссионер принялся настойчиво и во всех сферах общества пропагандировать свои идеи: единственная возможность вывести Африку из состояния вечной войны, грабежа и похищения людей – это управлять ею, что означает – колонизовать. Даже знаменитые южноафриканские лихорадки, коими он сам много раз болел, этот пламенный человек не считал преградой для расселения британцев на Черном материке. С ними можно прекрасно бороться физическим трудом и движением на свежем воздухе! Ну, а на случай, если кто-то все же заболеет, он изобрел особые пилюли из хлористой ртути, ревеня и хинина. Новые поселенцы, вместе с туземцами станут разбивать правильные хлопковые поля. Воду очистят от инфекций. Работорговля – прекратится. Со временем можно будет подумать и о прокладке железной дороги.
Все это немедленно возымело действие. Героя приняла сама королева. «Теперь я смогу рассказать своим друзьям, что говорил с вождем своего племени», – сказал ей исследователь. После чего премьер-министр лорд Палмерстон обсудил с ним детали. В феврале 1858-го последовал декрет, подписанный секретарем МИДа лордом Кларендоном: доктор Давид Ливингстон назначается консулом Великобритании в Португальской Восточной Африке (со штаб-квартирой в Келимане). Ему же даются полномочия руководителя всех научно-разведывательных экспедиций в этом районе с правом привлечь любых специалистов, находящихся на службе Ее Величества. 10 марта он отплыл на свою вторую родину, увозя с собой когорту помощников, а также жену и младшего сына… Увы, как сказал Оскар Уайльд , когда боги хотят наказать нас, они отвечают на наши молитвы. Ливингстону удалось проникнуть на неизвестные ранее земли бассейна средней Замбези, куда он так стремился. Его этнографические и географические предположения подтвердились. Эти земли оказались заселены гуще и одарены природой богаче, чем все до тех пор виденные им на материке. Но экспедиция с самого начала пошла не так, как было задумано. На сей раз высшие силы отчего-то противодействовали доктору. Попадая в малейшее волнение на реке, по которой партия поднималась в глубь континента, судно «Ма-Роберт» (этим странным именем кафры называли миссис Ливингстон, имея в виду «мать Роберта», ее первенца) постоянно теряло ход и плохо поддавалось управлению. В расчеты необходимого для путешествия провианта закралась ошибка. Тридцать членов экспедиции погибли от оспы, еще тринадцать были убиты при переходе через территории, где велись военные действия. С момента приезда Ливингстона на Замбези 15 мая и до начала сентября в тех краях стояла страшная засуха...
В общем, хотя англичане открыли великое озеро Ньяса (ныне – Малави), им пришлось, так и не основав миссии и не разметив в долинах места для будущих европейских городов (они остались только на картах Ливингстона), вернуться в исходный пункт на побережье Индийского океана. Но главное – именно во Второй экспедиции сделалось заметным обстоятельство, в полной мере проявившееся в последней, Третьей. То ли под ударами судьбы, а может быть, просто с возрастом (ему перевалило за 50) знаменитые «ливингстоновские» качества, ставшие в Англии нарицательными, гипертрофировались и превратились в мучительные для окружающих свойства характера. Упорство оборачивалось безрассудством, кальвинистский стоицизм – лицемерным пренебрежением к чужим страданиям, бескомпромиссность – вздорностью, а любовь к дисциплине – самодурством. Еще в начале путешествия – в Англии, вспылив, он удалил с «Ма-Роберт» капитана, назначенного правительством, и сам стал командовать судном, хотя не имел ни малейшего опыта. Или – другой пример. Как, вы думаете, он «отреагировал» на уже знакомый ему водопад Виктория? С досадой махнул рукой, словно бы желал отогнать водопад, и пробормотал: «Он должен был быть гораздо дальше…» Но главное – со своими подчиненными этот привыкший к одиночным путешествиям анахорет ссорился и рвал отношения: с братьями-миссионерами, братьями-учеными, братьями-докторами и даже родным братом Чарлзом. Так, доктор Керк 26 лет от роду (чуть больше было самому Ливингстону, когда он впервые попал в Африку) писал в дневнике, что «характер патрона имеет свои минусы», и даже, что учитель превратился в мучителя. В общем, экспедиция обернулась неудачей, хотя в своей новой книге («Отчет о путешествии по Замбези», 1865) Ливингстон утверждает обратное.
2 февраля 1863 года он получил официальный приказ вернуться. Расставшись с казенным имуществом и теми спутниками, которые пожелали вернуться домой, а пожелали почти все, Ливингстон, тем не менее, продолжил работу на выкупленном за собственные деньги пароходе «Леди Ньяса». Но вскоре и эти средства кончились...

1896 год, Мозамбикские рабы через 23 года после смерти Ливингстона – перед отправкой на Занзибар
Конец «африканского холокоста»
С глубокого Средневековья государства Черного континента, захватывая пленников, обращали их в невольников тысячами, чтобы оставить себе или продать другим. Они устраивали, на манер американских майя или ацтеков, даже специальные войны с целью пополнения живых запасов. Так что, когда в IX веке к «бизнесу» подключились арабы, а в XV – португальцы, им не пришлось ничего особенно перестраивать. Эта сверхприбыльная коммерция процветала вокруг Африки в течение долгих веков. По подсчетам современных африканских историков, раса потеряла около 40% потенциального генофонда. В страны Ближнего и Среднего Востока отправились 17 миллионов рабов, позже в Новый Свет – от 12 до 20 миллионов. На пике спроса взрослый черный мужчина, к примеру, на Барбадосе стоил 50 фунтов стерлингов – сумма, на которую в XVIII столетии можно было безбедно жить год. В каждом рейсе погибало от 10 до 30% рабов. Экономическая схема валовой мировой работорговли работала четко и приносила прибыль, от которой финансовая система Европы не могла отказаться. Из родных европейских портов капитаны выходили, запасшись золотом, серебром, разными промышленными товарами; у берегов Сенегамбии, Гвинеи, Бенина, Конго, Анголы, Мозамбика все это выменивалось на плененных людей (которых во многих случаях продавали их же собственные вожди и соплеменники!). Самые отчаянные, конечно, просто брали на борт вооруженные отряды, которые сами захватывали пленных. В Бразилии и на Карибах, в южных штатах США (а ранее – в испанской и французской Луизиане) за них выручались деньги, пряности и тому подобное. И обратно – в Европу… Нехитрый «треугольник» в лучшие времена приносил тысячекратные прибыли, однако ко второй четверти XIX столетия дела пошли хуже. Начинающаяся индустриальная революция грозила выбить из рабства торговую основу, а главное – давно устоявшуюся моральную. В конце концов, «ужасную торговлю живыми душами» проклял в специальной булле даже папа Григорий XVI, и многие державы тоже поспешили осудить это явление. Тогда – на словах. А в 1833—1834 годах наступил решающий политический перелом. В Акте об отмене рабства на территории Британской империи и сопутствующих ему международных соглашениях провозглашалось не только освобождение невольников всех цветов кожи, но и режим постоянного патрулирования африканских берегов военными кораблями Англии и Франции с целью пресечения работорговых рейсов. Именно к этому периоду относятся протесты Ливингстона, который ясно видел: введенные нормы не соблюдаются. Если в Атлантике блокада оказалась еще сколько-нибудь эффективной, то в Индийском океане, где неофициальный статус невольничьей «столицы» закрепился за Занзибаром (здесь между 1830 и 1870 годами, как считается, продали еще 600 тысяч человек), она и вовсе представлялась эфемерной.
«Икар». Эпилог
Он снова оказался в Англии в 1864 году. На пристани и потом на вокзале Лондона журналистов собралось совсем немного. Пышных мероприятий и приглашений теперь тоже не было. Впрочем, провинциальные политики из глубинки (особенно шотландской), желавшие пройти в парламент, по-прежнему приглашали легендарного доктора выступать на своих избирательных собраниях. Он почти никому не отказывал, но по всему его поведению угадывалось: свои дела на родине миссионер «сворачивает». В апреле 1865 года Ливингстон в последний раз отредактировал все написанные сочинения – для спокойной работы один из старых африканских знакомых предоставил ему и его любимой дочери Агнес свой замок. Добился (именно, добился, по собственной инициативе) еще одного, последнего поручения от Географического общества. Причем само содержание этого поручения говорило о том, что почтенные ученые хотят просто отделаться от назойливого путешественника: исследовать пространство между северной оконечностью озера Ньяса и южной – озера Танганьика, чтобы выяснить вопрос о водоразделе Конго, Замбези и Нила. Для географии, казалось бы, дело важнейшее, но в тот практический век даже научные общества не занимались почти ничем «бесполезным». Правительство действовало и вовсе оскорбительно: ограничилось подтверждением консульского ранга Ливингстона, но уже без жалованья.

1871 год. Американский репортер Генри Мортон Стэнли со своим чернокожим слугой
Он заручился обещанием друзей позаботиться о его детях, написал завещание и в августе 1865-го отправился через Занзибар на реку Рувуму (сейчас вдоль нее на значительном протяжении проходит граница между Танзанией и Мозамбиком), далее вперед, за зеленый покров девственного леса. Лавируя, «словно корабль на ветру» (собственное выражение Ливингстона), между Ньясой и Танганьикой, Луалабой (верхнее течение реки Конго), ее притоком Луапулой и другими водными потоками, которыми так изрезана Восточная Африка, занимался тем, чем и всегда, и вел себя так же, как и всегда: освобождал рабов, картографировал, молился. При этом чувствовал, что слабеет. К началу 1870-х он уже не мог ни идти, ни ехать верхом. Путники несли его до Уджиджи на озере Танганьика, последней большой «штаб-квартиры» миссионера, где ожидалось пополнение запасов… И где вместо запасов явился араб, не скрывавший, что все разворовал. Ливингстон отказался его наказывать («Был бы я араб, тебе бы отрубили руки. Но я – не араб»), безропотно уповая на Бога. И Бог посылает ему «доброго самаритянина», легендарного Генри Мортона Стэнли, впоследствии лорда, а ныне абмициозного репортера «Нью-Йорк Гералд», которому поручили найти великого англичанина в дебрях Африки. Именно исторической встрече двух исследователей мы обязаны самым известным «анекдотом», связанным с Ливингстоном: увидев его, окруженного толпой негров, корреспондент вежливо приподнял кепи: «Доктор Ливингстон, я полагаю?..» Стэнли предлагает легендарному доктору последнюю возможность возвращения в родную цивилизацию – «Нет, моя работа еще не закончена, и она – здесь». Наконец – последние неразборчивые кляксы в удаленной от мира хижине в деревне Читамбо… Сердце Давида Ливингстона было извлечено из бездыханного тела и зарыто безутешными макололо где-то под деревом на берегу озера Бангвеулу. А тело, просоленное и просушенное для лучшей сохранности, они не менее девяти месяцев тащили на себе к побережью, откуда оно было переправлено в Англию и упокоилось в Вестминстерском аббатстве, где, как известно, принято хоронить самых выдающихся сынов нации.
Эндрю Хэй, Николай Лещ
Читайте также на сайте «Вокруг Света»:
Сан-Сити или Поиски затерянных городов
За семь дней к мысу Горн

Южная Америка и вся обитаемая земля на юге оканчивается скалистым мысом Горн, о который день и ночь разбиваются волны двух океанов, гонимые течением западных ветров. Ничего особенного нет в этом голом, изъеденном солью утесе, но это одна из тех точек на карте, которые в эпоху Великих географических открытий становились заветной целью для первопроходцев, а по мере исчезновения белых пятен с карты мира – напоминанием о вечном стремлении человека расширить представления о пределах ойкумены. Если уж не общечеловеческие, то хотя бы свои собственные.
Географическая книга нашей планеты закрыта – на Земле нечего открывать. Остается только побивать временные рекорды вроде: не просто «вокруг света», а «вокруг света за 80 дней». Цель же нашего путешествия в одну из самых далеких от России стран – Чили – можно сформулировать как название приключенческой книги: «За семь дней к мысу Горн». Правда, кроме такого спортивного интереса есть у нас еще один – к печально знаменитому своими кораблекрушениями мысу обычно стремятся добраться по морю. Обогнув мыс, желающие могут получить специальный сертификат, но нам он не нужен. Мы хотим попасть к мысу по суше, что фактически означает почти 4 000 километров пути, не считая, конечно, перелета в Америку. От столицы – Сантьяго-де-Чили – все время на юг, сначала по предгорьям Анд и плодородным равнинам Центрального плато, мимо дремлющих и действующих вулканов и моренных (ледникового происхождения) озер. Сквозь влажные вечнозеленые леса Араукании, минуя спускающиеся к самому Тихому океану вековые ледники и субарктические пампы Патагонии, по фьордам архипелага Огненная Земля к самому краю нашей суши, за которым только пролив Дрейка и непригодная для жизни Антарктида. Четыре тысячи километров – это, конечно, не двадцать тысяч лье, но в том, что этот путь будет битком набит непредвиденными поворотами, вполне годными для романа, можно не сомневаться.
Вторник. Первый день путешествия
12.00 (UTC–3 далее везде) Сантьяго-де-Чили, 33°26" S, 70°39" W
Бравый конкистадор и первый губернатор колонии Педро де Вальдивия происходил из богатой на конкистадоров (Кортес и Писарро тоже оттуда) испанской провинции Эстремадура, и потому первый основанный им 12 февраля 1541 года город он назвал в честь своей малой родины: Apostol Santiago de Nueva Extremadura, «Апостол Иаков в Новой Эстремадуре». Будущая столица независимого Чили начиналась здесь, у подножия невысокого холма Святой Лусии в долине реки Мапочо, окруженной с востока Андами, а с запада хребтами Прибрежной гряды. Вид на нее подпорчен смогом. Природная котловина плохо продувается и накапливает продукты жизнедеятельности трети населения всей страны (6,2 миллиона из шестнадцати). Мы спешим на фуникулере спуститься в исторический центр. По дороге я вспоминаю известные мне любопытные исторические факты.
Что говорят хроники
Официальным первооткрывателем Чили считается суровый (и неграмотный – в прямом смысле слова) капитан Диего де Альмагро. Дезинформированный инками, он отправился на поиски золота, якобы имевшегося в южных провинциях Тауантинсуйу, за Медными горами, в таком же изобилии, что и в самом Перу. Небольшой отряд испанцев в 1535 году совершил переход, на который до того никто не отваживался – через ледники Титикакских Анд и безводную Атакаму. Как сообщает хронист Агустин де Сарате:«Безмерные тяготы перенесли дон Диего де Альмагро и его люди во время похода на Чили, мучили их голод и жажда, приходилось вновь и вновь сражаться с индейцами. А особенно много бед причинил христианам мороз, заставший их в пути…». Причем, что самое обидное, оказалось: все напрасно. Золота не было и в помине. Так что добровольцев последовать примеру капитана не находилось до 1540 года, когда лейтенант Вальдивия, состоявший в Перу при Франсиско Писарро, испросил разрешения завоевать Чили. Попытка завершилась успехом, и отношение к далекой стране потихоньку изменилось. Через год в письме к знаменитому королю Карлу I новоиспеченный губернатор уже удовлетворенно писал: «Здесь так хорошо, что вряд ли найдется на всем свете лучшее место для жизни и благоденствия».

Ученые считают, что не все рощи араукарии чилийской (Araucaria Araucana) естественного происхождения. Семена этих деревьев местные индейцы широко употребляли и употребляют в пищу, поэтому они запросто могли стихийно «распространяться» вблизи старых индейских стоянок. «Пеуэны» – так называются шишки араукарии – собирают с февраля по май люди племени пеуэнче
Среда. День второй
10.00 Ранкагуа, 34°10" S, 70°45" W
У нашего водителя вычурное имя – Луис Данхело Марселино Баамондес Галас и довольно простая задача на день: проехать 900 километров на юг по Панамериканскому шоссе до города Вильяррика. А нам еще так хочется поглядеть на уникальные склерофитные (жестколистные, как в Крыму) леса Центрального Чили и их обитателей. Неужели не успеем?
– Почему не успеем? Еще как… – безмятежно откликается Луис. Я предчувствую, что категории времени и пространства у чилийцев никак не связаны с привычными у нас представлениями об оных, но в спор пока не вступаю. Сначала вроде бы все идет нормально. За пару часов мы добираемся до шахтерского города Ранкагуа и сворачиваем на грунтовку, которая должна привести к Национальному заповеднику Рио-де-лос-Сипресес («Кипарисовая река»). Там, если верить путеводителю, путешественник может ознакомиться с разнообразной флорой и фауной Центрального Чили, а именно попугаями трикауэ, андскими шакалами, патагонскими серыми лисицами и знаменитой дикой ламой гуанако, а также наблюдать незабываемое зрелище – исток реки Сипресес прямо изо льдов на склонах вулкана Паломо. Все это как бы концентрированно представляет природные зоны, которые нам надо будет преодолеть в ходе «марш-броска». Так что заехать стоит.
15.00 Заповедник Лос-Сипресес
Интенсивно потрясая перед лицом юного смотрителя парка номером журнала «Вокруг света», я перечисляю: «У нас два часа, и мы должны увидеть все: кондоров, шакалов, копытных, водопады и обязательно ледник…»
«Ледник, видимо, придется исключить, – не сразу и задумчиво отзывается молодой человек, – до него три дня пути на лошадях…» К концу беседы выясняется, что исключить придется, собственно, все, кроме трикауэ – большого патагонского попугая (Cyanoliseus patagonus byroni) – эндемичного пернатого, именуемого также скалистым, за привычку гнездиться в глубоких скальных трещинах. Нас заверяют: многочисленную колонию трикауэ можно застать где-то неподалеку, буквально в пяти минутах прогулочным шагом. Но «чилийского времени», естественно…
Напрасно мы три часа кряду в поисках «зеленого чуда» царапали плечи о криптокарии (Cryptocarya alba), мыльные деревья (Quillaja saponaria) и, что хуже, литрею едкую (Lithraea caustica), которая вызывает кожную сыпь и лихорадку. Мы не нашли обещанного обрыва, изрытого норами этих скрытных птиц. Раздосадованные, возвращаемся к машине: «Луис! Мы не доедем!» – «Доедем!» – веселым эхом отзывается нимало не смущенный шофер. И мы мчимся дальше на юг, оставляя за собой, как листки отрывного календаря, километры и города.
19.00 37-Я параллель, Панамериканское шоссе, 37°00 «S, 72°21» W
Здесь, как известно всем, кто читал Жюля Верна, проходил маршрут пассажиров яхты «Дункан», искавших злополучного капитана Гранта. Фантаст не случайно выбрал именно ее. Приблизительно по ней проходила граница Чили в 1864 году, когда и происходит действие романа (к тому времени колония уже превратилась в независимую Чилийскую Республику).
Преграду на пути колонизаторов возвело неожиданно упорное сопротивление индейцев, которых по названию местности Арауко («мутная вода» на местном языке) испанцы окрестили «арауканами». Конкистадор Диего де Альмагро бежал от них восвояси. Вальдивия развернул более успешные военные действия. Оттеснив воинственное племя к югу, он в 1550 году основал южный опорный пункт, океанский порт Консепсьон в устье реки Био-Био. Городу суждено было стать форпостом в почти трехсотлетней войне у неспокойной границы цивилизаций, которая лишь к XVII веку окончательно установилась вдоль упомянутой реки. К северу от нее белые строили виллы, сеяли пшеницу и прокладывали дороги, к югу – коренное население собирало шишки араукарий, кочевало от побережья к высокогорью и ночевало в крытых сухими водорослями деревянных домах-«р`уках». Но прежде чем этот шаткий баланс был установлен и испанские власти скрепя сердце признали существование независимой Араукании (беспрецедентный в истории обеих Америк случай!), не обошлось, конечно, без эпизодов, леденящих кровь. Например, таких, который изложил нам Луис, когда мы проезжали деревню под названием Лаутаро.
Что рассказал Луис
Лаутаро (Быстрый сокол) стал героическим «токи» (военным вождем арауканов) по воле случая. Мальчишкой он попал в плен к испанцам, и они превратили его в «ямана» (раба). Лаутаро, пока томился в рабстве, открыл самую главную тайну белых людей. Он узнал, что человек и лошадь – это два отдельных существа, а не одно целое, как думали его соотечественники. Европейцы сами были виноваты: Вальдивия взял смышленого ямана в личные слуги и обучил верховой езде. Через шесть лет Лаутаро сбежал, прихватив с собой лучших коней. Он предстал перед вождем племени Коло-Коло и рассказал все, что знал. Народ тут же выбрал его в «токи», и Лаутаро повел этот народ в бой. При селении Тукапеле ему удалось лично захватить в плен бывшего хозяина и командира конкистадоров Педро де Вальдивию, который после трех дней пыток принял мучительную смерть от мстительных индейцев. Испанцы, в свою очередь, объявили охоту на дерзейшего из арауканов и не успокоились до тех пор, пока его расчлененный труп не доставили в Сантьяго, а голову, посаженную на копье, не выставили на Оружейной площади.
Жуткий сюжет этот Луис почерпнул из героической поэмы «Араукана», которую якобы «знает наизусть любой чилийский ребенок». Написанная в 1578 году испанцем и соратником погибшего губернатора Алонсо де Эрсильей, она совершенно парадоксальным образом во время войны за независимость Чилийской Республики в XIX столетии превратилась в национальный эпос. Получилось, как в старом анекдоте: «Василий Иваныч, тебе за что в Африке памятник поставили?» – «Ты что, Петька, я ж всю жизнь с белыми воевал!» Надо, правда, заметить, что Эрсилья сам поспособствовал такому «перевертышу»: сражаясь, понятно, на стороне бледнолицых, он не скупился на восторженные пассажи о невиданном мужестве противника: «Арауканы – Ахиллы духа, отваги, силы» и тому подобное. Между прочим, сами «Ахиллы духа», которых осталось на сегодняшний день около миллиона, наименования «арауканы» не приемлют. Себя они зовут «мапуче», то есть «люди земли» (на языке мапудунгун), и проживают в так называемых редукциях, аналоге резерваций, на исконных, но очень небольших теперь территориях. То, чего не смогла сделать сила, «далось» неизбежной постепенной ассимиляции. 31 декабря 1882 года на последних араукано-чилийских переговорах касик Пенчулеф «сдался», и на следующий день в сердце его владений был заложен город Вильяррика. До него мы стремимся добраться поскорее, но уже поздний вечер.
21.00 Темуко, 38°45" S, 72°40" W
Резкий и острый ландшафт Среднего Чили постепенно сменился мягкими линиями холмов и долин, образованных сходом ледников. Северная часть Южного Чили, которое начинается после 37-й параллели, – земля вулканов и озер, влажных вечнозеленых лесов, бесконечных зимних дождей, коротких полноводных рек и водопадов. Все это великолепие постепенно тает в наступающих сумерках, и становится уже совсем темно, когда мы проезжаем Темуко – столицу нынешней административной области Араукания (гораздо южнее исторической), сделав лишь краткую остановку для ориентации на местности (поскольку скоро предстоит сворачивать на Вильяррику). Пока Луис в неспешной чилийской манере опрашивает местное население, я вступаю в первую беседу с мапуче, которая, впрочем, заканчивается тем, что в лингвистике называется «коммуникативной неудачей». Двое индейцев продают пончо, разложив их на земле прямо на выезде с заправки. Я напряженно вслушиваюсь: язык мне точно незнакомый, возможно, это мапудунгун, но не наверняка. Памятуя о том, что самое страшное оскорбление для индейца – назвать его индейцем, а также о том, что мапуче ненавидят, когда их называют арауканами, я судорожно формулирую вопрос, который помог бы проверить мою догадку. Наконец мне кажется, что верное слово найдено: «Простите, вы аборигены?» Видимо, сочтя мой вопрос идиотским, ответом они его не удостаивают. «Что хочешь, женщина?» – довольно бесцеремонно бросает один из них по-испански. Я молча беру первое попавшееся пончо и даже не торгуюсь. Пытаясь исправить ситуацию, «спасибо» говорю на языке мапудунгун – «траэльту» (это я выучила из путеводителя). Они никак не реагируют: то ли путеводитель врал, то ли обиделись на «аборигенов».
Четверг. День третий
10.00 Вильяррика, 39°16" S, 72°13" W
Всего лишь «какие-то» десять тысяч лет назад, когда человек уже проник в Америку, вся земля к югу от Темуко была покрыта льдами, которые, отступая, оставили по себе десятки моренных озер. Теперь, если смотреть с восточной стороны любого такого озера на западную, то есть в направлении против схода ледника, ясно видны ровные очертания вала из обломков, которые он двигал перед собой, – это и есть конечная морена. Древняя перепонка мешает выходу талой воды и служит поэтому естественным берегом. Озера другого рода, вулканические, здесь встречаются не менее часто, поскольку южная часть Анд – самая молодая, и горообразование тут еще, можно сказать, в разгаре: что ни возвышение, то с кратером. Вулканическая деятельность вкупе с землетрясениями постоянно меняет общий облик этой части страны, лежащей в сейсмоопасном Тихоокеанском Огненном поясе. Достаточно одного сильного толчка за тысячу километров отсюда, и сразу несколько «жерл» начнут палить. Все эти сведения мне кажутся совершенно нелишними перед вылазкой на склоны вулкана Вильяррика от берега одноименного озера в одноименном же национальном парке. В последний раз он просыпался в 1984 году, и если учесть, что, по подсчетам, цикл между пиками его активности составляет около 20 лет, то… Из кратера, как из чайника с носиком, струится довольно интенсивный дымок.
12.00 Национальный парк Вильяррика, восточный въезд
Здесь нам надлежит освоить хотя бы один из трех возможных маршрутов, чтобы получить представление о природном своеобразии этой местности. Первый – непосредственно по склону вулкана – займет, по уверениям очередного заботливого смотрителя, «ма-ааксимум три часа, а если пошевеливаться, гораздо меньше». Логично. Но, как говорится, свежо предание. Мы еще раз внимательно выслушиваем описание тропы под названием «Чальюпен». Сперва сквозь поле застывшей лавы, затем начнется лес южноамериканского бука «ленга», который тянется до потухших малых кратеров Вильяррики. Заблудиться невозможно – кругом разметка. Запасшись только бутылкой воды, мы выступаем, но уже через пару сотен метров подъема забываем о времени, маршруте и крупнейшей озоновой дыре, которая разверзлась прямо над нами. «Смотрите, Аня, видите обвал? На срезе четко видны слои, которые шлаковые породы формировали при каждом извержении, а это – обсидиан, вулканическое стекло, из которого индейцы инструменты себе делали. Оно полупрозрачное на сколе, видите? Это значит, что лава очень быстро застыла, не успев кристаллизоваться. Подержите объектив», – раз Лев Ильич Вейсман, бывалый фотограф и путешественник, пускается в объяснения и доверяет мне объектив, значит, он доволен.
Мы мечемся по альпийским лугам, покрывающим склоны, от одного «мини-сокровища» к другому: вот – красной россыпью – копиуэ, чилийский колокольчик (Lapageria rosea), который считается национальным символом страны наряду с флагом и гимном. Вот – редкой красоты лишайники, цветущие камнеломки, ягоды вроде водяники, еще цветы, не известные ни мне, ни многоопытному Вейсману. Вот, уже совсем рядом, белые подушки снега над вершиной: отсюда хорошо видно, как они покрываются розоватой пылью – это оседают газообразные выбросы из кратера. А внизу – озера Вильяррика и Калафкен умопомрачительно синего цвета, темно-зеленые хребты холмов, белоснежные геометрически идеальные треугольники вулканов. Красоты ландшафта усыпили нашу бдительность – но ненадолго. Сомнения начали подрывать наш боевой дух, когда путь преградила бурная горная речка: поток серой от вулканического песка воды рождается на наших глазах из красивой, словно тесто сползающей снежной шапки и с грохотом катится по глубокому ущелью. В описании тропы, заметьте, не значилось никаких речек. К тому же мы идем уже целых четыре часа, а упомянутый лес только завиднелся на горизонте. У нас закончилась вода. Лицо, руки, шея уже болят от ожога. Хорошо, что на мне две майки, одна поверх другой: верхнюю я попеременно наматываю то на «полыхающую» шею, то засовываю в нее обе руки по самые плечи.

Ученые считают, что не все рощи араукарии чилийской (Araucaria Araucana) естественного происхождения. Семена этих деревьев местные индейцы широко употребляли и употребляют в пищу, поэтому они запросто могли стихийно «распространяться» вблизи старых индейских стоянок. «Пеуэны» – так называются шишки араукарии – собирают с февраля по май люди племени пеуэнче
Вдобавок наверняка мы уже сбились с тропы: никаких обещанных «меток» нет. Или зашли слишком далеко? В любом случае пора ретироваться, иначе темнота застанет нас в горах. Но вдруг – прямо-таки чудо. Глазам не верю, но, кажется, это она – королева чилийских влажных лесов и священное дерево мапуче, Araucaria Araucana, или араукария чилийская. Еще сто лет назад мало кому из европейцев удавалось увидеть ее. В англоязычном мире это удивительное дерево известно также под кличкой Monkey Puzzle – «задачка для обезьяны», которую дал ему биолог Джозеф Бэнкс. Увидев, какие колючие листья покрывают ствол и ветви, он воскликнул: «Забраться туда не смогла бы и обезьяна!» Впрочем, взрослые араукарии сбрасывают листья со ствола и становятся совсем непохожими на прежних «ежистых» малюток. Их плоские зонтичные кроны образуют сетчатый купол гораздо выше соседних деревьев. И вот мы бродим по реликтовому пространству под ними, где, кажется, вот-вот встретишь динозавра, оглушенные и счастливые. Теперь не обидно поворачивать назад, хотя до обещанных потухших кратеров так и не добрались. Мы едва бредем по черным, пористым, бесконечным лавовым полям. Солнце тем временем все же подчиняется закону природы и быстро катится в океан, осветив последними лучами горнолыжную базу, которую мы покинули десять часов назад и где нас ждет встревоженный, хоть и бодрящийся Луис. Он припас для нас пакет чипсов, к ним отлично подошел предусмотрительно прихваченный вчера из гостиницы сладкий песочный пирог «кухен», который здесь пекут потомки немецких колонистов. Закусываем семечками, которые предусмотрительный Вейсман захватил из Москвы, и дальше, все время на юг. В свете звезд Южного Креста добираемся до Пуэрто-Вараса, на берегу огромного (второго по величине в Чили) озера Льянкиуэ. Мне, впрочем, не до озера: от солнечных ожогов я едва могу пошевелиться, кисти рук отекли, уши и нос в волдырях.








