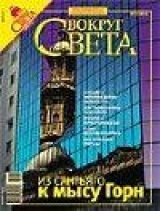
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №05 за 2007 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 12 страниц)
Но этой страсти и случайно еще никто не открывал
«Е.О.» V, XVII
О тайном романе не знает никто. Соблюдены все приличия большого света. Идалия принимает Дантеса у себя дома среди привычного круга друзей. И у троюродных сестер, в доме Пушкина. Блестящий кавалергард там – на правах жениха для засидевшихся в девицах Екатерины и Александрины Гончаровых. Но ни они, ни Наталия Николаевна – не соперницы Идалии. Она часто ездит в их дом. Сестры любят Полетику. Светскую львицу, образец для подражания. Александр Сергеевич тоже симпатизирует остроумной рыжеволосой красавице. «Идалии скажи, – шутит он, – что за ее поцалуем приеду лично, а что-де на почте не принимают». Сценарий же влюбленных прост и банален: водевиль. Обычная для того времени светская история. «Опасные связи» де Лакло недавно прочитаны и очень популярны. Лермонтов пишет «Княгиню Лиговскую»...
О водевиле догадаются позже, и очень немногие. Например, А.О. Смирнова-Россет. «Дантес никогда не был влюблен в Натали; он находил ее глупой и скучной; он был влюблен в Идалию, и встречались они у Натали...»
Этот спектакль разыгрывался с августа по октябрь. Выбор героини-ширмы был безупречен. Безопаснее алиби, чем пушкинская Наталия, и придумать невозможно. «Ее лучезарная красота рядом с этим магическим именем всем кружила головы, – признавался современник, – не было ни одного юноши в Петербурге, который бы тайно не вздыхал по Пушкиной».

П.Ф. Соколов. А.С. Пушкин. 1830 год
И о «романе» «интересного Дантеса» с «прекрасной Психеей» уже вовсю поговаривают в свете…
Искрятся, как янтарное вино в хрустальном бокале, звуки мазурки. Кружатся пары. Мелькает белокурая голова Дантеса рядом с темными локонами Натали. Смеются оба. Какими счастливыми кажутся они! Но... едва заметный поворот головы. И... улыбка навстречу. Пролетела в объятиях своего партнера рыжеволосая красавица... Случайное прикосновение, ожидающий взгляд, мимолетная фраза – вестница свидания...
Так могло продолжаться долгие годы. Или закончиться в любой момент, не вмешайся в сюжет, придуманный Идалией, Гений.
Пушкин не был злым ревнивцем. И над поклонниками жены обычно подсмеивался. Дантес, хоть и ухаживал за ней в числе многих, приличий не нарушал. Да и Наталия Николаевна, по сути своей, была полной противоположностью темпераментной Идалии и любила мужа.
И Полетика любила... О чем она не раз напишет в письмах к Дантесу. Любила и, как могла, скрывала свою любовь, делала это, как многие другие. Несмотря на внешнюю строгость николаевского двора, нравы тогда были отнюдь не пуританские.
Но всех в гостиной занимает такой бессвязный, пошлый вздор
«Е.О.» VI, XLII
10 января 1837 года в Исаакиевском соборе состоялось венчание барона Георга Карла Геккерна и фрейлины Ее Императорского Величества, девицы, Екатерины Гончаровой (сестры Наталии).
«Престранным» и «невероятным» назовут этот брак. И в первую очередь потому, что всеобщий любимец, блестящий красавец-кавалергард Жорж Дантес «женится на старшей Гончаровой, некрасивой... и бедной сестре... поэтической красавицы, жены Пушкина». Недоумевают и те, кто почти ежедневно принимал будущих супругов в своем доме. «Кто же станет смотреть на посредственную живопись, когда рядом мадонна Рафаэля, а вот нашелся, оказывается, охотник до подобной живописи – может быть, потому, что ее дешевле приобрести». Догадкам нет числа.
Блестят «всевидящие лорнеты». Сплетни метелью несутся по заснеженному Петербургу. Голоса не умолкают даже в вихрях мазурки. Зимний сезон в разгаре. Дворянское собрание, вечера у Вяземских и Люцероде, большой бал у Фикельмон, у Воронцовых-Дашковых и снова Вяземские. Иногда появляются Их Величества...
Императрице около сорока. «И при свечах на бале, танцуя, она еще затмевает первых красавиц».
Александра Федоровна ведет беседы о Шиллере и Гете, но запоем читает французские романы. Ей нравится строгость придворных балов, и она без ума от маскарадов. На одном из них проказник Дантес шепнул ей: «Bonjour ma gentille» – «Здравствуй, моя прелестница».
Да, каждый по-своему справляется со скукой – императрица постоянно влюблена. Елагинский остров, салазки, игра в снежки, это здесь – «мои казаки вносят меня на гору». Обеды, танцы, вальсируя, она даже теряет подвязку...
Дневник императрицы пестрит именами: Бетанкур, Куракин, Скарятин, Дантес. Ее кавалергарды. Ее полк. Ее веселая банда.
Все мысли Александры Федоровны заняты романами, своими и чужими. И ничто так не занимает императрицу этой зимой, как ухаживания Дантеса за «мадам Поэтшей» и его загадочная свадьба. И никто не знает больше, чем ближайшая подруга новобрачных и семей Пушкиных и Геккернов!
Идалия Полетика везде: в доме невесты, на церемонии венчания, на свадебном завтраке в голландском посольстве, на праздничном обеде у Строгановых. Она – желанный гость на любом балу. Никогда раньше свет не интересовался ею так самозабвенно. Как доверительна она в своих беседах!
И развернулось перед замершими от любопытства зрителями очередное действо водевиля.
«Если можно было бы соединить госпожу Пушкину с Дантесом, какая прелестная вышла бы пара», – уже перешептываются в свете. Их имена почти неотделимы. Остальное додумается. И Пушкин прослывет ревнивым, как дьявол, – Quel monster! И возможный адюльтер. И романтический ореол вокруг «интересного Дантеса», пожертвовавшего собой ради спасения «возлюбленной»: женился на ее сестре.
Образованное общество зачитывается романами Стендаля и Бальзака...
Так нас природа сотворила к противоречию склонна
«Е.О.» V, VII
Распахнуты двери дома на Мойке. Каждую минуту заходят люди... Им нет числа... Одним из первых приходит граф Строганов с женой.
Вчера до полуночи граф был в другом доме, у Геккернов. Сочувствовал барону, жалел Дантеса. Днем раньше Геккерн показал ему письмо от Пушкина. Оскорбительное. Мнение Строганова – мнение света. Его вердикт – дуэль. И прогремел выстрел... Дни напролет дежурит около умирающего Пушкина мать Идалии, графиня Строганова. Ничто не укрывается от ее глаз. Вот Жуковский выносит какие-то бумаги. Что это? Донос?! И Василию Андреевичу приходится оправдываться. ...Нет, Жуковский выносит с разрешения Наталии Николаевны ее личные письма к Пушкину.
Влиятельное семейство Строгановых волнуется. Слишком близко оказалось оно к трагедии. «Я больна от страха», – пишет Дантесу Полетика. И мечется по Петербургу обер-шенк двора. Собирает слухи. Автор пресловутых анонимных писем так и не найден. Не шутка ли это его дочери? Не ее ли кавалергарды приложили к пасквилю руку?
В ее доме было свидание Наталии Николаевны с Дантесом. Наедине! Не это ли повод или причина дуэли?
В те дни о свидании молчат. Хотя многие знают: Пушкины, Геккерны, Строгановы, Вяземские... Но нет такой версии у очевидцев, не связывают они эти звенья.
О тайной встрече станет известно лишь к концу века по двум источникам. Один сомнительный – воспоминания дочери Наталии Николаевны и Ланского. Другой – тоже не слишком понятен – свидетельство княгини В.Ф. Вяземской, записанное Бартеневым. «Дантес был частым гостем Полетики, и однажды виделся там с Наталией Николаевной, которая приехала оттуда вся впопыхах и с негодованием рассказала, как ей удалось избегнуть настойчивого преследования Дантеса».
Удивительно, но даже через десятилетия Вяземская тоже не связала свидание с дуэлью.
Других явных доказательств преследования Наталии Николаевны Дантесом нет. «Поведение вашего сына... не выходило из границ светских приличий», – читаем в первом варианте письма Пушкина к Геккерну. Весь компромат на молодого барона написан уже после дуэли. Общество словно прозревает. Вспоминают пылкие взгляды, частые танцы, тосты, неудачные шутки... «... на одном балу он так скомпрометировал госпожу Пушкину своими взглядами... что все ужаснулись...»
Все претензии Пушкина, высказанные в письме, были адресованы не Дантесу, а голландскому послу. Об этом в трагические дни тайно переписываются Николай I и Вильгельм II, будущий король Голландии. «Дело Геккерна» – так называют монархи события последних дней.
Что же до той «роковой» встречи в доме Идалии, то случайной она была, похоже, только для одного человека – Наталии Николаевны. Это было не ее свидание. А той, у кого она застала Дантеса. Последний же, испугавшись за репутацию своей возлюбленной, стал разыгрывать спектакль. Дантес не компрометировал жену Пушкина. Он спасал Полетику.
…Долгие годы в семье Строгановых хранится старинный бокал. Подарок барона Геккерна верному другу. А в семейном архиве Дантесов – письмо: «...когда Ваш сын Жорж узнает, что этот бокал находится у меня, скажите ему, что дядя его, Строганов, сбережет его как память о благородном и лояльном поведении, которым отмечены последние месяцы его пребывания в России».
Везде, везде перед тобой твой искуситель роковой
«Е.О.» III, XV
Раненый Дантес будет дожидаться суда на гауптвахте. Встречи с ним категорически запрещены. Но друзья ему пишут. Короткие записки на отдельных листах вложены в общий конверт. Одна из них – от нее... «Бедный мой друг! Ваше тюремное заключение заставляет кровоточить мое сердце. Не знаю, что бы я отдала за возможность прийти... Мне кажется, все то, что произошло, – это сон, кошмар».
Сдержанное, почти дружеское послание, не для чужих глаз. И как бы ответом на него – великолепный подарок от узника: тонкое запястье Идалии украсил драгоценный браслет работы французских мастеров. А от нее вновь летит послание-признание: «Вы по-прежнему обладаете способностью заставлять меня плакать, но на этот раз это слезы благодарности. Ваш подарок на память меня как нельзя больше растрогал и не покинет моей руки. Если я кого люблю, то люблю крепко и навсегда. До свидания, я пишу «до свидания», потому что не могу поверить, что не увижу Вас снова».
19 марта 1837 года бывший поручик Кавалергардского полка Жорж Дантес покинул Россию. По приговору военного суда он был разжалован в рядовые и выслан. В эти дни его жена Екатерина отправила вслед мужу недоуменное письмо. «Идалия приходила вчера на минуту с мужем, она в отчаянии, что не простилась с тобой... Она не могла утешиться и плакала, как безумная».
Она опоздала! На пару часов. В трагедию превратился водевиль, сюжет которого она сочиняла так вдохновенно и весело. «Прощай, мой прекрасный и бедный узник»...

Неизвестный автор. И.Г. Полетика. Подкрашенный дагерротип (?). Середина XIX века
Пройдет четыре года, прежде чем они встретятся вновь. Идалия приедет в Париж и потом напишет Екатерине: «Я получила такое удовольствие от вас обоих, что увидеться еще раз стало для меня навязчивой идеей. Я надеюсь, что смогу это осуществить». Но в 1843 году при родах Екатерина умрет. И Полетике уже не нужно будет писать невинные «дружеские» письма. Письма для двоих... «Я по-прежнему люблю Вас... Вашего мужа».
«Скажите от меня Вашему мужу все самые ласковые слова, которые придут Вам в голову, и даже поцелуйте его, – если у него осталось ко мне немного нежных чувств». Следы их встреч растворятся во времени... И только случайно найденная заметка современника подскажет, что в 1849-м она снова посетила Францию. «Я был поражен, найдя ее царившей среди самых элегантных женщин парижского общества. Помолодевшей и похорошевшей до такой степени, что ее трудно было узнать».
Дантес так и останется вдовцом. И их возможный эпистолярный роман история не сохранит. Как почти не сохранила и сам роман...
А в России после гибели Пушкина для Идалии все закончится. Какое-то время она еще будет ездить по салонам. Оправдывать Дантеса, обвинять Пушкина.
Наталия Николаевна не сможет простить предательства... сестры – Екатерины. Она прервет с женой Дантеса все отношения. Но с Полетикой общаться будет. «Ваших сестер, – расскажет Идалия Екатерине, – я вижу довольно часто у Строгановых... Мы очень милы друг с другом, но прошлого в наших разговорах не существует».
Вскоре А.М. Полетика в чине генерал-майора выйдет в отставку, и семья переедет в Одессу. Удары судьбы так и будут преследовать их. Сын Александр не доживет до трехлетнего возраста. Красавица Лиза умрет у нее на руках в двадцать лет. В 1854 году Идалия овдовеет и последние годы проведет в доме сводного брата. Они будут часами гулять по набережной, иногда останавливаясь и о чем-то увлеченно споря…
Со временем притупится память, сотрутся языки. Забудется и княгиня Мещерская, устроившая Идалии после всех событий бурную сцену: «Вы клеветали на Натали, кокетничали с Дантесом и сыграли по отношению к ней дурную роль!»
«Я ни о чем, ни о чем не жалею…» – признается она в письме к Екатерине.
Эпилог
Пройдет время, и водевиль Идалии Полетики станет практически официальной версией о ревнивом Поэте, его легкомысленной красавице-жене, кавалергарде-убийце и роковой даме. Но тайна гибели Пушкина так и остается тайной. Словно еще один роман из его наследия. То ли насмешка, то ли отчаяние...
Когда в 1824 году в Греции погибнет Байрон, а его мемуары по настоянию вдовы и сестры будут уничтожены издателем, возмущенный Вяземский с горечью напишет о судьбе мемуаров Пушкину. «Черт с ними! – ответит Поэт. – Мы знаем Байрона довольно. Толпа жадно читает исповеди, записки etc., потому что радуется унижению высокого, слабостям могущего. Он мал, как мы, он мерзок, как мы! Врете, подлецы: он мал и мерзок– не так, как вы, – иначе. Оставь любопытство толпе и будь заодно с гением».
Идалия не стала заодно с Гением, который «по воле рока» отнял у нее гения сердца, такого ничтожного для нас. Так рождаются мифы.
Валерия Елисеева , Вероника Карусель
Бурлящая кальдера Узона

Аборигены Камчатки – ительмены, пробиравшиеся на Узон за разноцветными глинами для красок, свято хранили тайну об этом удивительном месте. Первого цивилизованного человека они провели сюда в сентябре 1854 года. Это был Карл фон Дитмар, чиновник особых поручений по горной части. С тех пор люди не оставляют спящий уже восемь тысяч лет вулкан Узон своим вниманиием.
Вулканологи называют Узон «кальдерой». Этот термин (от испанского caldero – «котел») указывает на особое, «провальное» происхождение гигантского кратера-котловины. Около трехсот тысяч лет назад на месте Узона возвышался конический стратовулкан, достигавший высоты трех километров. После серии грандиозных извержений, которая завершилась сорок тысяч лет назад, вулкан разрушился, земля под ним просела – образовалась кальдера.
Западный край кальдеры – пик Бараний – сохраняет полуторакилометровый «осколок» первозданного вулкана. Обрывистые стенки, доступные лишь снежным баранам, возносятся ввысь, как трамплин. Заполненные снегом ложбины белыми молниями падают вниз. Горизонты кирпично-красных шлаков напоминают о древнейших извержениях.

На озерах с теплой водой «царствуют» термофильные синезеленые водоросли. Они выделяют кислород и препятствуют попаданию метана и углекислоты из источников в атмосферу
Восемь с половиной тысяч лет назад Узон испытал последнее «потрясение». Колоссальный взрыв оставил после себя воронку около километра в диаметре. И с тех пор Узон ни разу не извергался. Согласно современным представлениям, если срок до последнего извержения превысил 3 500 лет, вулкан может считаться недействующим. Но никак не потухшим. Узон, конечно, стар, однако его старость расцвечена необыкновенным образом. За прошедшие тысячелетия фумаролы и сольфатары – выходы горячих вулканических газов – изменили поверхность земли, насытив ее сонмом термальных источников. Но живая природа не отступила, сформировав уникальный симбиоз с вулканизмом. Находящийся на территории Кроноцкого заповедника Узон взят под особую охрану – с 1996 года он включен ЮНЕСКО в Список всемирного природного наследия в номинации «Вулканы Камчатки».
Внешние склоны кальдеры изрезаны распадками. Заросли кедрового и ольхового стланика легко преодолимы только для медведей. Ветер, туман и косой леденящий дождь – неизменные спутники в камчатских горах. Но все это останется позади, лишь только начнется спуск в кальдеру. Царящий наверху холодный туман превращается здесь в низкую облачность, из которой льется самый обыкновенный ласковый дождик – все меняется, словно ты переступаешь невидимую границу другого мира. Это и в самом деле так: Узон существует по каким-то своим законам.
Он живет своей жизнью, и ему невдомек, в какое смятение приходят «ученые головы» рядом с его горячими источниками, в которых природа, словно одержимый алхимик, смешала чуть ли не все известные химические элементы, но мало того, поместила туда еще какие-то невообразимые бактерии и водоросли, для которых кипяток и ядовитые вещества – самая благоприятная среда обитания.
Высота стенок кальдеры в среднем 400 метров, ее диаметр – около 10 километров. Внутри – словно «заархивированная» Камчатка: серные кратерные источники и чистое озеро, из которого вытекает рыбная река, рощи каменной березы и кусты кедрового стланика, просторы ягодной тундры и классическое камчатское высокотравье, и – весь набор камчатской живности: медведь, северный олень, лисица-огневка, лебедь-кликун, белоплечий орлан.

Озеро Хлоридное находится в центре крупнейшего в кальдере Восточного термального поля. Вода озера имеет хлоридно-натриевый состав
Вода живая и мертвая
Медвежья тропа, ведущая на Узон с севера, спускается к озеру Дальнему. Это так называемый маар – взрывная воронка, заполненная холодной и прозрачной водой. Маар озера Дальнее имеет около километра в диаметре, его внутренние стенки сплошь заросли кедровым стлаником, и настолько крутые, что медвежья тропа, выводящая наверх, напоминает пожарную лестницу. Зимой озеро сковано льдом, сам кратер чуть не доверху завален снегом – последние льдины исчезают иногда только к началу августа. Кольцо обрывистых стенок почти не оставляет места для берега, лишь узкая полоска шлака, пепла и вулканических бомб черной лентой опоясывает воду.
В центре кальдеры, разогреваемой подземным, еще не остывшим магматическим очагом, находится основная термальная зона – здесь более тысячи горячих источников (они могли бы питать небольшую геотермическую электростанцию). Источники подпитывают многочисленные озерца, самое большое из которых – Хлоридное диаметром всего 150 метров. Его вода беловато-серая и имеет хлориднонатриевый состав. Из нескольких глубоких и высокотемпературных воронок непрерывно выделяются крупные газовые пузыри с высоким содержанием метана и водорода. Дно озера обильно заселено диатомовыми водорослями, которые под воздействием солнца (средняя глубина водоема не более 1,5 метра) активно участвуют в фотосинтезе, выделяя кислород. В свою очередь, кислород окисляет поступающий из глубины сероводород до элементарной серы, выпадающей на мелководье в виде мелких желтоватых зерен и образующей на берегах озера серные пляжи. Эта сера служит пищей для тионовых бактерий, вырабатывающих серную кислоту. В результате из озера вытекает ручей натуральной серной кислоты, хотя и разбавленной.
Вода Хлоридного, разумеется, не годится для купания, купаются в другом озере – Банном – взрывной воронке, заполненной сернистой, нагретой до 40°, водой. Купание в Банном всегда было своеобразным ритуалом для всех, кто работал на Узоне или попадал туда в качестве туриста. Вечером, когда темнело, к озеру тянулись вереницы людей с полотенцами. Осторожно шли они по медвежьим тропинкам, освещая путь фонариком, огибая грязевые котлы и фумаролы. По гулким буграм спускались к серному ручью. Уже слышно было, как булькают пузыри в истоке. А вот и Банное: луч фонаря останавливался на безмолвно клубящейся стене пара… Весной 1987 года температура воды в озере вдруг поднялась до 47°С. Любителей узонских ванн ожидало разочарование. А к осени температура вновь вернулась в прежние рамки.
В 1989 году на водоеме произошел так называемый фреатический взрыв с выбросом содержащегося в воронке материала. Его наблюдали только егеря заповедника. В 1991 году вулканологи обнаружили на глубине 25 метров плотный горизонт расплавленной серы. Пробив эту корку, груз с термометром достиг настоящего дна на глубине 32 метра. Впечатляющие факты! И все же стоит погрузиться минут на пять в грязноватую жижу, чтобы снять усталость и ощутить вместе с легким запахом серы мимолетную близость с «преисподней».

Тионовые бактерии живут в воде при температуре, близкой к 90°С. Их колонии образуют живописные космообразные скопления, вытянутые по течению кислотных ручьев
Алхимия под ногами
Грязевые котлы и грязевые вулканчики – маленькие чудеса Узона. Они встречаются там, где пеплово-пемзовые туфы под воздействием серных паров и горячей воды превратились в каолинитовые глины. Дитмар впервые описал их, а Владимир Комаров, известный географ, позже президент Академии наук СССР, оставил первые фотографии. Теперь кажется, что эти необычайно четкие, как тогда говорилось, «фототипии» сняты чуть ли не вчера. Такие же горячие источники, котлы, вулканчики – те и не те: трудно объяснить, в чем различие – в расположении источников или в их форме. Дело в том, что Узон все время меняется: одни источники умирают, другие – рождаются, пробиваясь сквозь тундру или прямо на медвежьей тропе. Глинистые корки, которыми покрыты многие термальные площадки, иногда гудят под ногой – под ними пустоты, и, если прислушаться, можно различить хлюпанье булькающей глины – это означает, что прямо внизу скрыт грязевой котел, готовый заключить вас в горячие объятия. Угодить в кипящую глину много страшнее, чем просто обвариться: глина не кипяток, остывает медленно, и сразу ее не смоешь. Можно только завидовать и восхищаться медведями, глядя, как лихо они пересекают термальные площадки.
Ленивое бульканье густой глины смешивается с яростным шипением «поющих» или «чертовых сковородок» – термальных площадок, где из-под зыбких корок брызжет, плюется и клокочет кипяток.
Грязевые вулканчики действуют почти как настоящие: и дымят, и «извергаются» своей горячей глиной, только активизация их «вулканической деятельности» наступает после дождя, когда разжижается глина, а в сухую жаркую погоду вулканчики «засыпают».
Там, где на поверхность выходят слабоминерализованные растворы, вокруг парогазовых струй откладывается мелкокристаллическая сера, покрывая землю нежно-зеленым налетом. В зонах сильной минерализации (до 5 г/л) при участии сероводорода идет процесс оруденения. Прямо на глазах у исследователя образуются различные сульфиды: мышьяка – золотисто-желтый аурипигмент и оранжево-красный реальгар, сурьмы – антимонит, ртути – красная киноварь, железа – латунно-желтый пирит. Палитра узонской земли причудлива – об этом и говорят названия минералов.

На озерах с теплой водой «царствуют» термофильные синезеленые водоросли. Они выделяют кислород и препятствуют попаданию метана и углекислоты из источников в атмосферу
С каждым годом кальдера Узон привлекает к себе все большее внимание ученых со всего мира. Особый интерес проявляют микробиологи, обнаружившие в горячих источниках Узона уникальный биогеоценоз. Прежде всего это мир архей – древнейших микроорганизмов, не относящихся ни к водорослям, ни к бактериям. Археи избрали для своей жизнедеятельности наиболее экстремальную среду. На Узоне они живут в источниках с температурой 96°С (температура кипения воды на уровне дна кальдеры – 96,5°С), используют «для дыхания» не кислород, а серу, и энергетические запасы пополняют за счет сероводорода.
Чуть меньшими «экстремалами» следует признать тионовые бактерии, открытые еще в 1933 году. На Узоне они предпочитают источники, нагретые от 80 до 90°С, и образуют там живописные космообразные колонии белого цвета. Эти бактерии различаются по виду и специализации: одни, например, окисляют сульфиды серы до серы элементарной, другие – преобразуют ее в серную кислоту. Ручьи, населенные тионовыми бактериями, имеют, как правило, белый цвет и рядом с красно-охристыми глинистыми буграми воплощают парадоксальную ассоциацию с «молочными реками и кисельными берегами».
В нижнем температурном диапазоне (менее 65°С) обитают хорошо известные, но малоизученные термофильные родственники обычных синезеленых водорослей. Это уже аэробные организмы, выделяющие кислород и, как выяснилось, препятствующие доступу в атмосферу из термальных источников таких газов, как метан и углекислота.

Для медведей, нагуливающих жир к зиме, ягоды – главнейшая пища
Медвежий рай
Медведи приходят на Узон в апреле—мае, когда всюду за пределами кальдеры еще лежит снег. При весенней бескормице зеленая трава для них – безусловный деликатес. Звери с явным удовольствием разгуливают по теплой узонской глине. Говорят, будто медведи лечат и укрепляют свои стопы, ослабевшие после долгой зимней спячки. Медведицы выводят из берлог совсем еще крохотных медвежат. На Узоне они чувствуют себя в безопасности. Любовные пары, не терпящие никакого соседства, могут уединиться в зарослях кедрового стланика. Молодежь резвится на снежниках. А летом и осенью, когда созревают голубика и кедровый орех – основная «вегетарианская» пища камчатских медведей, – косолапое население Узона заметно вырастает числом. Медведи пасутся на голубичной тундре порой часами, порой сутками, становясь неотъемлемой частью узонских ландшафтов. Люди стараются не тревожить их, и медведи отвечают снисходительным равнодушием, как и подобает подлинным хозяевам Узона, которым, по счастью, неведомо, что кольцо цивилизации уже замкнулось…
Андрей Нечаев Фото автора








