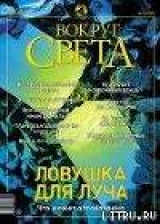
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №6 за 2003 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)
Феномен: Очаровательные убийцы

Есть в великолепном царстве Флоры группа растений, которая во все времена не только приводила в восторг естествоиспытателей и натуралистов, но и служила неистощимым источником вдохновения для создателей леденящих душу небылиц, в которых человеческая фантазия с лихвой восполняла недостаток точных знаний и фактов.
Эти растения принадлежат к разным семействам и обитают в самых различных климатических зонах – от арктических тундр до экваториальных джунглей. Но есть у них одна общая черта – все они насекомоядные хищники, главное дело жизни которых – охота. И пусть добыча по нашим меркам – невелика, а сам процесс охоты – беззвучен, в этих драматичных схватках растения и животного внимательному наблюдателю открывается великий закон вечного движения Природы – борьба за выживание.
Росянки – одни из наиболее распространенных среди насекомоядных растений. Растут они по всему миру и насчитывают около 100 видов, большая часть которых обитает в Австралии и Новой Зеландии. Типичный их представитель – росянка крупнолистная (Drosera rotundifolia), нередко растущая на болотах умеренной зоны Северного полушария. Англичане дали этой росянке поэтическое название sun-dew, то есть “солнечная роса”. Действительно, ловчие листья этого растения необычны – они напоминают небольшую тарелочку, верхняя часть которой покрыта многочисленными волосками, а на кончике каждого из них – искрящаяся на солнце капелька клейкой жидкости, привлекающая внимание потенциальной жертвы. Манящая капля “росы” оказывается на поверку липкой слизью, которая и лишает насекомое возможности спастись. Лист росянки необычайно чувствителен – достаточно легчайшего прикосновения, и все его волоски приходят в движение, изгибаясь к центру в стремлении как можно “щедрее” облепить жертву клейким веществом и переместить ее в самую середину листа – туда, где находятся пищеварительные ворсинки. Постепенно лист росянки смыкается над насекомым, превращаясь в некое подобие крошечного желудка.
Как известно, большинство растений получают необходимые питательные вещества из почвы. Некоторые же из них избрали другой путь и в ходе своей эволюции обзавелись удивительными приспособлениями для ловли и последующего переваривания насекомых. Сразу оговоримся, столь экзотический способ пропитания был выбран не из прихоти, а по необходимости, ведь болотистые почвы, на которых обитает большинство растительных хищников, весьма скудны и могут обеспечить им лишь “прожиточный минимум”.
Эксперименты показывают, что растения, живущие только за счет корневого питания, в отличие от своих собратьев, получающих животную пищу, заметно отстают в росте и находятся в крайне угнетенном состоянии. Растения, обитающие на заболоченных почвах, страдают от недостатка различных веществ: фосфора, калия и особенно азота. В естественном стремлении хоть как-то пополнить этот “голодный паек” растения и развили у себя различные ловчие органы, представляющие собой не что иное, как видоизмененные листья, снабженные железами, выделяющими пищеварительные ферменты и органические кислоты, позволяющие растению усваивать пойманную добычу. Легко предположить, что насекомоядные растения – как некий ботанический курьез – довольно редки в природе. Однако это не так. Данная группа растений включает в себя почти 500 видов из 6 семейств, различные представители которых встречаются во всех частях света. Хотя наибольшее видовое разнообразие подобных хищников, конечно, присуще тропикам.
Одна из самых красивых росянок – капская росянка (Drosera capensis). Ее стебель, обычно достигающий нескольких сантиметров в высоту, несет на себе тонкие удлиненные листья. На растении постепенно раскрываются многочисленные, очень привлекательные цветы. Однако капская росянка – пусть и очаровательный, но убежденный хищник, терпеливо ожидающий добычу. Процесс пищеварения обычно занимает несколько дней. Железы росянки выделяют жидкость, содержащую органические кислоты (в основном бензойную и муравьиную) и пищеварительные ферменты типа пепсина, расщепляющие белки насекомого до более простых соединений, которые растение способно усвоить. Чарльз Дарвин, проводивший многочисленные наблюдения и эксперименты с росянкой крупнолистной, обнаружил удивительную способность этого растения переваривать даже кусочки кости и хряща. От насекомых же, пойманных росянкой, остаются лишь нерастворимые ферментами хитиновые покровы, которые вскоре смываются с поверхности ловчего листа дождем или уносятся ветром.
Весьма эффективно ловчее приспособление венериной мухоловки (Dionea muscipula), обитателя Северной Америки. Это растение хоть и родственно росянке, но использует совершенно иной способ охоты. Его видоизмененные листья являются миниатюрной копией стального капкана. У двудольных листовых пластинок посередине есть своеобразный шарнир, позволяющий им складываться. Каждая половинка листа снабжена тремя чувствительными волосками, реагирующими на прикосновение. Листья венериной мухоловки действуют молниеносно – стоит насекомому едва коснуться чувствительных волосков, как половинки листа мгновенно захлопываются, их зазубренные края заходят друг за друга и жертва оказывается в надежной ловушке. Остается лишь добавить, что размер этого устрашающего приспособления обычно не превышает нынешнюю 50-копеечную монету. Венерина мухоловка привлекает насекомых нектаром, который выделяют железы, расположенные по краям ловушки. Раскрыть захлопнувшийся лист растения ой как непросто – он скорее разорвется, чем уступит.
В отличие от росянки мухоловка способна различать живые и неодушевленные предметы – мелкие соринки, попавшие в капкан, не привлекают ни малейшего ее внимания. Механизм ловушки срабатывает лишь в том случае, если притронуться поочередно к двум волоскам или к одному и тому же – дважды. Это “умение” позволяет растению не тратить силы попусту. По той же причине между двумя половинками захлопнувшегося листа остается небольшой зазор – чересчур мелкая добыча, на которую не стоит тратить время, может покинуть ловушку. Но если жертва достаточно упитанная, то после ее поимки капкан сжимается все сильнее и сильнее, стремясь раздавить насекомое и прижать его к переваривающим железам. Дольки ловчего листа столь плотно прилегают друг к другу, что на их поверхности отчетливо проступают очертания жертвы.
Еще более сложными приспособлениями для ловли насекомых обзавелись непентесы, или кувшиночники . Это обычно лианы, обитающие на заболоченных почвах по опушкам вечнозеленых тропических лесов. Их лазящие или стелющиеся стебли достигают порой 20-метровой длины. Вьющиеся листья заканчиваются длинными усиками, на которых висят испещренные красноватыми пятнами и источающие сильный запах довольно крупные кувшинчики. Привлеченные нектаром и яркой окраской, насекомые взбираются по краю этой ловушки, что обычно заканчивается их падением на дно кувшинчика, в жидкость, содержащую пищеварительные ферменты. Кувшинчик этого растения может достигать длины 30 см, поэтому для того, чтобы выбраться из ловушки, насекомому надо сначала преодолеть зону переваривающих желез, а потом – хорошо отполированную скользкую поверхность. Для пущей же надежности кувшинчик снабжен нависающими сверху зубчатыми краями.
В приатлантических штатах США, от Северной Каролины до Флориды, встречается необычное растение – саррацения. Его яркие, смахивающие на урну, листья являются ловушкой для разнообразных мелких насекомых, привлеченных запахом нектара. Выбраться назад несчастной жертве мешают жесткие, направленные книзу волоски и скользкие, покрытые восковым налетом стенки. На дне урночки саррацении всегда есть немного водянистой жидкости, содержащей бактерии, которые разлагают добычу, перевариваемую после этого особыми ферментами. В близком родстве с саррацениями состоит дарлингтония калифорнийская (Darlingtonia californica) – обитатель североамериканских болот. Ее кувшинчатые листья достигают метровой длины и являются искусным орудием лова насекомых, которых манит нектар, выделяемый на внутренней их поверхности. Насекомые, упавшие внутрь кувшина, тонут в скопившейся на его дне жидкости, а затем разлагаются под действием бактерий.
Зоосфера: Семейные правила

У хорошо известной всем хозяйственной и проворной белки, одетой летом в рыжую шубку, а зимой – в серебристо-серую, очень много совершенно не похожих на нее родственников. А членами одной семьи они стали благодаря единству происхождения и анатомическому сходству. Млекопитающие грызуны из семейства беличьих (Sciuridae), включающего 47 родов, насчитывают более 230 видов зверьков. Белки и летяги ведут древесный образ жизни, спускаясь вниз крайне редко, а сурки, суслики и бурундуки – наземные жители, хотя последние в минуты опасности могут ловко взобраться по стволу к верхушке дерева и затаиться там среди веток и листвы.
Лисья белка (Sciurus niger)
Типичный житель лесов и городских парков США. Длина туловища вместе с хвостом составляет 63—70 см. У каждой белки вопреки устоявшемуся мнению не один, а несколько домов, где она может ненадолго перевести дух, устав от дневной суеты, переждать непогоду или спрятаться от преследователя. Но кроме этих запасных “квартир” белки очень основательно обустраивают зимний дом в виде гнезда, выстланного сухими листьями и мхом, что позволяет даже в сильные морозы поддерживать там комфортную плюсовую температуру. Два раза в год у лисьей белки появляются детеныши, которые рождаются слепыми и голыми и потому в течение последующих 6 недель неотлучно находятся в гнезде. Когда бельчиха ненадолго отлучается, то заботливо укрывает своих малышей мхом, чтобы те не замерзли.
Луговая собачка (Citellus fulvus)
Эти грызуны, внешне очень сходные с желтым сусликом, издают своеобразные лающие звуки, что и стало причиной их названия. Собачки довольно крупные – длина их тела достигает 40 см, хвоста – 7 см. Населяют они степные и пустынно-степные ландшафты равнин и гор Центральных и Южных районов Северной Америки. Селятся большими колониями, располагая норы близко друг от друга. Нора состоит из двух отрезков: наклонного и вертикального, общая длина которых может достигать 100 метров. Перед зимней спячкой собачки линяют и одеваются густым пушистым мехом.
Североамериканская белка (Sciurus aberti)
Этих белок зовут также ушанами из-за наличия на кончиках ушек своеобразных кисточек. Эти хлопотуньи от рассвета до заката заняты работой, обегая в поисках пищи множество деревьев и легко преодолевая по воздуху 2,5 метра. Длина тела этой разновидности белок достигает 58 см, а вот хвост у них относительно небольшой – всего 20—25 см. Белки два раза в год линяют, хвост же при этом – только один раз. Потомство из 3—4 бельчат появляется в апреле—мае. Они рождаются крошечными, всего 12 г, но уже через 7 недель от роду начинают выходить из гнезда и учиться лазать по деревьям.
Обыкновенная белка (Sciurus vulgaris)
Распространена в лесах Европы, Азии и Америки. Наиболее многочисленна – в темнохвойной и лиственной тайге. В России ее часто называют старинным словом векша. Питается она семенами хвойных пород, желудями, орехами, но при случае не прочь полакомиться насекомыми или яйцами птиц. Это очень домовитый зверек, целый день занятый собиранием припасов на зиму, ведь этот вид белок не впадает в спячку, как многие другие грызуны, и потому питание им нужно круглогодично.
Белка-летяга (Glaucomys volans)
Типичное место обитания летяг, насчитывающих 36 видов, – хвойные и смешанные леса. Они распространены в лесах умеренного климата Северного полушария и в тропиках Азии. Самый крупный вид, живущий в горных лесах Индии, Бирмы и Цейлона, – тагуан достигает длины 120 см вместе с хвостом и весит до 1,5 кг. Все летяги отличаются от белок обыкновенных наличием кожистой перепонки, покрытой шерстью, между передними и задними конечностями, которая служит для планирования в воздухе во время полета. Хвост же выполняет роль тормозящего органа при “посадке” на дерево. Максимальная дальность полета у разных летяг может достигать от 30 до 60 м. Глаза у летяг намного больше, чем у других видов белок, и связано это с сумеречным и ночным образом жизни.
Арктический или беренгийский суслик (Spermophilus parryi)
Эти земляные белки, обитающие в Северной Канаде и на Аляске, проводят в спячке 9 месяцев в году. Средний размер сусликов 22—25 см, а длина хвоста – в 2 раза меньше. Живут они колониальными поселениями, в пределах которых располагаются выводковые, защитные норы и зимние кладовые. В качестве убежищ используют каменистые россыпи, среди которых становятся практически невидимыми, но, несмотря на крайнюю осторожность, они зачастую все-таки становятся добычей различных хищников.
Индийская пальмовая белка (Funambulus pennati)
Пальмовые белки – невелики по размерам, длина их туловища составляет не более 20 см. Они населяют почти весь полуостров Индостан, обитая как в густых влажных тропических лесах, так и в открытых пальмовых рощах, в непосредственной близости от людей, а потому зачастую заходят в дома и бесстрашно разгуливают по улицам селений или городов. В ряде районов отмечен немалый вред, наносимый плантациям кофе этими белками – большими охотницами до почек и бутонов кофейных деревьев.
Африканские сусликобелки (Xerus Inauris)
Обитают эти зверьки в Южной Африке, к югу до реки Оранжевой, и в каменистых местах пустыни Карру. Длина их тела, как и хвоста, – 20—22 см. Внешне они напоминают обыкновенных белок, но живут они в земляных, правда, очень неглубоких (до 1—2 м) норах, имеющих несколько выходов и переходов к соседям. Сусликобелки очень любопытны по природе. Увидев человека, они обязательно перебегут ему дорогу, и именно по этому на многих африканских языках название земляных белок переводится на как “перебегающий путь”.
Круглохвостые земляные белки (Spermo-philus tereticaudus)
Эти изящные мелкие суслики, длина тела которых вместе с хвостом достигает 20—25 см, местом своего жительства выбрали пустынные районы юго-запада США – от Колорадо, через штаты Юта, Аризона, Невада, юг Калифорнии до запада Техаса и северных районов Мексики. Они активны круглый год. В спячку не впадают, но при изменениях погоды могут по нескольку дней не высовывать и носа из норы, благо там всегда имеется добрый запас еды. Настороженный или чем-то заинтересованный суслик становится “столбиком”, а при малейшей опасности издает резкий свист, оповещая таким образом своих сородичей, а затем стремглав, грациозно перепрыгивая через препятствия, мчится в укрытие.
Масличная белка (Protoxerus strangeri)
Такое название эта белка получила из-за того, что ее главным гастрономическим пристрастием являются плоды масличной пальмы. Ареал этой белки распространяется в Африке, от Ганы до Кении, к югу – до Анголы и острова Фернандо-По. Масличная белка обитает на верхних ярусах леса, но в поисках пищи спускается на землю. Часто брюшко этого зверька бывает окрашено оранжевым соком плодов пальмы.
Американская серая белка (Sciurus carolinensis)
Раньше эти белки обитали исключительно в восточной части Северной Америки, но в последнее время стали активно заселять Англию, Шотландию и Ирландию, вытесняя из лесного “хозяйства” обыкновенных белок. Демографический взрыв беличьего населения или же неурожайный год заставляет их, сбивающихся в огромные стаи, преодолевать немыслимые расстояния, и даже водные преграды – ничто не может остановить их в стремлении перебраться на новые территории. Подняв хвосты, чтобы они не намокли и не стали тяжелым грузом, тянущим ко дну, эти белки в состоянии переплывать даже довольно широкие реки.
Петербургу-300: Осень классицизма

Очередное историческое путешествие приведет читателей в Петербург 1830—1840-х годов. Время, когда город становился все более многоликим. Это и литературная столица «золотого века» русской поэзии, и чиновничий и военный город, и стремительно растущий индустриальный центр державы. В те годы в Петербурге на смену классицизму приходит новый стиль – эклектика, «архитектура умного выбора». И увидеть все эти изменения можно будет глазами великого художника Карла Брюллова. Наш журнал осуществляет этот юбилейный цикл совместно с Международным благотворительным фондом имени Д. С. Лихачева.
После многих лет разлуки с Санкт-Петербургом художник Карл Брюллов шел по Невскому проспекту и впитывал знакомые с детства звуки и запахи, отдавшись на волю людского потока, который нес его по тротуару… Весна 1836 года в Петербурге выдалась на диво ранней и теплой. Во все времена раннее весеннее тепло приносило несравненное наслаждение петербуржцам, измученным долгой, темной, слякотной зимой. В тот год солнце быстро справилось со снежными сугробами на центральных улицах. Гоголь писал тогда: «Тротуары сухи, джентльмены в одних сюртуках с разными палками, вместо громоздкой кареты несутся по паркетной мостовой полуколяски и фаэтоны… в окна магазинов вместо шерстяных чулков глядят кое-где летние фуражки и хлыстики»…
…Он не был в Петербурге почти 15 лет. В 1822 году, еще при Александре I, Брюллов, как один из блестящих выпускников Академии художеств, был послан на стажировку в Италию, да и задержался там. Уехал он талантливым, подающим надежды молодым художником, а вернулся прославленным мэтром, создателем картины «Последний день Помпеи», которая потрясла Милан, устроивший Брюллову овацию в театре Ла Скала, а затем и Париж с победоносным для живописца Салоном.
В 1834 году картину привезли в Петербург и выставили в Академии художеств. И тонкие знатоки живописи, и профаны, видавшие в своей жизни только лубочные картинки в трактире, толпами валили в Академию, чтобы увидеть знаменитое полотно.
Огромная картина обладала какой-то влекущей к себе волшебной силой, близкой к магии катастрофы, когда человек не может оторвать глаз от страшного зрелища грандиозного разрушения… Итак, слава прибежала на родину раньше, чем вернулся сам Брюллов, а потому он, вступив на невский берег, был уже самым популярным художником в России, хотя тогда его на улице еще никто не узнавал. Впрочем, в то майское утро Брюллов, обычно капризный и мелочный в отношении этой самой славы, был даже рад своему временному инкогнито – никто не мешал ему рассматривать родной город, который за эти годы разлуки стал другим, даже порой незнакомым. Острый глаз художника подмечал перемены памятного ему городского пейзажа, искажение знакомых с детства перспектив. За каждым поворотом как по мановению волшебной палочки возникали неведомые прекрасные здания, казалось, стоило закрыть глаза и они, как миражи в пустыне, исчезнут…
Николаевский Петербург был не чета Александровскому, который больше походил на грандиозную стройку, на некое царство заборов, толпящихся вокруг новых сооружений. Теперь, при императоре Николае I, эти здания были закончены и уже блистали своей вечной красотой. Архитектор Карл Росси к моменту возвращения Брюллова уже несколько лет ничего не строил. Еще в 1832 году рано постаревший и больной, он отпросился в отставку и до самой смерти в 1849-м не прикасался к карандашу. Это удивительно! Казалось, что он до срока исчерпал себя до дна, разом выплеснув всю свою гениальную энергию на улицы и площади Петербурга, и, опустошенный, замер в ожидании смерти. К 1832 году он закончил не только триумфальный ансамбль Главного штаба, но и многое другое из задуманного. Вернувшегося же в Петербург Брюллова Росси потряс совершенно новым, неожиданно величественным и одновременно камерным ансамблем площади Александрийского театра. И с земли, и с высоты птичьего полета этот ансамбль и сейчас поражает гармонией самых разнообразных объемов. Это и особняком стоящий театр с квадригой лошадей в колеснице Аполлона, парящей над площадью, это и здания Публичной библиотеки со статуями античных мудрецов, свободно расположившиеся под щитом-эгидой богини Афины, а позади театра – удивительная улица из двух домов, прославленная гармонией соразмерности. Это и изящные павильоны Аничкова сада с его фонарями и решетками – все это слагается в единую, неповторимую архитектурную мелодию, в которой каждая нота на своем месте, даже памятник Екатерине, поставленный позже.
Подобный восторг перед творениями Росси Брюллову в тот день пришлось испытать еще дважды – когда он увидел грандиозный, как Парфенон, Михайловский дворец и перед его глазами предстали соединенные аркой здания Сената и Синода, напоминающие своими десятками колонн архитектурный «орган». Росси еще раз показал себя великолепным мастером нескучной симметрии и гармонии, которого превзойти невозможно. Он сумел выполнить сложнейшее задание Николая I – создать для этих двух высших государственных учреждений здание, сопоставимое по размеру и убранству с вытянувшимся напротив Сената и Синода Адмиралтейством. Гением Росси все эти три сооружения замкнулись в единый ансамбль Сенатской площади вместе с Конногвардейским манежем, бульваром и Медным всадником в центре.
Совсем неподалеку от этого шедевра развернул свою работу Огюст Монферран. Его «полем» стала Адмиралтейская площадь. Здесь он, порой отвлекаясь на другие заказы, строил почти полвека. Сначала величественное здание с тремя фасадами – дом Лобанова-Ростовского, практически одновременно взявшись за весьма рискованное дело – перестройку Исаакиевского собора.
Брюллов же, стоя перед ним в то майское утро, даже не догадывался, что довольно скоро его пригласят расписывать стены собора. За эту работу Брюллов возьмется с жаром – быть русским Леонардо Исаакия для художника значило войти в бессмертие… Ну а в мае 1836-го он мог увидеть, что дело у Монферрана заметно продвинулось: уже стояли на своих местах все темно-красные гранитные колонны портиков, а само здание «доросло» до высоты их капителей. Вообще же, француз Монферран был замечательным инженером. Когда на установку первой колонны Исаакия 20 марта 1828 года прибыла вся царская семья, то ждать ей пришлось недолго – подъем огромной колонны занял всего 45 минут. Что было на 5 минут дольше, чем подъем из ямы знаменитого Царь-колокола в Кремле, который отлить-то отлили, а из ямы вытащить до прибытия Монферрана не могли без малого 100 лет. И уже совсем непревзойденным его инженерным подвигом стало водружение на Дворцовой площади грандиозной Александровской колонны.
Эта колонна, посвященная Александру I, стала «последней точкой» в работе нескольких поколений архитекторов, украшавших парадный центр Петербурга. Важно, что общим результатом их работы стала не просто «застройка», а уникальный ансамбль ансамблей. Великолепные здания стоят вокруг площадей, которые в свою очередь сливаются с пространством Невы. Самой природой созданная между Петропавловской крепостью, Стрелкой Васильевского острова и Зимним дворцом, водяная (а зимой – ледовая) площадь плавно перетекает в вереницу рукотворных площадей. Дворцовая, Адмиралтейская (ныне Адмиралтейский проспект и Александровский сад), Сенатская (ныне Декабристов), а также Биржевая и Марсово поле – образуют величественный комплекс открытых городских пространств, демонстрирующих единство природных и рукотворных творений. Известно, что идея «анфилады» площадей вдоль Невы была заложена еще в планах архитектурной комиссии в 1762 году, но вот осуществлена была только в Николаевскую эпоху.
Эти площади, слитые воедино своей историей и архитектурным исполнением, совершенно непохожи друг на друга. Дворцовая, стянутая упругой дугой здания Главного штаба, как бы сворачивается воронкой вокруг Александровской колонны. Адмиралтейская, еще до того как распалась на проспект и городской сад, являла собой грандиозный плац, на котором выстраивалась в торжественные дни вся русская гвардия. Прохладой Невы и горькой памятью братоубийства декабря 1825-го дышит соседняя с ней Сенатская с «кумиром на бронзовом коне», а за ней раскинулась Исаакиевская – место, где в Мариинском дворце расположатся Госсовет и Министерство государственных имуществ и встанет памятник самому Николаю I.
В 1839 году французу Кюстину, привыкшему к тесному уюту Парижа, анфилада петербургских площадей показалась пустырем, окруженным редкими строениями. Для русского же человека эта цепь – архитектурный символ целой эпохи великой империи…
В неразрывной слитности архитектуры и природы, в удивительном сочетании тонких северных красок и оттенков есть своя глубина, ясность и акварельное изящество.
…На Сенатской площади Брюллов взял извозчики и по самому старому на Неве наплавному Исаакиевскому мосту отправился на Васильевский остров, мимо Академии художеств, к дому родных, живших на Среднем проспекте. Как только экипаж оказался на набережной Васильевского острова, Брюллова окружили иная атмосфера, иные звуки.
Где-то внизу, под настилом пристани, хлюпала вода, а корабли скрипели канатами и терлись бортами друг о друга. Васильевский остров уже давно простился с мечтами Петровской поры о том, чтобы стать центром столицы. Зато он лежал ближе всего к морю. Здесь, как нигде в другом месте, ощущалось присутствие Балтики. Остров жил своим портом, охватившим набережные Большой и Малой Невы. Новостью для Брюллова в порту могла оказаться новостройка – изящное, благородное классическое здание, сооруженное в 1832 году архитектором И.Ф. Лукини для вполне прозаической таможни. Брюллов вряд ли мог не оценить ставшего характерным для Стрелки разительного сочетания внешней помпезности и утилитарного, коммерческого назначения зданий – ведь расположившийся рядом на высоком подиуме роскошный античный храм был таким же «перевертышем» – шумной, грязноватой Биржей.
Встреча с родными была радостной – все они гордились славой сына выходца из Франции резчика Поля Брюлло. Триумфом стало и его появление в Академии художеств, и встреча с ее профессорами и учениками, куда Брюллов шестилетним карапузом пришел за руку с братом Александром (ставшим потом крупным архитектором), чтобы учиться живописи.
Впрочем, вернувшись в Петербург, Брюллов не долго наслаждался отдыхом. Он стал преподавать в Академии, и в его мастерской можно было увидеть людей знаменитых. Сюда наведывались даже царь с царицей, чтобы посмотреть, как работает Карл Великий (так звали Брюллова окружающие).
В 1837-м вместе с поэтом В.А. Жуковским и обер-гофмейстером двора меломаном М.Ю. Виельгорским он решил затеять необыкновенное дело. Брюллов написал портрет Жуковского, потом «заговорщиками» была устроена лотерея, в ходе которой картину купила императрица, а вырученные за нее 2,5 тысячи рублей пошли на выкуп крепостного художника Тараса Шевченко.
Почти всех их, как поодиночке, так и группами, можно было увидеть на том Невском проспекте, ставшем хорошо знакомым нам по гравюрам знаменитой панорамы B.C. Садовникова. Вообще, Невский служил прекрасной архитектурной декорацией, на фоне которой проходила интеллектуальная жизнь столицы. Если приглядеться к той части панорамы Садовникова, где изображена Голландская церковь, можно заметить Пушкина, гуляющего по Невскому в высоком цилиндре. Это – почти фотография. Как писал современник, «в числе гулявшей по Невскому публики почасту можно было приметить и А.С. Пушкина». Совсем рядом, на Мойке, в доме № 12, он нанимал квартиру, и именно здесь развернулась последняя трагедия поэта.
Как и у каждого петербуржца, у Пушкина была своя «тропа» по Невскому. Здесь или поблизости жили или служили его приятели и знакомые – идет ли речь о салоне в доме А.Ф. Воейкова (там же жил и Жуковский), о Публичной библиотеке, которой управлял его друг А.Н. Оленин и где работали И.А. Крылов и Н.И. Гнедич. Тут, на «книжной версте» Невского проспекта (от его начала до Аничкова моста), для Пушкина и других литераторов было подлинное средоточие бесчисленных книжных и нотных лавочек и магазинов, редакций, издательств, типографий. С радостью встречали Брюллова как в книжном магазине и библиотеке А.Ф. Смирдина, так и во множестве кофеен и кондитерских, где всегда можно было почитать свежие газеты, посидеть с друзьями. Одну из этих кондитерских – заведение Вольфа и Беранже на углу Невского и набережной Мойки – знают все. Отсюда Пушкин отправился на Черную речку. Здесь и в послепушкинскую эпоху вовсю кипела литературная жизнь. В ту же кондитерскую Вольфа и Беранже в 1846 году зашли два литератора – поэт А.Н. Плещеев и писатель Ф.М. Достоевский. И именно здесь они случайно познакомились с Буташевичем-Петрашевским, что, как известно, резко переломило жизнь Достоевского и привело его на каторгу.
Столичная жизнь почти тотчас закрутила, увлекла Брюллова, и он частенько отправлялся со своего острова на материк – на Адмиралтейскую сторону да на Невский. Что и немудрено – тогда в этой части города жили рядом, собирались, сидели в одних салонах и кондитерских, спорили, дружили, ссорились необыкновенно талантливые люди: Пушкин, Гоголь, Глинка, Жуковский, Крылов, Тропинин, Вяземский, Одоевский и многие другие.
Впрочем, с началом 1840-х годов центр писательской жизни сместился к «литературному» дому у Аничкова моста, где жили В.Г. Белинский, И.С. Тургенев, И.И. Панаев и Д.И. Писарев. Сюда к Белинскому приходили Н.А. Некрасов, И.А. Гончаров, Ф.М. Достоевский, Л.Н. Толстой – в общем, вся русская классическая литература…
Разнообразная и интересная музыкальная жизнь Петербурга в 30—50-х годах XIX столетия также происходила на Невском и рядом с ним. Брюллов, с юности очарованный Италией, не пропускал концерты многочисленных итальянских гастролеров, особенно певцов. Кроме Зимнего и Мраморного дворцов, концерты, оперные спектакли, маскарады и балы проходили в Аничковом и Строгановском, а также в их садах, на летних эстрадах. Летом концерты часто устраивались за городом, особенно славился Павловский «воксал» возле Павловского парка. Своей утонченностью был известен музыкальный салон братьев Михаила и Матвея Виельгорских в доме на Михайловской площади, построенном для них Росси. Здесь концертировали самые великие музыканты того времени: Ф. Лист, Г. Берлиоз, Р. Шуман. На Невском были открыты многочисленные «музыкальные клобы» и концертные залы. Самым известным из них стал зал в доме приятеля Пушкина В.В. Энгельгардта, называемый в объявлениях «Старой филармонической залой супротив Казанского собора» (ныне Малый зал филармонии).
С 1830 года тут проводились грандиозные маскарады, на которых бывали и Николай I, и императрица Александра Федоровна, и двор. Позже здесь начались филармонические концерты, сюда стали приезжать знаменитости. На долгие годы Брюллов и его современники запомнили феерические выступления Ф. Листа. Как писал бывший на концерте 8 апреля 1842-го В.В. Стасов, Лист быстро протиснулся сквозь толпу, подошел к возвышавшейся в центре зала эстраде, на которой стояли два фортепьяно, вспрыгнул, минуя ступеньки, на эстраду, резко сорвал с рук белые перчатки, бросил их на пол, под рояль, «раскланялся на все четыре стороны при таком громе рукоплесканий, какого в Петербурге с самого 1703 года еще, наверное, не бывало, и сел. Мгновенно наступило в зале такое молчание, как будто все разом умерли, и Лист начал виолончельную фразу увертюры „Вильгельм Телль“ без единой ноты прелюдирования. Кончил свою увертюру, и пока зала тряслась от громовых рукоплесканий, он быстро перешел к другому фортепьяно и так менял рояль для каждой новой пьесы, являясь лицом то к одной, то к другой половине зала»…








