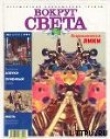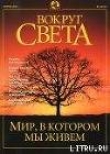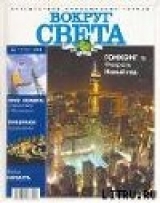
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №1 за 1999 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 8 страниц)
Зеленая планета: Где зимуют монархи?

С удивлением, граничащим с благоговением, наблюдаю, как миллионы и миллионы бабочек монархов плотными массами облепили ветки и стволы высоких деревьев, кружат, подобно осенним листьям, в воздухе, мириады их пылающим ковром покрывают землю горного массива в самом центре Мексики.
Судорожно хватая ртом разреженный воздух высокогорья, едва стоя на ногах, дрожащих после долгого подъема, я могу лишь повторять: «Наконец-то... Добрался...» Я долго ждал этого момента. Много часов головокружительного серпантина по отрогам Сьерра-Мадре, бесконечные, казалось, дороги двух штатов – и вот я в Мичоакане, на месте зимовки восточно-американской популяции бабочки монарх.
Каждый ребенок и всякий любитель загородных прогулок в Соединенных Штатах и соседних территориях Канады знает эту яркую красивую бабочку, если не по названию, то по внешнему виду.
Немного о нашем герое. Цикл жизни бабочки монарх —Danaus plexippus – начинает на изнанке листа млечных растений, куда самка откладывает яйцо с булавочную головку. Полосатая гусеница, которая появляется из него через несколько дней, немедленно приступает к трапезе и за две недели умножает свой исходный вес в 2700 раз. (Трехкилограммовый младенец, если бы поправлялся с такой скоростью, весил бы восемь тонн!)
Личинка пять раз за это время меняет свою оболочку. Последнее переодевание происходит, когда выросшая гусеница перестает есть и находит себе последний приют, например, на веточке дерева или подоконнике. Здесь личинка придет плотное шелковое покрывало, затем заворачивается в него, освободившись от последнего личиночного покрова, и превращается в куколку.
Этот хрупкий сине-зеленый кокон, усеянный золотыми крапинками, выдающими цвет рождающихся крыльев, постепенно становится все прозрачнее и примерно через две и недели в нем проявляются характерные черты бабочки. Затем по стенке куколки пробегает трещина, и на свет робко появляется взрослое насекомое. Оно встает, покачиваясь на тонких ножках, наливая тело жидкостью – и вот монарх, расправив мясистые крылья, поднимается ввысь.
Все лето он беззаботно порхает над лугами и садами от Техаса до Новой Англии, от Флориды до Миннесоты. Но зимой монарх исчезает. Куда?
До недавних пор этого никто не знал. Но здесь передо мной всего лишь на нескольких сотнях метров лесистого горною склона бессчетное количество бабочек в полудреме коротают долгие зимние месяцы...
Мириады бабочек монархов устилают землю сплошным черно-красным ковром.
Миграция монархов – образец необычного, загадочного поведения, давно сбивающего с толку исследователей. Эта бабочка известна своими сезонными путешествиями на большие расстояния, подобными перелетам птиц и связанными, видимо, с выведением потомства. Для монархов, как и для их пернатых коллег, миграция на юг имеет ясную и очевидную цель: избежать убийственных зимних холодов.
Монархи, улетающие на юг осенью, возвращаются, летом на родину, хотя известно, что они живут не больше года. Где эти бабочки (их восточный вид) проводят единственную зимовку в своей короткой жизни? На этот вопрос, поставленный одним из первых, ответ был найден одним из последних.
Фред Уркугарт. канадский зоолог из Торонто, которого здесь, в заповеднике монархов, все помнят, посвятил изучению мигрирующих бабочек значительную часть жизни – более тридцати лет.
– Сперва мы решили проследить за насекомыми, – вспоминает ученый в книге, посвященной своему поиску, – определить расстояния и маршруты их перелетов. Для этого необходимо было пометить их. Но как маркировать бабочку, это деликатное, хрупкое существо, абсолютно свободное в своем полете?

Потребовались долгие годы поисков, и после многих неудач удалось разработать способ «повесить на монарха ярлык». Сначала Фред с женой Норой начали экспериментировать с отпечатанной этикеткой, присоединявшейся к крылу бабочки с помощью жидкого клея. Но у бабочек, перемазанных клеем, слипались крылья, и многие насекомые просто не могли летать.
Затем они попробовали сделать ярлычки с клейкой поверхностью, подобно почтовым маркам. Испытания проводились на полуострове Монтерей, где зимуют западные монархи из горных долин Калифорнии. Этот эксперимент также закончился полным провалом: ночной дождь смыл этикетки с помеченных бабочек, и утром сотни их усеивали мокрую траву, словно новогоднее конфетти.
Тогда один из наших друзей предложил использовать липкую пленку, типа той, с помощью которой приклеивают ценники на витринном стекле в магазинах. С некоторой доработкой она вполне хорошо выполняла свою роль. Теперь у нас была этикетка, которую можно было достаточно просто, мягким нажатием накренить на тонкой мембране крыла бабочки. Безвредные ярлычки не отставали от крыла монарха даже под проливным дождем...
Следующим шагом ученого была статья для одного журнала, в которой он обратился к добровольцам с просьбой помочь программе маркировки. Первыми откликнулись на призыв двенадцать человек, положив начало Ассоциации по изучению миграции бабочек. Вскоре она насчитывала уже шестьсот членов, а за последние 24 года в программе приняли участие тысячи. На крошечных ярлычках были нанесены опознавательные буквы и цифры, а также слова: «Посылать в Канаду, в Зоологический университет Торонто». За эти годы сотни тысяч мигрирующих монархов были помечены по всему континенту. Данные приходили от помощников всех возрастов и профессий из штата Мэн и Онтарио, из Калифорнии и Мексики, из Флориды и с берегов Великих Озер.
Многих помеченных, монархов присылали прямо живыми, в бандеролях с цветочными лепестками для их питания в пути.
– Однажды на мяч одного любителя гольфа из Калифорнии в последний момент перед ударом села помеченная бабочка, – с юмором рассказывает энтомолог. – Его любовь к науке была столь велика, что он прислал нам свой мяч с ее останками...
Шли годы, и знания о монархах прибавлялись, как вода в половодье. Специалисты узнали, например, что почти все самцы умирают в пути на север, возвращаясь с зимовки. Также было обнаружено, что эти насекомые не летают ночью. Одна помеченная бабочка – пойманная, выпущенная и снова пойманная – пролетела 120 километров за один день.
– В течение лета в Онтарио мы находили не только здоровых, нормального внешнего вида монархов, но и насекомых, которые были отчасти, а некоторые и очень сильно, потрепаны, очевидно, во время длительных перелетов. Этот факт позволил предположить, что здесь перемещались различные группы насекомых. Наиболее поврежденные, вероятно, прилетели с юга, а те, что выглядят посвежее, вывелись где-нибудь значительно ближе, на том же северном маршруте миграции. Но куда, куда летают зимовать монархи?!
Ответа пока что не было.
– Уркугарту потребовалось лет тридцать, чтобы найти ответ на такой, казалось бы, несложный вопрос, – рассказывает мне Марселино Санчес, мой проводник. Он родом из племени уичолей, ему двадцать лет, и у него уже большая семья. Зимой Марселино учится в колледже, а летом подрабатывает в заповеднике гидом. Несмотря на надежды ученого, поиски во Флориде и вдоль восточного побережья США не принесли результатов, места зимовки монархов не были обнаружены. По мере накопления информации он наносил возможные маршруты бабочек на большую настенную карту. Постепенно вырисовывалась следующая картина: траектория их полетов вытягивалась с северо-востока на юго-запад через Соединенные Штаты. Большинство бабочек, казалось, пересекали Техас и скрывались где-то в Мексике. Но где?
Однажды, уже отчаявшись, супруги поместили в мексиканских газетах сообщение о своем проекте и вновь обратились с призывом к добровольным помощникам сообщать о найденных меченых бабочках.
В ответ пришло письмо от Кеннета Браггера, жителя Мехико: «Я с интересом прочитал в газете, – писал он, – вашу статью о бабочках монархах. Мне кажется, я могу помочь нам...»
– Именно Кен Браггер дал им ключ, который, в конце концов, открыл тайну, – сообщил мне Марселино, – Кен сообщил им, что встретил именно здесь, в Сьерра-Мадре, огромное количество бабочек, кружащих вокруг определенных мест.
События приближались к развязке. Вечером 9 января 1975 года Кен Браггср позвонил ученому из Мексики. «Мы обнаружили их колонию! – произнес он, не в состоянии унять дрожь в голосе. – Мы нашли их. Миллионы монархов в вечнозеленых зарослях на склоне горы. Местные лесорубы увидели роение бабочек и помогли выйти к этому месту».
И нот Уркугарт с женой, оставив машину, как и я сегодня, на перевале, пошли пешком к «горе бабочек».
Профессор был уже не молод. На высоте дне с половиной тысячи метров их сердца бешено колотились и ноги налились свинцом.
С вершины, заросшей можжевельником и остролистом, на листьях которых блестел иней, они начали спускаться но крутому склону. Через некоторое время по тому же маршруту, что и я, добрались до поляны, окруженной величественными пихтами.
И увидели их. Мириады бабочек – везде!
Ажурными гирляндами они украшали ветки деревьев, облепили стволы, их слегка подрагивающие легионы усеивали землю. Другие – те, которые, уже чувствуя приближение весны, неосознанно готовились к путешествию на север, – заполнили воздух своими крыльями, пронизанными солнечными лучами, мерцали в синем горном небе и застилали горизонт вьюжными оранжево-черными хлопьями.
– Попробуй прикинуть количество деревьев, Марселино.
Они уже сосчитаны. Их не меньше тысячи, и каждое в плотном наряде из бабочек!
Пока я разглядывал удивительное; зрелище, одна из веток, толщиной сантиметров в пять, сломалась под бременем дремлющих насекомых и упала на землю, рассыпав по ней свой живой груз. Я наклонился, чтобы рассмотреть упавших монархов. Среди них оказалась одна пара с белой меткой! Значит, кто-то метит бабочек и сегодня?
– Исследования продолжаются. Хоть и найдено место зимовки, у монархов остается множество неразгаданных тайн и главная из них – как они находят дорогу? – сообщил мне Марселино, бережно подсаживая бабочку на ветку.
Ученые предположили, что, возможно, монархи собираются в двух или трех, а может быть, даже четырех местах для зимовки, и все они располагаются в пределах ограниченной области в том же районе.
Известно, что монархи откладывают яйца только на растениях, выделяющих млечный сок. А поскольку более половины из сотни видов подобных растений Северной Америки произрастают в Мексике, невольно напрашивается вопрос: а не может ли быть так, что в далеком прошлом монархи и рождались в Мексике? Теперь, прилетая туда каждую зиму, бабочка «возвращается домой» после скитаний, уводивших ее во времена глобальных потеплении все далее и далее на север...

Во всяком случае, энтомологи убеждены, что выбор монархами Сьерра-Мадре для зимовки совеем не случаен. Бабочки – существа холоднокровные, то есть уравнивают температуру своего тела с температурой окружающего воздуха. Здесь на высоте трех тысяч метров, температура зимой колеблется вокруг точки замерзания.
Идеальные условия для монарха! Обездвиженные холодом, они почти не сжигают ни грамма из запасенного жира, который им пригодится в полете на север.
– Но мы так и не ответили на один из существенных вопросов, Марселино.
– Увы, как и в случае с перелетными птицами, остается зияющий провал в наших знаниях о миграции монархов: как такое хрупкое, похожее на носимое ветром живое конфетти, существо находит правильный путь (только один раз в жизни!) через прерии и пустыни, горные долины и города, безошибочно направляясь к этому дальнему пункту Мексики. Какой инстинкт его ведет? Есть одна гипотеза... Но об этом рано еще говорить.
– И все же, Марселино!
– Дело в том, что эта гора, где «гнездятся» монархи, – огромный серебряный рудник. А на крыльях бабочек обнаружены мельчайшие частички серебра. Так вот, ученые здесь, и заповеднике, сейчас прорабатывают версию о том, что монархи летят туда и обратно как бы по серебряному компасу. Ну и, конечно, руководствуясь магнитными полями Земли...
Мы добрались до самой главной поляны, сплошь усеянной бабочками. Казалось, они закрыли все хвойные деревья и почву вокруг – сплошной копошащийся оранжево-черны и ковер.
– Видишь, как они оживились? – обратил Марселино мое внимание на беспокойно порхающих бабочек. – Эти хаотические полеты говорят о том, что приближается час, когда наконец про звучит неизвестный нам сигнал, возможно, луч света восходящего солнца сверкнет под определенным углом и запустит механизм, который направит их в дальний полет на север.
Может быть, через несколько месяцев одна из этих красивых бабочек, которая у нас на глазах потягивает нектар из цветка в этой лесистой горной местности, повинуясь неведомому зову предков, преодолеет три с половиной тысячи километров и опустится на луг где-нибудь в Онтарио, чтобы отложить свое яйцо. И другой, уже молодой монарх отправится в свое невероятное странствие в далекую горную страну Сьерра-Мадре.
Николай Непомнящий
Всемирное наследие: «Николи не было, николи не будет...»

Казалось, она выросла прямо из воды. Еще и остров трудно было разглядеть среди синевы озера, а ее устремленный в небо силуэт уже выплыл из бело-туманной дали. Он становился все четче, наливался плотным серым цветом, и вот от многоглавой церкви отделилась свеча колокольни, а за ней открылась вторая церковь – пониже, но тоже со многими главами-луковками...
И потом, с какой бы стороны я ни подплывала к острову, первым был виден ансамбль Кижского погоста.
Плотник думает топором
Остров Кижи лежит к средней части Онежского озера. Час с небольшим на «комета» от Петрозаводска – и по деревянным мосткам, проложенным прямо – от пристани, спешу к церковной ограде, чтобы взглянуть на :эти храмы вблизи.
В давние времена жившие в этих местах финноугорские племена устраивали на острове языческие игрища – «кижат» (оттого, верно, местные и сегодня говорят «Кижи»). Но и позже, когда в эти земли пришли православные новгородцы, остров продолжал играть роль духовного центра. Сюда на лодках-кижанкнх съезжались люди с соседних островов – на православные праздники, на крестьянские сходы-суемы, на оглашение царских указов. Это были многолюдные сборища: десятки близлежащих деревень были приписаны к Кижскому погосту.
Впрочем, и сейчас я иду в густой толпе приезжих, сошедших с теплохода. Они прибыли, чтобы взглянуть на памятники деревянного зодчества, собранные на заповедном острове, и главный из них – ансамбль Кижского погоста, внесенный в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. Это – Преображенская церковь, Покровская церковь и колокольня.
... Вот они – передо мной, взятые в кольцо ограды из камня и дерева. Сначала видишь только бревенчатые стены теплого коричневого цвета и серебристые главки, вырастающие одна из другой, поднимающиеся все выше, выше... Словно мощный хор голосов, устремленный в поднебесье. Я слышу его, и душа звенит от этой музыки, растворяющейся и высоких облаках...
Когда первое волнение проходит, пытаешься понять: как же построено такое? «Плотник думает топором», – говорят поморы. Но как уловить порядок его мыслей и действий? Скажу честно, с первого раза мне это не очень-то удалось. Только когда на помощь пришла Виола Анатольевна Гущина, старший научный сотрудник музея-заповедника «Кижи», и «расчленила» у меня па глазах всю Преображенскую церковь, я поняла, что к чему.
Мы стояли в десяти метрах от стел церкви.
– Для начала запомните несколько терминов, – предупредила Виола Анатольевна. – Без них не обойтись! Итак, восьмерик – восьмигранный бревенчатый сруб; прируб – дополнительный сруб, связанный с основным, и бочка – килевидная в разрезе кровля. Ну а слово «глава», «главка» – знают все. Теперь смотрите...
Я внимательно слежу за ее рукой и вижу: три восьмерика, один другого меньше, поставлены друг на друга. К нижнему – по сторонам света – пристроены четыре двухступенчатых прируба. Их ступени завершают бочки, на них стоят главы. Это уже два яруса глав. Третий ярус глав, тоже поставленных на бочки, венчает основной восьмерик со всех восьми сторон...
– А за основным восьмериком, – продолжаю я, – идет, как вы говорили, второй поменьше и тоже с бочками и главами... Так?
– Да, а там и третий восьмерик с центральной мощной главой, поставленной на барабан. И всего в Преображенской церкви 22 главы при высоте 37 метров.
– Поразительно. Вроде такое монументальное сооружение, а совсем не давит, возле него чувствуешь себя легко и просто, – замечаю я.
– Ну прежде всего потому, что церковь сложена из бревен, а бревно, дерево по масштабу соразмерно человеку. К тому же зодчие применили массу приемов, чтобы зрительно облегчить объем церкви, лишить ее скучной монотонности.
– Какие же именно?
– Вот, к примеру, мы с вами насчитали пять ярусов глав, – терпеливо продолжает Гущина. – Но присмотритесь: главы-то все разные! Самые большие в третьем ярусе, чуть поменьше – в первом, а самые маленькие – в четвертом. Да и главы трех нижних ярусов на одну треть «вдвинуты» в бочки. Что это, по-вашему, дает?
Приглядываюсь: купола как бы прижаты к телу церкви, и от этого ее силуэт становится более цельным, пирамидальным. А их разновеликостъ словно рождает музыку... И финальный аккорд – главный купол. Да, каскад куполов Преображенской церкви поет. И играет с солнечными лучами...
Стены церкви сложены из сосновых бревен; плотники обходились топором, хотя, конечно, знали пилу, – просто бревно, обработанное топором, лучше сохраняется в сыром климате. А главки покрывали лемехом – маленькими дощечками, вытесанными, тоже топором, из осины. Именно осины – дерева легкого, пластичного, разбухающего от дождя и не пропускающего влагу. Несколько десятков тысяч таких лемешинок надо было вытесать вручную для куполов Преображенской церкви! Осина легко меняет свой цвет: при солнце – лемех серебристый, в пасмурные дни – стальной, а на закате – розоватый... Потому церковь каждый раз выглядит по-новому.
И лемех, и бревна, рубленные топором, и конструктивные элементы храма – восьмерик, прируб, бочка, главка – все это традиционно для русской деревянной архитектуры и, конечно, было хорошо известно мастерам, возводившим храм. Но здесь все приемы доведены до совершенства... Кто же строил Преображенскую церковь? Снова обращаюсь к Виоле Анатольевне – она историк, уж сколько лет копает архивы.
– А сие до сих пор неизвестно, – ответ прозвучал просто. – Известно лишь, что церковь была освящена в 1714 году, видимо, незадолго до этого и построена. Не исключено, что ее строила та же плотницкая артель, которая перед этим возводила многоглавую Покровскую церковь в селе Анхимово под Вытегрой. Ее мы потеряли уже в наше время, в начале 60-х, сгорела из-за преступной небрежности... С этой церковью связаны две фамилии – Невзоров и Буняк, но от предположения, что это были строители, пришлось отказаться: в архивах говорится о них как о жертвователях. Так что остается только легенда...
Я уже слышала о мастере, который в одиночку построил Преображенскую церковь. Окончив работу, он вышел на берег озера, полюбовался своим творением и закинул топор в Онего со словами: «Построил эту церковь мастер Нестор. Николи не было, николи не будет».
Красивая легенда. Начнешь ее уточнять (как это не было? один построил?) – и все посыплется... Пусть живет, нетронутая.
Сыщется ли новый Нестор?
Как только я высказала вслух эту крамольную для историка мысль, что-то словно толкнуло меня: говорю о легенде, а думаю, кажется, о реставрации...
Уже 18 лет Преображенская церковь стоит закрытой. С того самого времени, когда – для укрепления храма – внутрь его поставили металлический каркас, сняв полы, «небо», иконостас...
Конечно, дерево не вечно. Еще во второй половине XIX века осуществили «благолепное поновление» храма, закрыв стены тесовой обшивкой; это был своего рода каркас, державший срубы, и в то же время церковь приобрела вид, соответствующий вкусам того времени. Скучный, надо сказать, вид.
И потому, естественно, когда в конце 40-х, в 50-х годах развернулись масштабные реставрационные работы (ими руководил известный архитектор Александр Викторович Ополовников), первым делом была снята тесовая обшивка; кровельное железо, которым были покрыты главки, вновь заменили на лемех. Церковь приняла прежний вид, но вопрос инженерного укрепления памятника решен не был. И процесс разрушения продолжался.
Тогда-то, после многолетних дебатов, в которых принимал участие десяток институтов, и был осуществлен проект, в результате которого церковь оказалась для людей закрытой. Мощные металлические скобы легли и на внешнюю сторону стен, сильно испортив их бревенчатый рисунок.
..Александр Любимцев, главный хранитель памятников, своим ключом открывает замок на дверях церкви. Саша (он очень молод и не против, когда я называю его только по имени) идет в церковь, чтобы проверить, все ли в порядке. Я – с ним. Пока мы стоим на крыльце и Саша рассказывает, как он хранит снятые во время последних работ доски пола и бересту, что лежала за «небом» как гидроизоляция, к храму подкатил на велосипеде человек в штормовке. Знакомимся. Это – Валерий Александрович Козлов из Института леса Карельского научного центра РАН. Вот уже пять лет специалисты института работают над программой «Мониторинг биоразрушений Преображенской церкви».
Со скрипом открывается дверь церкви. Когда глаза привыкают к полумраку, замечаешь, что все пространство храма заполнено металлическими конструкциями, на которых лежат деревянные настилы. Они этажами уходят вверх. Валерий Александрович спускается в подклет, к приборам, а мы с Сашей по узким деревянным лесенкам поднимаемся с этажа на этаж, надеясь добраться до самой верхней главки и через «окошко» глянуть окрест. Саша светит фонариком, протягивает руку: «Осторожно!», «Пригните голову», «Перешагивайте...» Смотрю вниз – колодец по бокам лесенки становится все глубже... Остался последний пролет. Надо пройти покатым краем колодца. Без перил. Ноги дрожат.
– Саша, извини...
Но как на такой высоте работали люди? Клали бревна, работали долотом, теслом, коловоротом... Когда, уже в наше время, устанавливали на церкви молниезащиту, приглашали альпинистов...
Спустившись с высоты в подклет, вижу, как кое-где металлические стяги глубоко врезаются в древесину. Специалисты говорят: дерево весьма долговечно, только тревожить его не надо. Действительно, этим бревнам, наверно, уже полтыщи лет: брали кондовые сосны, лет по двести им было, да стоят уже почти триста. Но когда в 50-х годах сняли обшивку, состояние древесины ухудшилось. И когда стали злоупотреблять химией, чтобы убить древесные грибы, древесина сильно пострадала... В общем, заповедь «Не навреди!» относится не только к врачам.
... Приборы Козлова – маленькие коробочки, прикрепленные к бревнам, измеряют влажность дерева, температуру и влажность воздуха. Валерий Александрович фонариком водит по экрану прибора.
– Видите? 17,8 процента. Эта влажность древесины вполне допустима. А вот если больше 20, надо бить тревогу... Постоянно анализируем все данные, чтобы уловить изменения, предсказать развитие грибов. В этом смысле состояние Преображенской церкви на сегодняшний день удовлетворительное. Но древоточцы работают...
Козлов стучит по дереву – звук пустоты, сыплется тонкая пыль. А рядом – бревно почти двадцатиметровой длины с гладким, словно шелковым, затесом отвечает плотным глухим звуком...
Древесину Преображенской церкви обследовали на плотность не один раз. Ученые из Ленинградской лесотехнической академии составляли атлас разрушений. А однажды – было это в 1987 году – даже приглашали специалистов, чтобы проверить ее состояние методом Кошкарова: с близкого расстояния стреляли из мелкокалиберной винтовки и щупом определяли глубину проникновения пули, потом вычисляли прочность всей конструкции. Были, конечно, и более поздние обследования. И вывод большинства специалистов такой: древесина еще может себя нести, однако помочь ей надо.
Но как помочь?
И тут, как в недалеком прошлом, – веер мнений и проектов. Одни предлагают перебрать церковь целиком, раскатать по бревнышку и собрать вновь. В этом предложении очень много «но», и одно из главных – памятник перестанет быть памятником. Когда в нем заменено 30 процентов, он уже не считается таковым. Сейчас Преображенская церковь почти подлинная, ее не касалась рука переборщика...
Другие говорят: надо использовать уже стоящий металлический каркас для реставрации, меняя постепенно, по ярусам, отжившее. И убрать его, а там видно будет – может, ничего больше и не понадобится.
Когда Дмитрий Дмитриевич Луговой, директор музея-заповедника «Кижи», рассказывал мне об этой борьбе мнений и для понятности рисовал в моем блокноте схему Преображенской церкви, я думала, что в сегодняшней жизни не хватает нового Нестора, который сумел бы сохранить эту церковь на века, опираясь, на те же принципы, что и мастер из легенды, когда строил ее: польза, прочность, красота.
И словно уловив мою мысль, Луговой сказал:
– Очень интересен и реален проект реставрации храма Юрия Владимировича Пискунова, профессора из города Кирова. Этот проект включает одновременно укрепление всего сооружения – за счет пристенных деревянных конструкций и специальных домкратов между восьмериками – и восстановление внутреннего облика церкви. Металлический каркас будет удален, работы будут вестись поэтапно, без ущерба для памятника. Еще в 1995 году проект Пискунова рассматривали специалисты из Министерства культуры России и ЮНЕСКО, и он получил одобрение…
Уже в Москве, через несколько месяцев после поездки в Кижи, я узнала, что концепция и эскизный проект Ю. Пискунова прошли экспертизу Министерства культуры РФ. Дело, похоже, сдвинулось...
Живая церковь
В двух шагах от Преображенской церкви стоит церковь Покровская. Первая – летняя, холодная; вторая – зимняя, теплая. Так обычно строили на Севере: две церкви рядом; жизнь подсказывала необходимость такого соседства. И сели летняя церковь строилась обычно выше, наряднее (не надо было думать о сохранении тепла), то зимняя, где шли службы с октября по май, бывала меньше и проще.
Но строить рядом с красавицей Преображенской... Очень трудная задача стояла перед зодчими XVIII века. И они ее решили, создав некое архитектурное эхо, то есть, с одной стороны, – повторив принцип устремленности вверх, а с другой, – подчинив зимнюю церковь летней и дополнив последнюю.
... В первое июльское нос воскресенье отмечался День всех святых Псковско-Печорской земли. Я пришла задолго до утренней службы, на которую пригласил меня отец Николай. Обошла, не торопясь, церковь, рассматривая ее. Здесь, в отличие от Преображенской, разобраться самой было нетрудно.
Изба с высоким крыльцом и восьмигранная башня. Архитекторы бы сказали: «восьмерик на четверике». Восьмерик завершался повалом (так называют верхнюю расширяющуюся часть сруба) и девятью главами. А где же десятая? Да вот же – ниже, словно прильнула к стене, отметив снаружи место алтаря. Украшена церковь очень скупо: повал да зубчатый узор, опоясывающий восьмерик. Впрочем, и эта красота вполне целесообразна: и повал, и пояс защищают постройку от дождя.
Разглядывая Покровскую церковь, замечаю, что ее главки достигают одного уровня с третьим ярусом глав Преображенской церкви. Вот почему, если смотреть издали, подплывая к острову, они сливаются в единое многоглавие...
В десять утра двери Покровской церкви открылись, и вместе с немногими прихожанами я вошла внутрь. И сразу поняла: всю свою фантазию и мастерство северные зодчие – вкладывали в создание внешнего облика церкви. Потому как храм – это храм, и им должна любоваться вся округа! Внутри же эта зимняя церковь напоминала просторную, чистую избу. Сначала прохожу в сени, потом в трапезную, затем в само церковное помещение с иконостасом и царскими вратами, за которыми скрыт алтарь. Стены, сложенные из сосновых бревен, золотисто мерцают, источают тепло и свежесть. Когда-то в трапезной крестьяне собирались на свои сходы-суемы, позже здесь проходили занятия церковноприходских школ.
Сейчас и трапезной открыта выставка «Живопись древней Карелии». «Северные письма» XVI – XVIII веков... Иконы немногословны, сдержаны. Но разглядывая их, я, кажется, узнаю в библейских персонажах людей, которые жили в северных краях несколько веков назад. Вижу их кряжистые фигуры, угловатые движения; вижу, как они рубят лес, обрабатывают мотыгами землю, плавают на утлых лодейцах... Эти сцепы крестьянской и монастырской жизни изображены на клеймах иконы «Зосима и Савватий Соловецкие в житии», находившейся в иконостасе Преображенской церкви. Есть на выставке и другие иконы из этого иконостаса.
Хочется думать, что в скором времени эти замоленные иконы займут место там, где им положено быть. Хорошо, когда церковь – это не только музейный объект, а живет тем, для чего предназначена, и в ее стенах звучат слова, подобные этим: «Святой человек – это тот, на котором лежит отблеск божественной благодати, с которым людям легко жить, ибо он помышляет не только о себе, но и о своих близких, о других людях...»
Отец Николай говорит о святых Псковско-Печорской земли. Но, думается, не только о них.
С площадки звона
Кижский ансамбль – триедин. В русских сказках, былинах, обрядах часто встречается число «три». Так что, создавая ансамбль Кижского погоста, зодчие не отошли от народных традиций и верований.
Старая колокольня, к сожалению, не сохранилась. Но как выглядела она, специалисты знают в книге «Путешествие по озерам Ладожскому и Онежскому» известного исследователя Севера академика Н. Озерецковского, который побывал в Кижах в 1785 году, есть гравюра с видом Кижского ансамбля. Это первое из дошедших до нас его изображений.
Ныне существующая колокольня была построена во второй половине прошлого столетия. Прошел век, всего лишь век, но традиционной осталась лишь композиция колокольни: четверик, на нем – восьмерик, завершающийся шатром с главкой-луковкой. Однако если в старой колокольне восьмерик был подобен мощному столпу, то в повой – он укорочен, зато гораздо выше становится геометрически правильный скучный четверик. К тому же вся колокольня обшита тесом, фактуры бревен не видно, она не играет, не радует глаз... Совершенно очевидно желание строителей уподобить колокольню каменной, городской.
... По крутой деревянной лестнице поднимаемся с тем же Сашей Любимцевым в звонницу. На площадке звона, под самым шатром, висят, раскачиваемые ветерком с озера, колокола. Я прошу Сашу чуть-чуть «сыграть под звонаря», чтобы сделать кадр. Но Саша, посмотрев на меня укоризненно, молча отошел к перилам звонницы. И эта молчаливая укоризна сказала мне, как мною значил когда-то для людей верующих и значит сегодня для возвращающихся к вере голос кижских колоколов, который снова звучит в поднебесье.