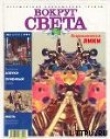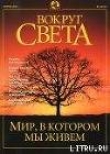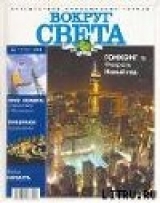
Текст книги "Журнал "Вокруг Света" №1 за 1999 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Pro et contra: Геральдический альбом
Эмблемы страны Колумба
На протяжении трех веков территория современной Колумбии входила в состав испанского вице-королевства Новая Гранада. Собственно Колумбия (включая Панаму) имела статус административной единицы вице-королевства-аудиенсии Санта-Фе, делившейся в свою очередь на провинции, число которых к 1810 году достигло двух десятков.
В июле 1810 года в столице вице-королевства Боготе вспыхнуло восстание против испанского владычества. Созданная восставшими правительственная хунта, реально контролировавшая лишь провинцию Кундинамарка, приняла флаг из желтой и красной горизонтальных полос. Хотя флаг сохранял испанские цвета (а хунта номинально признавала сохранение верховной власти испанского короля), полосы флага были расположены иначе, чем на флаге Испанского королевства. В начале 1812 года был принят герб Кундинамарки. На нем индеанка с луком и стрелами символизировала южноамериканскую независимость. Она была изображена сидящей рядом с кайманом и наполненным тропическими плодами рогом изобилия на берегу моря, освещенного восходящим солнцем свободы. Герб в основном повторял рисунок герба морского флага возникшей к тому времени первой Венесуэльской республики.
В 1813 году была провозглашена полная независимость Кундинамарки от Испании, и на ее флаг была добавлена верхняя голубая полоса, а несколько месяцев спустя был принят и новый герб, который поместили на белом диске в центре государственного флага. Новый герб представлял собой измененный вариант существовавшего еще с 1548 года городского герба Боготы. Но если на гербе Боготы коронованный орел на желтом щите держал в лапах два граната, а еще 9 гранатов изображались на окружавшей щит синей кайме (гранаты символизировали название страны – Новая Гранада), то на гербе Кундинамарки орла заменил местный символ – андский кондор, причем с саблей и одним гранатом в лапах. Кондор был увенчан фригийским колпаком свободы, окружен разорванными цепями и испанской надписью «Свободное и независимое правительство Кундинамарки».
Тем временем национально-освободительная борьба охватила и другие провинции. Возникли государство Картахена, республика Тунха, государство Антиокия и другие. Фактически все провинции (кроме Панамы и Риоача, оставшихся в руках испанцев) стали самостоятельными. Восемь городов долины реки Каука объединились в «Конфедерацию городов Кауки». Естественно, что у многих новоявленных государственных образований возникли и собственные флаги. Например, флагом Картахены с 1811 года стало зеленое поле с белой восьмиконечной звездой, окруженное желтой и красной каймами. К концу 1811 года провинции Картахена, Тунха, Антиокия, Памплона и Нейва (к которым впоследствии присоединились и другие провинции, кроме Кундинамарки) объединились в Конфедерацию Соединенных Провинций Новой Гранады под флагом Картахены.
В 1814 году был принят герб Соединенных Провинций, представлявший собой увенчанную фригийским колпаком стрелу и две руки в рукопожатии, окруженные двумя рогами изобилия и латинской надписью «Новогранадская Республика. Объединяем силы. Союз, достигнутый после освобождения.» В конце 1814 года после двухлетней гражданской войны к Соединенным Провинциям Новой Гранады была присоединена и Кундинамарка, а год спустя были приняты новые флаг и герб Соединенных Провинций.
Флаг состоял из желтой, зеленой и красной горизонтальных полос, повторявших основные цвета предыдущего флага. В центре герба на фоне скрещенных лука, колчана и стрелы был помещен пятичастный щит, где изображались: гранат, заснеженная гора рядом с дымящимся вулканом, сидящий кондор, водопад и Панамский перешеек с двумя парусниками в океане. Щит окружали венок из ветвей граната с шестью плодами и кайма флага с наименованием государства на испанском языке.
В 1819 году Новая Гранада объединилась с Венесуэлой в Республику Великая Колумбия. Ее флагом стал венесуэльский флаг из желтой (двойной ширины), синей и красной горизонтальных полос. Одновременно был принят новый герб. На нем вновь изображались индеанка с луком и колчаном со стрелами, сидящая рядом с крокодилом у моря с восходящим солнцем. По сравнению с гербом 1812 года исчез рог изобилия, зато появились фригийский колпак на шесте, парусник в море и три звезды над солнцем (символ будущего единства Новой Гранады и Венесуэлы с Эквадором). Щит окружали два национальных флага, два копья, венок и увенчивали надпись «Колумбия» руки в рукопожатии, окруженные еще одним венком.
Через два года был принят новый герб. Он повторял центральные элементы герба Кундинамарки 1813 года: кондора с саблей и гранатом, но под ним на фигурном щите были изображены глобус и 10 звезд. Щит увенчивали лавровый венок и латинский девиз «Живи и побеждай, любимая Родина» и окружала орденская лента с орденом Освободителя. Одновременно Новая Гранада в составе Великой Колумбии приняла собственный герб: ликторский пучок свободы, соединенный с луком и стрелами и окруженный рогами изобилия.
В 1822 году, после присоединения к Великой Колумбии Эквадора, на флаге Великой Колумбии, в верхнем углу у древка появились три белых (иногда синих, чаще пятиконечных, но иногда -шестиконечных) звезды, а герб вновь стал совершенно новым. На щите цветов флага изображались дикий конь и сломанный скипетр – символы свободы и свержения испанского господства, а также три звезды (иногда их было 7,10 или 12). Щит увенчивал кондор с распростертыми крыльями, а поддерживали Геркулес и богиня плодородия. В нижней части герба были изображены два фонтана с надписями «Ориноко» и «Магдалена», представлявшие крупнейшие реки страны, и латинский девиз «Быть свободным или умереть».
В 1830 году после выхода из состава Великой Колумбии Венесуэлы и Эквадора Новая Гранада стала отдельной республикой. Флаг остался прежним, но с него в 1831 году исчезли звезды. Местный герб 1821 года сохранился, но в 1831 году между рогов изобилия вместо ликторского пучка, лука и стрел стал изображаться гранат.
В 1834 году были приняты новые флаг и герб Новой Гранады. Флаг состоял из красной, синей и желтой равных вертикальных полос с гербом в центре. Гербовый щит приобрел современный вид, его увенчивал летящий кондор, держащий в клюве лавровый венок, перевитый лентой с испанским девизом «Свобода и порядок». Гербовый щит окружали государственный флаг и торговый, отличавшийся от государственного восьмиконечной белой звездой в центре вместо герба.
В апреле 1854 года в результате восстания к власти пришел генерал Мело, выражавший интересы ремесленников и среднего офицерства. Он существенно изменил герб. Со щита исчез фригийский колпак, за щитом изображались 3 национальных знамени безо всяких эмблем и кондор в профиль, увенчанный пятиконечной звездой и сидящий на ликторском пучке. Пучок перевит лентой с видоизмененным девизом, написанным теперь по латыни и звучавшим «Из порядка – свобода». В таком виде герб стал изображаться и на прежнем флаге. Семь месяцев спустя, после свержения Мело, был принят новый герб. Но не прошло и месяца, как герб и флаг 1834 года были восстановлены в первоначальном виде.
Государственная символика не изменилась со сменой в 1858 году государственного устройства и названия страны, получившей имя «Гранадская конфедерация». В 1861 году страна была провозглашена Соединенными Штатами Колумбии. С июля того же года на флаге вместо герба появились 9 белых пятиконечных звезд, расположенных в форме полукруга, в соответствии с тогдашним числом административно-территориальных единиц. Но уже в конце ноября звезды исчезли, а полосы стали изображаться горизонтально (желтая в два раза шире остальных), и, таким образом, флаг приобрел современный вид, безо всяких эмблем.
В это же время был принят новый герб. Он отличался от герба 1834 года тем, что увенчивавший щит кондор с венком и девизом теперь не летел, а сидел и был изображен в профиль; щит окружали две пары государственных и торговых флагов, а рисунок помещался на овале, обрамленном каймой с 9 звездами и названием государства.
В 1886 году страна стала унитарным государством и получила современное название «Республика Колумбия». С герба исчезли овал с каймой, надписью и звездами; окружающие щит две пары флагов не имеют эмблем, а сидящий кондор стал изображаться в фас. В 1924, 1934, 1949, 1955 и 1961 годах менялись пропорции и размеры гербового щита. Кроме того, в 1949 году изменились и приобрели современный вид поза кондора, расположение и форма венка, ленты с девизом и флаги, обрамляющие гербовый щит.
Символика флага такова. Первоначально желтая полоса символизировала Колумбию, ее народ и богатство страны, красная – Испанию, а синяя – разделяющий их Атлантический океан. Ныне желтый цвет интерпретируется как символ независимости, синий – доблести, верности и благородства, а красный обозначает кровь патриотов, пролитую в борьбе за свободу, и готовность колумбийского народа к самопожертвованию для защиты независимости. Флаг отличается от национального флага Эквадора только пропорциями (эквадорский флаг длиннее).
На гербе Колумбии плод граната напоминает о прежнем названии страны и ее истории. Один рог изобилия, наполненный тропическими плодами, символизирует природные богатства Колумбии, а другой, с золотыми монетами – ее минеральные ресурсы: изумруды (90% мировой добычи), нефть, золото, платину, каменный уголь, железную руду. Фригийский колпак обозначает свободу. Пейзаж в нижней части герба, представляющий Панамский перешеек с омывающими его Тихим океаном и Карибским морем и плывущими парусниками, напоминает об открытии страны европейцами и о тех временах, когда в состав Колумбии (до 1903 года) входила территория современной Панамской республики. Андский кондор олицетворяет независимость и могущество страны, а лавровый венок – честь и славу. Девиз на испанском языке означает «Свобода и порядок». Провинции Колумбии имеют собственные флаги.
Две стороны одного флага
1806 году добровольцы из провинции Парагвай, являвшейся тогда, как и большая часть Латинской Америки, испанским владением, приняли участие в защите Буэнос-Айреса – столицы вице-королевства Рио-де-Ла-Плата, в состав которого входил и Парагвай, – от нападения англичан. Знамена парагвайцев были бело-сине-красные. В 1810 году парагвайцы отразили попытки освободившегося к тому времени от испанского владычества Буэнос-Айреса подчинить их себе, а на следующий год сами восстали против испанского господства, Эмблемой патриотов стала так называемая «майская звезда», в память о звезде, сиявшей в небе над столицей Парагвая Асунсьоном в момент освободительного переворота – в ночь с 14 на 15 мая 1811 года. Она и была помещена в крыже синего флага сторонников независимости. Сначала звезда имела то пять, то шесть концов и была, как правило, белого цвета.
В 1812 году, когда Парагвай добился фактической независимости, его флаг стал состоять из красной, белой и синей горизонтальных полос с изображением королевского герба Испании с одной стороны и городского герба Асунсьона – с другой. С 1813 года, когда были окончательно прерваны связи с Испанией и провозглашена республика, флаг стал изображаться без гербов.
Выбор для флага этих цветов объяснялся не только памятью о боях 1806 года, когда парагвайцы впервые выступили под собственными символами, но и влиянием идей Великой французской революции, приверженцами которой были многие руководители освободительного движения, в том числе первый и многолетний президент Парагвая Хосе Гаспар Франсиа. Считается, что красный цвет символизирует равенство, справедливость, патриотизм, героизм и храбрость, белый – единство, непорочность идеалов, чистоту, стойкость и мир, синий – свободу, любовь, кротость, проницательность и реализм.
В середине XIX века, когда Парагвай непрерывно потрясали перевороты и неудачные войны с соседями, в стране, согласно некоторым источникам, появлялись и другие флаги – сначала из синей и желтой, а потом из двух белых и двух синих горизонтальных полос, но время их существования было непродолжительным, а официальный статус – неясен.
С 1812 года употреблялись и различные варианты государственного герба Парагвая, центральным элементом которого была пяти-или шестиконечная звезда, чаще всего на фоне синего щита. Современный государственный герб официально принят в 1842 году. Изображенная на нем сияющая «майская звезда» обозначает свободу и независимость страны. Звезду окружают связанные лентой национальных цветов ветви пальмы и лавра (первоначально -пальмы и дуба), символизирующие соответственно славу и мир. Кайма, окружающая герб, также национальных цветов. Круговая надпись на испанском языке означает «Республика Парагвай».
С 1842 года на лицевой стороне флата стали помещать герб, а на оборотной – печать министерства финансов. Изображенный на печати лев охраняет шест, увенчанный фригийским колпаком, что символизирует готовность к защите свободы и независимости. Испанская надпись на эмблеме означает «Мир и справедливость». Надпись и кайма вокруг печати такие же, как и на гербе. В настоящее время Парагвай – единственная в мире страна, которая имеет государственный флаг с различными изображениями на обеих сторонах.
Юрии Курасов
Земля людей: В погоне за синей рыбой
До приезда в Бенин я не любил ловить рыбу удочкой. Многие же из россиян, моих коллег, работавших в Бенине в самом разном качестве, ходили рыбачить на берег Атлантического океана. Удочки они делали из бамбука, в изобилии росшего на окраине города прямо у обочин дорог. Я без интереса внимал рассказам об их рыбацких подвигах, не осознавая пока, что оказался на берегу самого настоящего океана. Но очень скоро несколько событий напомнили мне об этом.
Выходные дни я обычно проводил на пляже, поигрывая в волейбол, бессмысленно плескаясь в воде и загорая, а точнее, неосмотрительно подставляя себя под палящее экваториальное солнце. Сосед-строитель Витя Кодяков, до командировки мурманский моряк, жить не мог без моря. Он рвался на простор и заплывал очень далеко от берега. Его рыжая отчаянная голова обычно мелькала в волнах где-то у линии горизонта.
Однажды, вылезши из воды, он обнаружил, что неведомое морское существо откусило от его резинового ласта солидный кусок. Кодяков ужасно расстроился: дело в том, что ласты он взял у приятеля, а в местных магазинах они стоили страшно дорого.
– И не заметил как! – сокрушался он, рассматривая ущербный ласт со следами зубов на нем, словно смог бы помешать этому, если бы заметил.
– Понятное дело, – сочувствовали ему коллеги. – Вот если бы это была нога...
– Лучше уж буду рыбачить, -вздохнул Виктор.
Неподалеку от нашего дома, на песчаном берегу, где бегали стайки быстроногих крабов, местные жители всей деревней ловили рыбу. На пирогах они вывозили в море огромную сеть, растягивали ее в воде параллельно берегу так, что противоположные концы оказывались минимум на полкилометра друг от друга. Верхняя кромка невода держалась на поверхности благодаря привязанным к ней пенопластовым поплавкам, а нижняя была снабжена грузилами.
Концы этого океанского бредешка выводились на берег, и вся община – – мужчины, женщины и дети – ухватившись за них, начинали тянуть сеть из воды. Продолжалось это несколько часов. Рыбаки дружно кричали что-то, иногда ругались. Края сети постепенно сближались, и вся она медленно ползла на берег. Плененной рыбе оставалось все меньше и меньше места, она выпрыгивала из воды, перелетая иногда через качавшиеся на поверхности поплавки. Когда сеть входила в полосу прибоя, несколько молодых рыбаков бросались в воду и, барахтаясь меж высоких волн, поддерживали руками верхнюю кромку невода, чтобы он не запутался и не перекрутился. И вот отяжелевшая сеть, наполненная бьющейся рыбой, выползала на песчаный берег.
Вода пенилась под ударами рыбьих тел всевозможных форм и оттенков, больших и малых, толстых, плоских и змееобразных. Вокруг с криками суетились рыбаки, поддерживая края сети руками, чтобы избежать потерь в последний момент лова. Еще несколько усилий под дружные крики – и живая, сверкающая на солнце куча оказывалась на безопасном от воды расстоянии. Теперь можно спокойно рассмотреть добычу.
Чего здесь только нет! И полутораметровая рыба-капитан с хищным профилем и с глазами, покрытыми, словно пластиком, толстым слоем прозрачной пленки, и акула-молот, и круглобокие торпедообразные тунцы, и пара небольших акулят, и огромное количество неизвестных мне рыб – темных и светлых, пятнистых и полосатых.
Наблюдая однажды за ловлей, я увидел, как молодой рыбак с радостным криком извлек из сети красивую синюю рыбу с бирюзовыми разводами по бокам. Он гордо поднял ее над головой, и соплеменники бросились к нему, ликующе вопя и толкая друг друга. Всем хотелось прикоснуться к диковинному трофею. Они словно забыли об остальной добыче, лежавшей на берегу.
Седой старик бережно принял рыбу из рук парня. Ничем особенным, – кроме редкой расцветки, она не выделялась среди себе подобных. По крайней мере издалека. Менее полуметра длиной, обычной формы. Но вытащившие ее рыбаки буквально ошалели от радости. Сначала они галдели наперебой, потом затихли, завороженно поглядывая на нее, и лишь после этого принялись собирать улов.
Когда я подошел взглянуть на наделавшую такой переполох рыбу, старик повел себя, как браконьер при появлении рыбинспектора: он быстро спрятал ее под сетью и нетерпеливо посмотрел на меня. На просьбу показать мне рыбу он сердито мотнул головой. Я был заинтригован до предела. На предложение продать ее за хорошие деньги старик отвернулся и отошел прочь. Остальные рыбаки, пряча глаза, тоже не хотели со мной разговаривать. Мало того, у меня возникло глубокое убеждение, что, если я буду настаивать, ко мне примут меры физического воздействия, а то и вообще присовокупят к своему улову.
– Что это они? Видал? – спросил я отдыхавшего со мной Кодякова. – Священная она у них, что ли? Тотем?
– Не знаю, – зевнул разморенный солнцем Кодяков. – На той неделе у меня такая сорвалась на рыбалке. Тоже синяя была...
– Наверное, она счастье приносит, – размышлял я вслух.
– Это ты с синей птицей перепутал, – прокряхтел Кодяков, переворачиваясь на живот. – Я уж на берег ее вытащил... Ушла-таки, зараза...
– Вот поэтому тебе счастья и нет, – заключил я.
– Не иначе, – лениво промямлил Кодяков, откупоривая очередную банку с пивом.
Таинственная рыба не выходила у меня из головы. Возможно, потому, что в Африке у меня было много свободного времени и мало дел. Я непременно хотел найти ее и все про нее узнать. В один из дней я отправился с Кодяковым на рыбацкий берег, недалеко от порта Котону.
К берегу подплывала длинная пирога, полностью, от носа до кормы, занятая шестиметровой тушей косатки. На ее лоснящейся черной спине, возвышающейся над бортом, рядом с широким серповидным плавником восседал гордый рыбак. Одной рукой он управлял подвешенным сбоку лодки мотором, а другой торжествующе махал своему многочисленному семейству, ожидавшему его на берегу в полном составе.
Неподалеку несколько мужчин и женщин возились в воде, вытаскивая на сушу большие плоские куски чего-то черного и гладкого. Приглядевшись, я понял, что это плавники какого-то китообразного. Будучи не в силах вытащить огромную тушу на берег, африканцы рубили ее в воде большими широкими ножами «куп-куп», выносили по кускам и складывали в кучу у воды. Тут же велась оживленная, крикливая торговля. Рыбу поменьше и повкуснее, предназначенную для состоятельных гурманов, женщины складывали в большие деревянные ящики, засыпали колотым льдом и накрывали толстыми тряпками.
Несмотря на фантастическое изобилие, синюю рыбу там встретить не удалось. И никто из рыбаков и торговок не понял, что, собственно, мы ищем. Не слыхали про такую рыбу и на рынке. Не обнаружили мы ее даже в огромном холодильнике для рыбопродуктов, где работали молодые африканцы в тулупах и зимних шапках. Возможно, необычная рыба являлась тотемом только той родовой общины, с которой мы тогда столкнулись?
– На рыбалку пошли, – постоянно твердил Кодяков. – Глядишь, и привалит тебе счастье-то.
Я наконец решился. Соседи по до дому дому возвращались с рыбалки с физиономиями, красными и довольными от солнца и неразбавленного джина. Преподаватель русского языка Саша Панов, пивший со мной по вечерам пиво, подарил мне пластиковую телескопическую удочку. Авиамеханик презентовал крючки и леску, научив привязывать первое ко второму согласно всем канонам рыболовной науки. Строитель Кодяков научил делать поплавки из натуральных бутылочных пробок, которые у нас не переводились. Рыбацкое дело Витя, похоже, изучил гораздо лучше строительного.
– Почти вся местная рыба жрет друг друга, – втолковывал он мне. —Насекомых ей предлагать бесполезно. Все равно, что тебе. Она хорошо идет на свежее мясо, но больше всего обожает креветку.
– А пива она при этом не просит? – поинтересовался я.
– Пиво будешь отдавать мне, – снизошел Кодяков.
Креветки продавались на местном рынке и стоили сравнительно недорого – втрое дешевле банальной говядины. Местные жители буквально черпали их круглыми корзинами в мелких лагунах, которыми изрезано бенинское побережье, а также в грязном устье реки Уэмэ, разделявшем город Котону на две половины.
Русист Саша Панов предлагал мне не мелочиться и ловить крупняк на спиннинг. Однако в Бенине, наряду с экономическими трудностями, были еще проблемы с блеснами. А каждая рыбалка Панова заканчивалась потерей блесны. То, что продавалось в магазинах и на рынке, его почему-то категорически не устраивало. Приходилось изготавливать их самостоятельно. Для хорошей блесны нужен хороший металл, и Панов пребывал в постоянном поиске материала.
Моя жена в целях дезинфекции питьевой воды привезла с собой в Африку несколько старинных фамильных ложек из серебра. Ужиная у нас, Панов любовался ими и вздыхал, что такие красивые, ценные предметы пропадают, можно сказать, зря. Не раз он пытался уговорить нас продать ему ложки, расписывая, какие восхитительные блесны из них получатся, при этом ручки обещал вернуть. Перенося людские слабости на морскую фауну, Панов, видимо, полагал, что чем благороднее металл, тем более крупная рыба на него клюнет. Приходилось прятать от него все блестящие предметы, чтобы он не изводил себя и других.
Накануне ловли среди рыбаков обычно царил легкий ажиотаж, которого я поначалу не понимал и считал неопасной формой массового помешательства. Говорили только о рыбалке, обменивались крючками, леской, выпрашивали друг у друга грузила, блесны и удилища. К вечеру расходились по домам готовить снасти.
Позднее я прочувствовал это волнение в полном объеме. Я был просто не в состоянии уснуть в ночь перед рыбалкой. Хотелось идти к морю немедленно. Меня охватывало какое-то странное, необъяснимое возбуждение, которое испытывали, наверное, первобытные люди перед охотой. А ведь голодным, в отличие от них, я не был!
На рыбалку мы шли сначала вдоль выложенного красивым кирпичом непроницаемого забора, за которым стоял погруженный в темноту президентский дворец. Болтаться в ночное время вблизи него не рекомендовалось, ибо запуганная, нервная охрана стреляла без предупреждения и частенько попадала. Из парка, окружавшего французское посольство, доносился тревожный крик павлина.
Компания перешла широкую асфальтированную дорогу, перегороженную на ночь барьерами и металлическими пластинами с длинными шипами, способными проколоть шину колесного танка. Отсюда был виден угол президентского дворца с прилепленным к нему уродливым бетонным дотом. За дорогой начинался песок. До моря оставалось метров семьсот по прямой. Уже слышался шум прибоя.
Территория эта считалась запретной зоной и охранялась несколькими солдатами, обычно крепко спавшими в небольшом двухэтажном домике. В толстом бетоне его второго этажа во всех направлениях были прорезаны бойницы, служившие одновременно вентиляционными отверстиями. Подойдя к сторожке, мы постучали в обшитую металлом дверь, находившуюся почти на метровой высоте от песка.
Через минуту на пороге появился заспанный солдат с АКМом на плече. Поприветствовав его, мы вручили ему пачку российских журналов, которыми нас бесперебойно снабжало посольство. Поправив автомат, охранник принял подарок с тем безучастным видом, с каким лошади принимают овес, и вновь заперся в домике. Второй пограничник с автоматом перекрыл дорогу: растянувшись поперек нее, он крепко спал как убитый. Будить его мы не рискнули и тихо обошли тело по песку.
Мы взошли на мол, за которым простиралась акватория порта. Вода мерно поднималась и опускалась, словно дышала. Мол представлял собой каменную гряду, сложенную из обломков скал и бетонных пирамидок. По другую его сторону волновался и шумел открытый океан. Рыбаки рассыпались по гряде мола. Я решил ни за кем не увязываться, будучи уверенным, что найду самое лучшее место.
Устроившись поудобнее у самой воды, я аккуратно и с удовольствием расположил на плоском камне банку с наживкой, нож, термос с кофе и сигареты. Было еще рано, около четырех утра. Стояла ночная тьма, но из порта уже выходили лодки с рыбаками. Это были длинные и узкие долбленки с кормой такой же острой, как и нос, поэтому мотор подвешивали сбоку на борт. На некоторых пирогах было два мотора – по одному с каждого борта.
Я почувствовал вдруг железную уверенность в удачной рыбалке, а главное в том, что поймаю ту самую синюю рыбу. Не успел я нанизать наживку, как за спиной послышался шорох. Обернувшись, увидел осторожно спускавшегося ко мне Кодякова. Он был мокрый с головы до ног. Присев рядом со мной на корточках, он попросил закурить.
– Ты что, в воду упал? – спросил я.
– Нет, волной окатило, – ответил он, прикуривая. – Хорошо еще не смыло. Вдобавок, какая-то сволочь так клюнула, что удочку из рук выдернула... Полная непруха. Сейчас пойду доставать.
Он, кряхтя, полез наверх и вскоре исчез за камнями. Я наколол на крючок кусок свиного сала и забросил удочку. Кусок я отрезал приличный в расчете на крупную добычу. Размениваться на мелочь не хотелось. К моему восторгу клюнуло сразу. Я дернул удочку, но она не поддавалась. Ну, думаю, вот она, настоящая добыча!
Поднатужившись как следует, выдернул из воды маленького бычка. Он забился так глубоко в камни, что я чуть было не сломал удилище. Здоровый кусок сала он умудрился заглотить лишь благодаря своей несоразмерно большой пасти. Бычок оказался скользким, и продержать его в руке я смог не более секунды. Рыбка упала на камень, а с него в воду. Раздосадованный, я вновь нанизал наживку на крючок и забросил его. Теперь уже не клевало.
Из темноты, как по волшебству, бесшумно появился африканец и стал раскладывать свои принадлежности в двух шагах от меня. На сотню метров от меня никого не было, но ему почему-то хотелось быть именно рядом со мной. Забросили удочки. Африканец терпеливо молчал. Через какое-то время у меня появилось желание сказать что-нибудь.
– У моего приятеля рыба только что утащила удочку, – сообщил я.
– Бывает, – спокойно ответил парень, глядя на поплавок. – В прошлом году рыба утащила одного бенинца, моего знакомого. У него была очень толстая леска, и он намотал ее на руку. Когда рыба рванула, он упал в воду и не смог освободить руку. Он выплыл на поверхность, кричал, пытался перегрызть леску, но не успел. Рыба потащила его за собой в океан. Его так и не нашли. Очень большая была рыба.
– А что за рыба?
– Не знаю, – пожал он плечами. – Ее никто не видел...
Вскоре я перешел на другое место, но и там никто из морских обитателей не прельстился на мое угощение.
Видимо, я задремал от вынужденной неподвижности, потому что, когда из воды вдруг прямо передо мной с шумом вынырнуло какое-то чудище, свалился с камня и ощутимо ударился седалищем о землю. В следующий момент я понял, что это здоровая, как чемодан, черепаха. Чем я привлек ее внимание, было непонятно. Впрочем, интерес ее ко мне быстро угас. Понаблюдав, как я, кряхтя и ругаясь, встаю на ноги, черепаха тихо хрюкнула и погрузилась в черную воду.
Поубавив амбиции, я стал нанизывать на крючок кусочки поменьше и попостнее. Это было встречено с энтузиазмом со стороны мелкой морской живности, но то, что мне удалось вытащить, могло обрадовать разве что соседского кота Барсика. Я понял, что крупная рыба здесь весьма привередлива и к грубой тяжелой пище не привыкла.
С восхождением жаркого светила интенсивность клева снизилась. От предлагаемой мной жирной свинины, похоже, начало воротить даже вечно голодную мелочь. Пришлось выпросить у ребят несколько аппетитных креветок. Я и сам облизывался, нанизывая их на крючок, а уж мелочь набрасывалась на деликатес тучей и раздирала его в мгновенье ока. Крючок вдруг зацепился за что-то. Я несколько раз дернул удочкой.
– Сейчас крючок с поплавком на дне оставишь, – равнодушно предсказал ловивший рядом Кодяков.
– Что же делать? – спросил я.
– Лезть в воду и отцеплять. Незадолго до этого он достал из воды свою удочку вместе с утащившим ее здоровенным окунем. При этом так радовался, словно это был не окунь, а горшок с золотом. Я снял майку и шорты и осторожно полез в воду.
– Вот сейчас тебя мурена и прихватит за одно место, – оживился Кодяков. Он не спускал с меня глаз и, похоже, приготовился к захватывающему зрелищу.
– А они здесь есть? – с тоской спросил я.
– Для тебя найдутся, – радостно заверил он.
Репутация у мурен была нехорошая: то ли они были ядовитые, то ли какая-то зараза была у них на зубах, одним словом, боялись мы их панически. К счастью, крючок зацепился неглубоко. Мне быстро удалось его высвободить и вернуться на берег невредимым. Кодяков был явно разочарован. Он хотел мне что-то сказать, но в этот момент у него клюнуло.
После продолжительной и искусной борьбы он вытащил на камни большую, похожую на сома, рыбу. Крючок крепко застрял в ее широкой жесткой пасти.
– Дай-ка мне кусачки из сумки, – спокойно попросил Кодяков, придерживая рукой рыбу.
Я положил удочку и начал рыться в его барахле.
– Не надо кусачек, – через секунду сказал он, извлекая из пасти рыбы половинку перекушенного ею стального крючка. – Этой палец в рот не клади, – добавил он, опасливо косясь на нее.