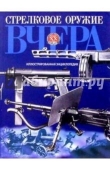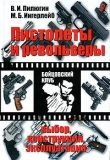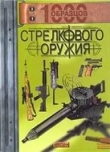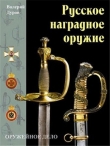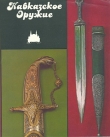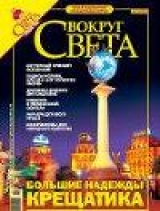
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №11 за 2005 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 10 страниц)

Чрево Киева
Если Майдан – сердце Крещатика, то Бессарабская площадь с главным киевским рынком, несомненно, его брюхо. Рассказывают, что ни по чему так не убиваются бывшие киевляне в Новом Свете, как по творожку «как на Бессарабке» и прочим украинским эксклюзивам. На Бессарабском рынке почти все они высшего качества, что подтверждается их ценой. Вообще-то цены на всех киевских продуктовых рынках в этом году обогнали московские на 30– 50% – и это на Украине, где земля гудит от плодородия и все растет,– киевляне глазам своим не верят. Но Бессарабка и в этом отношении чемпион – килограмм колбасы домашней выделки здесь стоил этим летом $20.
Под крышей Бессарабки чуть не половину площади занимают цветы и похожие на торты красивые букеты. Много красной и черной икры браконьерского вида – говорят, азовской. Нам с Александром удалось взглянуть на торговый зал сверху. Охранники подвели нас к директору рынка, и тот, слегка удивившись, любезно согласился проводить нас на галерею, где расположилась администрация. Здание рынка было построено в 1912 году на деньги сахарозаводчика Бродского в модном стиле модерн. Спроектировал его варшавский архитектор Гай, а насытил изобретательными стальными конструкциями киевский инженер Бобрусов. Из окон галереи рынок смотрелся как произведение прикладного искусства. Директор с гордостью сообщил нам, что высота от пола до потолка в центре зала 40 метров. Я спросил: а кто покупатели, новые украинцы? Он уклонился от прямого ответа, сказав, что люди готовы платить за качество и что этот рынок никогда не был дешевым.
Уже выйдя из Бессарабки и перейдя дорогу, мы повстречали тех, кто мог бы сделать рынки дешевле. Прямо на крещатицком тротуаре сельские жительницы торговали своими овощами и фруктами, поскольку заплатить за место на Бессарабском рынке им не хватило бы всей дневной выручки.
Но прежде чем покинуть Бессарабскую площадь, стоит оглядеться кругом. Крещатик упирается здесь в очень импозантное здание в стиле французского неоренессанса, бывшее столетие назад гостиницей «Орион», сегодня его подремонтировали и сдают в аренду учреждениям. В квартале за ним, над которым торчат офисные башни австрийской фирмы «Макулан», родилась когда-то Голда Меир, о чем свидетельствует мемориальная доска, и жил Шолом-Алейхем, давший в своих книгах Киеву малозвучное прозвище «Егупец», что не помешало киевлянам в конце 90-х установить ему памятник.
Крещатик переливается здесь в узкую горловину улицы Червоноармейской (которая не выглядела бы такой тесной, не будь Крещатик на своей финишной прямой так широк – 130 метров!). А направо вверх круто поднимается в направлении вокзала бульвар Тараса Шевченко, обсаженный в два ряда тополями. Из энциклопедии Макарова я выудил любопытнейший сюжет о ботанической войне между тополями и каштанами. Суть его вкратце такова. От изменения городского рельефа и ландшафта в первой половине XIX века пострадали в первую очередь деревья (в результате – пыльные бури, непролазная грязь и прочие прелести). В южных городах хорошо растет акация, деревце неказистое, низкорослое, дающее дырявую тень. Альтернативой могли стать липы (ау, Унтер-ден-Линден!) и вязы с их плотной тенью и шаровидной кроной – их сторонницей была гордума. Царизм в лице Николая I и его верного служаки, героя Бородино, однорукого генерал-губернатора Бибикова, настаивал на тополях, которые тени почти не давали, зато хорошо строились в шеренги и придавали вертикальное измерение малоэтажной застройке (подобно кипарисам в средиземноморских городах). А вольнодумство киевлян проявлялось в упорном и злонамеренном высаживании ими конских каштанов – деревьев цивильного вида, в пору цветения похожих на букет, с кронами, волнующимися от дуновения ветра, словно женские юбки. Принимались указы, чиновники лишались постов, деревья вырубались и вновь насаждались. Уже в послевоенное время победу на Крещатике отпраздновали каштаны (дореволюционный Крещатик был почти гол). Но Бибиковский бульвар, сменивший название, не сдался и выстроился в торец Крещатику колонной тополей, которую возглавляет уцелевший памятник Ильичу на цилиндрическом постаменте (трудно и даже невозможно представить его под сенью каштанов, согласитесь). Такие вот неслышные битвы кипят в городе – и на утомленной зноем плеши Бессарабской площади это бросается в глаза, как нигде в Киеве.

Каштановый бульвар
Благодаря густой каштановой аллее утренние прогулки по Крещатику – удовольствие. Но положение обязывает нас гулять в любое время. Что ж, пошли.
Тесно расставленные под каштанами скамейки уже заняты отдыхающими людьми всех возрастов и состояний. На одной скамье солдатики в увольнении лопают мороженое и глазеют по сторонам. На другой – стайка девчонок, не обращая ни на кого внимания, громко обсуждает свои проблемы, попивает пиво и время от времени проверяет мобильники. На третьей скамье присели пенсионер, вытирающий потный лоб носовым платком, и бомж, оценивающий количество собранных бутылок-банок в своем пакете. Вот сухощавый старик тащит куда-то два «тещиных языка» в вазонах – один катит за собой в сумке на колесиках, другой прижимает к груди. Еще один бомж, облюбовавший Крещатик, сидя на поребрике, сосредоточенно читает журнал «Деловые люди». Продавщица соседнего лотка не выдерживает, обращается к нему: «Слушай, вода в Днепре уже теплая, ты бы сходил хоть искупался, что ли!» – но тот не слышит ее, журнальная статья его явно увлекла. Перед аркой с выходом на улицу Лютеранскую (где когда-то была немецкая колония) два исполнителя брейк-данса в окружении плотного кольца молодежи извиваются на тротуаре на лопатках, будто укушенные змеей (я-то полагал, все уже позабыли этот лежачий танец перестроечных времен). На этом пятачке нередко устраиваются всякие отборочные конкурсы самодеятельных исполнителей.
Монмартр на Крещатике
На ступенях под этой аркой я договорился в один из дней встретиться с любимцем киевской молодежи и местной артистической богемы – художником и драматургом Лесем Подервянским. Вот уж кто на Крещатике должен чувствовать себя как рыба в воде, проживя здесь почти всю свою жизнь. Выросший в очень интеллигентной семье, громкой славой своей он обязан... матерным пьесам на украинско-русском суржике, а также своей патрицианской внешности писаного красавца.
Мне захотелось взглянуть на Крещатик сверху, и Лесь согласился отвести нас с фотографом в мастерскую своего отца в мансардном этаже здания на Крещатике. Это одно из самых живописных и эффектных мест послевоенного Крещатика – архитектурный ансамбль, спроектированный главным архитектором Киева А. Добровольским (дома №№ 23—25—27). Центральная высотка отступила вглубь и поднялась на гору, к ней ведут ломаные марши лестниц, а в горе спрятался грот с кафе и рестораном (был еще фонтан). Короля играет свита – и эскортом высотки симметрично застыли внизу два 11-этажных дома, массивных и стройных одновременно, с могучими и витиеватыми эркерами по углам, что делает их похожими на испанские галеоны.
В одном из этих домов мы и поднялись на последний этаж. Внутри все выглядело не так роскошно, как снаружи. В подъезде попахивало, лифт тесный, какие-то двери с решетками – и то, что когда-то воспринималось как «Монмартр на Крещатике», сегодня явило свою природу областного худфонда или общаги с коридорной системой.
За тонкой дверью оказалась комната с неожиданно высоким потолком и такими же давно не мытыми окнами. На подоконник пришлось взбираться по лестнице, а оттуда уже через открытое окно выходить на разогретую крышу, залитую битумом и огражденную грубым подобием балюстрады. Вид отсюда открывался замечательный в обе стороны Крещатика, но мне отчего-то было невесело, а Александра огорчило освещение в этот вечер, и он почти не снимал. Поэтому мы скоро вернулись в душную мастерскую, где, обливаясь потом, распили фляжку коньяка. Поговорили о Киеве и Москве, об общих приятелях, об «оранжевой революции», наконец. Лесь ее горячий сторонник и предсказывал такое развитие событий еще весной, когда никто в это не верил.
– Ты что, еще и политолог? – спросил я.
– Та нет, я просто пророк, – отвечал он.
Мы немного попререкались, кто из нас больший пророк.
Лесь принялся расхваливать украинскую хату как экологически чистое жилье: глина, камыш; хозяин умирает, стены обрушиваются, земля всасывает и переваривает бренные останки, не оставляя отходов и следов.
Я возразил:
– А способен ты представить себе город из таких хат?
На этом мы закончили спор и вышли немного пройтись по Крещатику. Лесь признался мне, что сегодняшний Крещатик выносит с трудом и снимает с молодой женой квартиру на другом берегу Днепра, а сюда приезжает только навестить родителей. Вот если бы уличная «оранжевая революция» никогда не кончалась – другое дело, это было что-то! После этих слов мне сделалось совсем грустно. Напоследок Лесь показал мне закамуфлированный гастроном на этой стороне улицы, где я встал в очередь за сухим вином, чтобы вернуться в гостиничный номер и принять душ – июльский зной меня достал. Мы распрощались. Александр остался в тротуарной толчее дожидаться с фотоаппаратом несказанного вечернего света.

Другие берега
На нечетной стороне улицы также коечто сохранилось от старого Крещатика. Двухэтажный дом 27-А был флигельком в глубине двора за зданием «Интимного театра», где всходила когда-то звезда киевлянина Вертинского и одессита Утесова, выступавшего поначалу в разговорном жанре. Сейчас его делят Союз журналистов Украины, с входом с Крещатика, и казино, с входом со двора. В крещатицких дворах меня удивило обилие машин с номерами вроде 1111, 2222, 5555, из чего я заключил, что иметь жилье на Крещатике по-прежнему считается престижным.
Помимо ансамбля с высоткой эффектнее всего на нечетной стороне Крещатика смотрятся две великанские арки. Первая, высотой в 5 этажей, с видом на уходящую вверх улицу Лютеранскую, и вторая, пониже, являющаяся входом в жилищно-торговый Пассаж, построенный в начале Первой мировой войны. Пассаж должны были перекрыть еще стеклянной крышей размером в полквартала, да не успели, но и без нее он выглядит чрезвычайно солидно, на уровне аналогичной питерской или рижской ансамблевой застройки. Здесь было и есть самое элитное жилье на Крещатике. Здесь жил окопный офицер, лауреат Сталинской премии по литературе и диссидент Виктор Некрасов, эмигрировавший, когда стало окончательно ясно, что Крещатик в Монмартр, а Киев в Париж не превратятся никогда. Между упомянутыми двумя арками – застекленное здание 1960-х годов, не вписывающееся в общий стиль застройки. На первом его этаже вход на центральную станцию киевского метро «Крещатик» с замечательным плиточным панно в фойе. Здесь же «Макдоналдс» и «Эльдорадо» – на месте прежних мюзик-холла и ресторана «Метро». Лет сорок назад, говорят, это было моднейшее место на Крещатике. Фарцовщики в баре, богема в стекляшке по соседству...
На слова «Крещатик», «Киев» нанизаны такие разные города и улицы, что только диву даешься. Где все эти крещатицкие иллюзионы, советские вареничные и кинотеатры? Где магазины поставщика двора ЕИВ (Его Императорского Величества) Брабеца, изготовлявшего, среди прочего, сейфы с самострелами от взломщиков и пищеизмельчители для беззубых? Кому что-то говорит сегодня имя песенника Павла Германа, которого комиссары свозили в 1920 году на военный аэродром, и он сочинил для них «Авиамарш» («Мы рождены, чтоб сказку сделать былью»)? Где друзья-поэты Гумилев и Мандельштам, добывшие в Киеве жен – Аню Горенко и Надю Хазину? Где киевские философы Бердяев, Шестов и Булгаков – почему не на киевских кладбищах? Как и другой Булгаков, нанесший Киев на литературную карту мира? Я хочу только, чтобы читатель ощутил, какой вал времени проносится в каменных берегах Крещатика.
Эту прогулку по Крещатику можно закончить на углу улицы архитектора Городецкого. На правой стороне здесь находился Елисеевский гастроном, оформленный не так роскошно, как в Петербурге и Москве, но ассортиментом и постановкой дела им не уступавший. А через дорогу был отель «Континенталь» (то, что от него осталось, «разжаловали» в учебный корпус консерватории/музакадемии). В его номерах останавливался весь цвет русской и советской культуры, места не хватит всех перечислить. Эта улица, более чем уцелевшие здания на Крещатике, может дать сегодня представление о богатстве и даже роскоши этого города до революции. А пройдя ее до конца, вы выйдете к знаменитому «Дому с химерами» архитектора, чьим именем названа эта улица.

Воскресный Крещатик
Уже семь лет по выходным дням с утра и до одиннадцати вечера Крещатик превращается в пешеходную улицу – и это самая старая киевская традиция, насчитывающая больше сотни лет. Даже когда посередине улицы тек ручей, ежедневно совершался киевлянами променад, наподобие описанного Гоголем в «Невском проспекте». Бомонд знал, по какой стороне гулять ему, проститутки знали, на которую и в котором часу выходить им, «гранильщики тротуаров» – жиголо, аферисты и бездельники – с них и не сходили. В праздники на Крещатике устраивались всякие развлечения – и это тоже давняя киевская традиция, ожившая в наши дни. Особое удовольствие от выходных прогулок по Крещатику получали окраинные жители, принаряжавшиеся по этому случаю.
Сегодня Крещатик пестр и во все дни недели заполнен новыми окраинными жителями, преимущественно молодежью, и чинными приезжими провинциалами с детьми, приехавшими «отметиться» на главной улице столицы. Ни местного бомонда, ни толп иностранных туристов, увы, на Крещатике вы сегодня не встретите. Сегодня – это такой бесплатный луна-парк для малоимущих, желающих недорого развлечься во все дни недели, но особенно по выходным.
Уже с утра в выходные дни он наполняется гуляющими людьми. С полудня начинаются всякие массовые развлечения на огороженных площадках: конкурсы скейтбордистов, брейк-дансистов, велосипедистов и караоке с массовиками-затейниками и ди-джеями с мегафонами. На каждой площадке своя, достаточно громкая музыка. Гоняют по проезжей части, перестраиваясь, бригады роллеров с длинными флажками и какие-то два балбеса на мотороллере с собственной музыкой – туда-сюда. Степенно катаются велорикши с пассажирами и без (были в 1920-х такие трехколесные «такси», звавшиеся циклонетками). Сектанты расставили стулья на проезжей части, негромко проповедуют свое и раздают прохожим печатную продукцию. На бульваре под каштанами не протолкнуться – все тусуются отчаянно. Короче, удовольствие на любителя и в основном молодого.
После праздника
Из интереса я вышел как-то на Крещатик к концу всех развлечений. Перед одиннадцатью вечера Крещатик стал на глазах пустеть. Разбирались последние площадки, смолкала музыка, перестали бить фонтаны, пошли гурьбой машины. На тротуары, не дожидаясь утра, вышли уборщики. Им на добровольных началах «помогали» многочисленные сборщики пустой посуды с огромными мешками – для них это самое время заработка.
Проводив приятеля, возвращался в гостиницу я уже за полночь. В закрывающемся лотке купил эскимо на палочке, на улице было все еще душно. На Майдане задержался у группки музыкантов, играющих живую музыку, и стал спускаться в «Трубу», чтобы выйти к гостинице. Вымерший переход вдруг наполнился людьми: милиционеры выводили из дверей закрытого метро шестерых молодцев, скованных попарно наручниками.
Прощай, зеленый город
Кажется, в песне как-то иначе пелось, да и про совсем другой город – но тоже южный. Пора было возвращаться.
В аэропорт нас отвез тот же Василий. Он уже не был так разговорчив и, пока бегал за квитанцией счета, подыскал очередных пассажиров. Жизнь – это такая штука, которая способна продолжаться без нас.
И странное дело, этот Крещатик, который я никогда не любил и торопился всегда с него уйти, завладел на целый месяц моим сознанием и воображением и что-то с ними такое сделал. Я знаю теперь эту улицу так, как можно знать только близкого человека или родственника (с которым можно поссориться, но невозможно порвать, потому что родственные отношения не мы устанавливаем – это не вопрос доброй воли).
Так вышло и у меня с Крещатиком.
Игорь Клех Фото Александра Лыскина
Венцы природы

«Дело не богато, да сделано рогато». Остры на язык были наши предки, самую суть подмечали: рога в народе всегда были символом силы, упрямства и гордыни. Уж таков природный норов существ, носящих этот великолепный «головной убор», что неудивительно, поскольку служит он обычно для боев и защиты. Говорят, что в древности даже кенгуру были рогатыми, а головы оленей венчали не «ветви», а целые «деревья» весом по 50 кг.
По мнению зоологов, настоящие рога растут только у полорогих копытных: баранов, коз, горалов, серн, туров, архаров, антилоп. Они представляют собой темные наросты из рогового вещества. По «конструкции» их можно сравнить с чехлами, надетыми на приросшие к черепу костные стержни. Снятые с кости, чехлы оказываются внутри полыми, за что их владельцы и получили свое название. Прирост таких рогов идет от их основания, где происходит постоянное деление клеток наружного слоя кожи и накопление белка кератина. Именно этот белок и придает «изделию» твердость, он же постепенно становится частью рогового чехла. Костный стержень тоже растет, но медленнее. Из-за смены сезонов на таких рогах появляются утолщения – своего рода годовые кольца, по которым можно определить возраст животного. Общее правило для полорогих: рога носят все – и самцы, и самки, а роговые чехлы и костные основания растут всю жизнь и никогда не меняются на другие.
Встречаются рогоносцы и среди непарнокопытных – это носороги, обладатели особого головного выроста. Их рога располагаются не по бокам, как у коров, и не на лбу, как у оленей, а прямо на переносице. С точки зрения анатомии это вовсе не рога, а пучки склеенных волосовидных сосочков из кератина, образованных эпидермисом. Пучки эти растут на протяжении всей жизни животного.
Рожки жирафа – еще одно уникальное творение. Этих маленьких костяных выростов, покрытых обычной кожей и шерстью, может быть от двух до пяти на одной голове, но бодаться ими невозможно.

Гордость семейства
Совсем иначе устроены рога у представителей семейства оленевых. В противоположность полорогим предмет их «гордости», обычно ветвистый, происходит не из эпидермиса, а из более глубокой части кожи – дермы, поэтому кератина там нет вовсе, только кость. Рога оленей прикреплены к частям лобных костей – пенькам, которые вырастают у самцов в возрасте 6– 8 месяцев и остаются на всю жизнь. Кроме того, растут эти ветви не в основании, а на концах. Украшены ими, как правило, только самцы, за исключением северных оленей, у которых самки тоже рогаты.
Каждую осень, после окончания периода турнирных боев и спаривания, самцы-олени сбрасывают рога. Процесс этот начинается с того, что место соединения рога с пеньком становится непрочным, надламывается и рог отваливается. Но уже весной у самцов на вершине каждого пенька возникает хрящевая шапка, покрытая кожей с короткими волосками. Верхняя часть шапки растет и постепенно превращается в молодые рога – мягкие, бархатистые, пронизанные кровеносными сосудами и нервами, так называемые панты. По мере роста они твердеют снизу вверх, пока полностью не превращаются в кость, после чего кожа на них лопается и спадает, причем на твердой роговой поверхности сохраняется рисунок прежних сосудов. По ветвистости рогов можно определить возраст оленя: на втором году жизни рог состоит из одной ветви – спицы, на третьем – появляется одно ответвление, с возрастом количество отростков увеличивается, но по достижении полного расцвета сил прибавка прекращается. У старых оленей рога становятся тоньше и слабее, а число ветвей уменьшается.
Для людей оленьи рога – ценное сырье, особенно неокостеневшие панты, из которых изготавливают пантокрин – тонизирующее лекарство. Есть даже специальные хозяйства, которые разводят оленей ради добычи мягких пантов. К сброшенным рогам проявляют интерес и лесные мыши, для которых они служат источником дефицитного кальция.
Роговые вариации
Нельзя умолчать о той группе животных, где когда-то природа разыграла тему рогов в невиданном числе вариаций. Речь пойдет о динозаврах. Один рог на носу – такая модель впервые была испытана в юрском периоде на гигантском двуногом ящере цератозавре. Пара конических рожек венчала головы хищных карнотавров – главных врагов трицератопсов, которые в свою очередь носили на голове три внушительных костных рога, полых внутри. А их родственники моноклоны – довольно точное подобие носорогов: у этих четвероногих травоядных на низко поставленной голове был всего один рог и как раз на носу.
Каких только чудес не порождала эволюция на заре кайнозойской эры! Тогда Азию и Америку населяло много разных зверей, внешне напоминавших носорога, но родственно с ним не связанных. Два сросшихся у основания рога носили на морде огромные арсинотерии. Рога их были так толсты, что занимали почти всю поверхность морды. Аж три пары рожек наподобие жирафовых, полых внутри и при этом покрытых кожей, торчали на мордах уинтатериев, знаменитых, кроме того, своим огромным ростом – два метра в холке. Нос «громового зверя» – бронтотерия украшал причудливый рог, раздвоенный в виде буквы «у».
В четвертичном периоде на Земле обитало всего два вида большерогих оленей, но какие у них были рога! Размахом 4 метра и весом – 50 килограммов. Даже кенгуру, оказывается, водились с рогами. Как установили недавно австралийские палеонтологи, кенгуру с костными выступами над глазами жили 500—200 тысяч лет назад. Такие рожки могли служить сумчатым для защиты глаз от колючек на растениях. Современным рептилиям до всех перечисленных далеко, но и здесь без рогов не обошлось. Целая группа рогатых видов есть среди хамелеонов: на голове у них твердые вытянутые отростки, костяные внутри и покрытые роговым слоем снаружи, как у полорогих млекопитающих. У одного из них, четырехрогого хамелеона, на конце морды расположена пара коротких кольчатых рожек, направленных вперед, и вторая – позади первой, поменьше размером. А у хамелеона Джексона рогов три: впереди – толстый прямой и между глазами еще два тонких, изогнутых вниз. Существует и прямо-таки дьявольский вид хамелеонов с одним раздвоенным на конце рогом. У этих ящериц рога носят только самцы, но нужны они не для драк, а для распознавания друг друга особями одного вида.
Совсем иного происхождения рога у змей. У рогатых гадюк, которые, как и все безногие рептилии, покрыты плоскими чешуями, над глазами торчит по одной чешуйке особой формы: они острые и вертикальные. Эти «рожки» помогают защитить глаза от песка, ведь обычная манера рогатой гадюки – затаиться, зарывшись в песок, и оставить на поверхности только глаза. У гадюки-носорога «рога» торчат на кончике морды – две-три длинные заостренные чешуи. Для чего они служат – пока не ясно.
Брачное оружие
Само собой приходит на ум, что рогатость – это проявление борьбы за существование, где одни нападают, а другие защищаются, и потому все участники постоянно вынуждены совершенствовать свое «боевое оружие». Правда, на этот счет в науке есть и другая точка зрения.
Бесспорно, для защиты острые крутые выступы на голове очень полезны, особенно когда все четыре конечности заняты. Коровы и овцебыки защищают молодняк от волков, окружив их живым кольцом и выставив наружу рога. Быки сражаются с обидчиками-тореадорами, домашние козы тоже умеют бодаться. Но для нападения животные обычно не используют рога. И хотя в турнирах оленей, боданиях баранов и битвах антилоп копытные нападают друг на друга по-настоящему, их главная задача – не покалечить противника, а получить преимущество в предстоящем спаривании. Среди видов, которых природа наделила рогами острыми, направленными вперед и способными наносить серьезные увечья, драке предшествует сложный ритуал: самцы показывают свою мощь, не касаясь друг друга. Если же ни один из борцов не согласится признать превосходство противника и битва все же состоится, у животных есть надежная защита: толстая кожа, отвлекающие внимание кожные складки и прочные кости черепа. Большинству же рогов придана такая форма, чтобы острые концы «смотрели» назад. Даже у динозавров трицератопсов, согласно последним данным, рога предназначались не столько для защиты от карнозавров и тираннозавров, сколько для борьбы с особями своего вида.

Но если рога – лишь ритуальный атрибут, почему природа не отказалась от явного излишества? Ответ, видимо, сводится к тому, что рога – это верный показатель силы и генетического здоровья производителя. Неспроста они чаще всего венчают головы представителей именно сильного пола. Самки, выбирая отца для своих будущих детенышей, оценивают размер рогов и выбирают того самца, что «порогатее». Вспомним, чего стоит оленю каждый год отращивать новый венец, какие расходы энергии и кальция, казалось бы, напрасные, он несет. Слабому животному такое не под силу, и лучшего результата, то есть больших красивых рогов, достигают самые здоровые самцы. С этой точки зрения рога – не роскошь, а разумная плата за процветание вида.
Бывает, что рогоподобные выступы возникают и у людей, и таких случаев в истории известно немало. Обычно ороговевшее разрастание эпидермиса – совсем крошечное, но встречались и 30-сантиметровые «рога», причем как у мужчин, так и у женщин, что для нашего вида, безусловно, отклонение от нормы. Но уродство – не синоним несчастья. Говорят, что в XVII веке в Англии жила некая Мария Дэвис с двумя рогами на висках, что якобы способствовало ее недюжинным любовным успехам.
И лишь у четвероногих носорогов все иначе. Так как рогами у них наделены оба пола, то особи нередко используют свое оружие для выяснения семейных отношений, причем иногда дело доходит до убийств. Самка, не настроенная принимать ухаживания, может насмерть забодать неудачливого кавалера, а самец не пожалеет собственного детеныша-недоросля, если ему пригрезится, что это – соперник. Есть мнение, что такая жестокость – результат сужения области обитания, когда теснота пробуждает агрессию. Но оказалось, что и в относительно спокойных условиях носороги вроде бы не испытывают большой нужды в своих рогах. Когда работники африканских парков стали их спиливать у диких носорогов, чтобы отвадить браконьеров, на здоровье животных это никак не сказалось. Так что назначение носорожьего рога остается невыясненным.
Елена Краснова, кандидат биологических наук