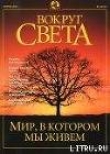Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1962 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 8 страниц)
– А, черт! – сказал Морозов и выстрелил.
Он выстрелил только один раз, и мотоциклист упал, опрокидывая на себя тяжелый мотоцикл.
Выстрел прокатился по окрестности и замер.
– Ой, зачем вы это, командир! – огорченно зашептал Ивашенко, прижимая к земле замолчавшую Муху. – На кой он вам сдался!
– Не понимаешь, стрелок? Прочисть мозги. Мне стрелять пришлось, а убили его господин фюрер и немецкий райх.
Морозов и Борисов вышли на дорогу, остановились над парнем. Он был молод, удивление проложило складки на его лбу, округлило глаза и замерло.
Морозов сунул руку во внутренний карман его кожаной куртки, достал бумажник. В нем лежало пятьсот марок, сержантское удостоверение, два письма в конвертах, фотография хорошенькой девушки у куста жасмина и еще одна фотография – парня в новенькой солдатской форме.
– Держи деньги, пригодятся, – сказал Морозов, – и автомат тоже. Алеша, оттащи его в лес подальше куда-нибудь. Жаль, на троих мотоцикла мало...
Они бросили мотоцикл в канаву, полную светлой воды. Ивашенко потащил мертвого мотоциклиста в лес, за ним молча шла Муха.
...Они торопливо прошли километров пять вдоль дороги.
На лесной опушке замелькал огонек. Он посылал навстречу тоненький луч, запутавшийся в ветвях.
– Что там? – Борисов осторожно пошел вперед, прячась за деревьями.
Свет горел невысоко над землей, будто елочная звезда.
Распятье. Они видели такие на литовских дорогах. Дубовый деревянный крест и раскрашенное, с каплями крови на ранах, тело Христа. Над хмурым ликом, потемневшим от непогод, и терновым венцом сияла зажженная лампада.
– Жилье близко, – сказал Борисов и подумал: «Наверно, какая-нибудь старуха или дед каждый вечер зажигают эту лампаду. Вокруг все перемолола война, а эти люди выходят на дорогу и зажигают огонек, чтобы он светился в ночи. Какого дьявола они это делают?»
– Да, – заметил Морозов, – здорово отсталый по части религии здесь народ.
– Очень старое распятье, – сказал Ивашенко. – Есть что-то хорошее в этом обычае зажигать свет для путников.
– Чего он брешет, наш стрелок? – спросил Морозов. – Ты что, в бога веришь?
– Ничего не верю. Просто вижу красоту там, где ты не видишь, хотя и летаешь, как бог.
– С таким лихим экипажем мы еще полетаем, – огрызнулся Морозов. – Смотри, стрелок, чтобы Муха у тебя не тявкала... Поищем святых старичков.
Они подошли к домику на опушке. За ним тянулся луг и снова лес. Дом стоял за невысоким забором.
– Хуторок, – сказал Морозов, рассматривая пристройки.
Окна слепые – темнота. Во дворе ни машин, ни лошадей, ни часовых.
– Постучу, – шепотом сказал Морозов, – а вы подождите...
Они пролезли в щель в покосившемся заборе, и сразу же на цепи яростно залаяла собака.
Морозов свистнул ей и тихо стукнул.
Тяжелая дубовая дверь приотворилась. На пороге стоял старик в жилете, с седой щетиной на ввалившихся щеках и с белыми усами под ястребиным носом.
– Цо ты за чловек? – испуганно отступая, сказал старик.
– Немцы есть? – шепотом спросил Морозов.
– Немцев не маэ, – ответил старик. – Жинка та дзецки.
– Вот и хорошо, дедушка. Нас тут трое, нам надо добраться до своих...
– Цыц, стара! – крикнул старик, и собака перестала лаять. – Цо пан муви?
– Русский, понимаешь, хозяин? Нам до своих добраться, чего-нибудь поесть.
– Вы с плену?
– Нет, хозяин, из лесу.
– Из лясу? – переспросил старик. – Заходьте, пане.
Они вошли в сени, где было тепло, стояла бочка, прикрытая доской, и пахло солеными огурцами.
Старик проводил их в кухню, задернул занавеску в окне, зажег керосиновую лампу.
– Сидайте, Панове, – сказал хозяин, снял с полки хлеб и, положив на стол, стал отрезать ломти. Руки его дрожали.
Гости сели к столу. Борисов держал автомат на коленях.
У Ивашенко за пазухой сидела Муха и смотрела на хлеб.
– Млека, панове? – спросил старик и поставил на стол глиняный кувшин в цветах и кружки. – Цо то за песек? Може, песек хце млека?
В кухне было тихо, в простенке тикали часы с ангелом на эмалевом циферблате. И троим пришельцам было странно сидеть вот так за молоком и хлебом на чужой земле, среди чужих людей.
О чем думает этот старик?
– Где немцы, дед? – спросил Морозов.
– В място, в городе, – сказал старик, – тутай недалеко, панове. А вам до немцев?
– Лучше бы без них, – сказал Борисов. Старик засмеялся дребезжащим смехом.
В это время приотворилась дверь, и в нее заглянули четыре заспанных испуганных лица: мальчик лет двенадцати, девочка лет трех, бабка, натягивавшая юбку и девушка с растрепавшейся косой.
– То бабця Юстина, – сказал старик, – то Юлька, мальчик Франек, а маленьку... – он не договорил.
Залаяла собака.
– Спрячь их швидце, Юстина, – сказал старик. Старуха втолкнула гостей в комнату, где стояли две постели и сундуки, подняла крышку погреба в углу.
– Полезайте, добрые люди, – сказала она, – и Юлька с вами.
Они вчетвером оказались в погребе. Во дворе топали сапогами.
* * *
– Что ты медлишь, старый осел, когда тебя требует оберет? – крикнул солдат на крыльце.
В темноте у дома, освещая двор фонариком, стоял усталый, мрачный человек.
– Ведите себя вежливо, Тьяден, – сказал он простуженным голосом, – пора понимать обстановку.
– Слушаю, господин оберет.
– Мы не хотели нарушать ваш покой, многоуважаемый господин дорожный мастер, – сказал оберет старику.
– Я его отец, Стефан Явор, пан оберет. Дорожный, мастер в городе.
– Очень приятно познакомиться, пан Явор... Мы идем издалека... Транспорт не пришел, ночь застала нас в пути, нас окружили болота, отрезали от мира... И мы шагали напрямик... Никто не знает, что здесь происходит... В лесу мы наткнулись на брошенный мотоцикл, а потом нашли кем-то убитого посыльного.... Солдаты устали. Не хочется ночью идти через лес... Позвольте моим людям переночевать у вас... Можно на сеновале... Кто в доме?
– Женщины и дети, пан оберет. Пусть ночуют ваши солдаты. Я счастлив быть вам полезным.
– Тьяден, – крикнул оберет, – устройте людей... Выставить караул.
– Позвольте проводить вас в покой для гостей. Нет ли у вас желания выпить парного молока?
Оберет сразу лег.
– Тьяден, – крикнул он,– ты присчитал этого мотоциклиста к тем, которых мы похоронили?.. – Он многозначительно взглянул на хозяина. – Дорогой пан Явор, я хороню мертвых. Я иду на восток, на север и на запад и хороню мертвых... Люди так долго и так обильно убивали, что теперь очень важно всех похоронить... Если этого не сделать, может произойти весьма нежелательное отравление атмосферы... Где ты, пьяный медведь, Тьяден? Где моя команда? Где мои таблетки... Я совсем разучился спать. И теперь снова учусь этому делу.
– Я здесь, господин оберет! – крикнул из сеней Тьяден. – А ты, старина, – обратился он к Явору,– принеси молока и не вслушивайся в слова господина оберете, они слишком трудны для понимания.
Тьяден почесал свой чугунный затылок и, памятуя наставления оберста, дипломатически вежливо спросил:
– Нет ли в твоем доме, старина, напитка покрепче, чем из коровьей сиськи?
– Принесу вам, пане, сливяночку, которую подают на свадьбах, крестинах и, конечно, похоронах, – сказал старик Явор и прошел в комнату.
* * *
– Если эта проклятущая собачонка залает?..
– А наверху она бы скулила, стала б нас искать, – шепнул Борисов.
– Не бойтесь, панове, – шепнула Юлька в темноте, – тут глыбоко под землей, ничего не слыхать. И меня тутай уже двое рокив ховают от нимцев, як воны приходят до нас в дом.
Она бойко тараторила на странной смеси русского, польского и украинского.
– Дидусю нимцы, чтоб воны сказылись, не трогають, и батю тож. Он дуже хитрый, дидуся. Сидайте, я сейчас огонек засвичу.
Юлька зашарила по полу и наткнулась на Ивашенко.
Ивашенко осторожно обнял ее и глухо сказал:
– Не надо огня, Юлька, еще немцы увидят.
– Та ни...– засмеялась Юлька,– отсюда ничего не видать. Ой, пан, пустите, я пощукю сернички.
Борисов зажег зажигалку. Морозов в исподлобья посмотрел на; Ивашенко:
– Везучий ты парень, стрелок! А, ну, не тронь девку! – зашептала Юлька– Пан офицер шутит.
Юлька нашарила свечку, Морозов ее засветил, и когда она разгорелась, все зажмурились: так, ослепительно засияли в, дрожащем свете глухие стены погреба, а розовое, с трепетными тенями лицо Юльки показалось таким красивым и хорошим, что Ивашенко грустно вздохнул.
А если вот сейчас сюда войдут немцы? И это будет его последним боевым днем... Обидно погибнуть на самом пороге победы. Но Ивашенко не думалось об этом. В глубине души ему казалось, что это невозможно. И хотя многие его товарищи погибли и он становился на место погибших, ему казалось, что с ним этого никогда не произойдет. И даже когда он видел мертвых рядом – вот совсем недавно этого немецкого летчика и мотоциклиста, – он видел смерть как то, что может быть только вне его, а не в нем. И даже когда он был ранен и боль наполняла его и напоминала о смерти, он не понимал и не ощущал, что смерть может за ним прийти. Он не верил, не чувствовал, что такое с ним случится. А вот прелесть молодого Юлькиного лица и теплоту ее кожи и улыбки он чувствовал, и сердце его билось сильнее. И он сильнее сжимал автомат, который доверил ему Морозов. Он смотрел на Юльку и радовался ей, и Юлька не умела отвести от него взгляда.
У Морозова были другие мысли. Он думал о брате, о матери. Он думал и о конце войны, и ему страстно хотелось заглянуть в то, что будет после нее, и он зажмуривался, и по телу его пробегали мурашки счастливого волнения. Такая ослепительно прекрасная жизнь должна была начаться для всех: и волшебное изобилие и не менее волшебное единение всех воевавших с фашизмом. И эти тайные его мысли, которые он стеснялся высказать другим, одолевали его сейчас в погребе. Он вспоминал и Липочкина, вспоминал, как они, несмотря на запрещение, купались в ледяной воде в море, как он без успеха таскал его на танцы, его доброту, проницательный свет его глаз и прекрасную, деятельную силу его ума, который ему, Морозову, так много впервые отворил в мире. Думая обо всем хорошем, обо всем что должно остаться навеки, нельзя было его не вспоминать. Он гордился погибшим другом и связывал его дела с величайшим благополучием людей. Не мог он не думать и о том, что если ворвутся немцы, то надо как-то отбиться, уйти от них, чтобы еще раз полететь, окунуться в небо.
Он в трепетном волнении обошел погреб. Найти лаз, щель... Но щели в стенах были тесные – мышиные норы, которые никуда не вели, и он вернулся на свое место. Как в самолете, оно было рядом с Борисовым. Его мечты о конце войны тянулись основой, и надежда вырваться из погреба вплетала в нее свою прочную и причудливую нить. Сердце его стучало, и он сжимал пистолет, как руку друга.
Борисов полулежал на полу, прислушиваясь. Казалось, он слышит над головой шаги обыскивающих дом, скрипучий, будто половица, голос деда. Нет, он не выдаст их, иначе зачем здесь Юлька? И почему деду испытывать к этим в мышиных мундирчиках чувство приязни и дружбы? За то, что они сожгли Варшаву и гоняли вот таких Юлек на работу, как скот? И собирали чужой урожай? Вместо дорог тянули колючую проволоку? Нет, дед не выдаст. Заставляя себя разумом верить этому, Борисов не мог освободиться от тревоги. Он не думал о себе, он думал о Вере, о сестре Аннушке, и ему казалось, что им угрожает какая-то опасность и он должен вырваться отсюда, чтобы их спасти. Ему тоже вспоминался Костя Липочкин, он ему тоже был сейчас особенно необходим. Он умер в бою, они не слышали от него жалобы, он только передал: «Я ранен». О чем он думал тогда?.. Однажды он рассказал, как взвесили луч солнца. Это показалось им, Борисову и Морозову, таким сказочно удивительным, что они долго не могли прийти в себя от восторга. Липочкин обладал этой счастливой способностью – думать о самом интересном, о самом удивительном, а не о себе. Его мысли и сердце всегда были отданы жизни. И в последнюю минуту он, быть может, решал задачу вроде той, с солнечным лучом. И, вероятно, он, Борисов, что-то хорошее и доброе перенял от погибшего стрелка. Перенял, и долго еще будет передаваться ему нечто невесомое, а может быть, имеющее вес, как луч света, от сердца к сердцу, от переставшего биться к живому. Борисов лежал и думал о близких, о гибели Кости и забывал о себе.
А у Юльки на дне ее проснувшегося ранней холодной весной сердца шевелилась одна мыслишка – мысль о коротеньком огарке свечи. Она смотрела на него с ожесточением и твердила про себя, как молитву: «Ой, догори, догори скорийше!..» И невольно подвигалась к Алексею Григорьевичу, который ей казался всей прелестью и доблестью дружественной воинской силы. Но свечка крепилась, потихоньку трещала и не желала гаснуть, хай визьме ее хвороба!
А что же будет, когда свечка погаснет? Юлька сможет тогда не прятать лицо, не опускать глаз, как при этом ослепительном свете. И никто не прочтет ее мыслей, и она, не стыдясь, станет глядеть в темноте на своего соседа и еще совсем, совсем немного придвинется к нему.
Так и не дождавшись той счастливой минутки, когда свечка дотает, Юлька уснула и привалилась к Ивашенко, а он, стараясь не двигаться, чтобы не разбудить Юльку, смотрел в угасающий огонек свечи.
– Похоже на поезд: сидим и едем к черту на рога, – шепнул Морозов, отрываясь от своих мыслей. – Самое время что-нибудь рассказать, какую-нибудь историю.
– Давайте, ребята, – шепотом предложил Борисов. – Раз крысы сразу не пришли, до утра – порядок. Я, что ли, начну. Вот сейчас думал о сестренке, а потом вспомнил историю. Не выдумка, а, понимаешь, самая настоящая. Один парень знакомый говорил...
Борисов стал рассказывать о том, как летчик выскочил без парашюта с двух тысяч метров и остался жив.
– Такое происходит раз в тысячу лет, – сказал Ивашенко, – а еще говорят, не бывает человеку счастья, везенья. И знаете, ребята: у меня тоже такое чувство, что со мной ничего не случится, черт его знает откуда, но уверен.
– Ты здорово счастливый: стоит тебе сесть в самолет, и он, как миленький, топает на вынужденную, – сказал Морозов.
– Не в том дело, ребята, – заволновался Ивашенко, – понимаете, у меня чувство, будто я навечно живой! – Он едва не рассмеялся громко и захлопнул рот ладонью, а глаза его продолжали блестеть и смеяться. – Ну понимаете, придут немцы, а мы как-нибудь выскочим. Не верите? Постреляем их и выскочим.
Морозов, может быть, в первый раз улыбнулся, глядя на стрелка.
Догорела свечка, и погреб наполнился темнотой.
– Ребята, – сказал Морозов, – в этом вонючем погребе, где так и шибает прошлогодней капустой, все вспоминаю, как я с батькой в деревне за грибами ходил. До чего легко дышалось! Места у нас березовые, к осени лист от ночного холода начинает позванивать. Днем светло, солнечно. Очень меня в родные места тянет... Стал я летчиком в войну, но какой же я военный? Кончится вся эта завируха, разобьем фашизм, уйду на землю... Я же теперь и механизатором, кем хочешь могу. Пускай батька с маткой в городе. Батька настоящим рабочим стал слесарем, а я домой хочу. И, понимаешь, ни большие дома, ни трамваи, ни театр, ни вечера в Доме офицера – ничего такого мне теперь не надо. А вот пойти на пашню или в лес березовый...
– Ведь только что из леса, – шепотом сказал Борисов.
– Да нет, то другие леса, Саша, – возразил Морозов. – После войны, наверно, и в этих легко станет.
– А у меня, – зашептал Ивашенко, – одно желание: поскорее до своего дела добраться. Столько всего повидал – кажется, на всю жизнь хватит. Главное – чтобы войне конец и чтобы, понимаете, ребята, это была последняя. Готов для того еще хоть десять раз садиться на вынужденную.
– Никто после нынешней не захочет ее снова. Если найдется такой тип – определят в сумасшедший дом и будут показывать как редкость, – сказал Борисов. – У нас, конечно, такого не найдешь. У них– черт его знает.
Морозов раздумывал. Войной он был сыт по горло.
– Ну, а если 6 снова к нам пришли? Все равно, старик, сами натянем китель.
– Послушай, Коля, – сказал Борисов, поудобнее устраиваясь на полу, – надо будет – натянем. Китель свой в шкаф повешу. На отдельный гвоздик. Но я, ребята, тоже мечтаю о мирной работе. И, знаете, о чем? Хочу в транспортную авиацию. Однажды, ребята, видел, как самолет привез зимой персики из Батуми. Вот запах был! Представляешь, как пахнут персики в самолете! А людей возить! Как это в рассказах пишут? Врач торопится к больному, зима, вьюга. Впереди отвратительная посадочная площадка. Иногда во сне вижу. Лечу, а мой пассажир спрашивает: «Нельзя ли, товарищ, скорее? Время дорого». Гляжу на спидометр – и просыпаюсь... Нет, ребята, кончится война, у меня, честное комсомольское, найдется работа.
– У одного нашего Ивашенко неконкретная профессия, – заговорил Морозов. – Что такое художник. Так, ничего определенного: портретики, пейзажики. Предпочитаю, ребята, цветную фотографию. Вот у Липочкина было настоящее дело: расчеты. Астрономические расчеты – это тоже не совсем серьезно. Очень нужно тебе знать, плавает ли звезда «эн» на расстоянии одного светового года от Земли или трех! А вот расчет кривизны арки моста – это, конечно, настоящая работа, и в ней Костя был гениальный парень.
– Скучно ты рассказываешь, Булка, – сказал Борисов.
– Давай без прозвищ, – шепнул Морозов. – Скучно не скучно, а девушкам я нравлюсь, и ладно. И если тебе надо все знать про звезды, если у тебя без этого нет аппетита, изучай сколько влезет и рисуй картинки.
– И буду рисовать картинки, – с упрямством сказал Ивашенко. – Искусство, конечно, победит войну!– добавил он, холодея от восторга и волнения. – Искусство помогает жить при самых паршивых обстоятельствах.
– Не орите, Ивашенко, вы не на митинге.
– Я отлично знаю, что сижу в погребе и рядом немцы, – прошипел Ивашенко, – но это не доказательство.
Каждый остался при своем мнении, и только Юлька ничего не слышала и не знала, что свечка давно догорела, что они в темноте и ее голова лежит на плече у Ивашенко и что он осторожно, боясь разбудить, поддерживает ее. Он старается не шевелиться, руки и ноги у него затекли. Он забывает о немцах, которые совсем рядом, и прислушивается к дыханию Юльки, к ее вздохам и детскому легкому похрапыванию, а за стенами погреба проходит ночь.
* * *
Она проходит по небольшому польскому городку, где теперь с каждым днем все меньше немцев. Городок живет среди полей, лесов и болот, в стороне от широких дорог, но окна затемнены.
Спит город, но не спит пан ксендз. Он сидит в своем кабинете – высокой суровой комнате. Стены уставлены книгами: отцы церкви, польские историки, собрание классиков, среди них Толстой, Чехов; в русском переводе Маркс и Энгельс, труды их в особом шкафу под ключом.
Ксендз уже немолод, лицо покрыто, словно пылью лет, узором тонких морщин. Щеки лежат на высоком воротнике, ксендз размышляет. Он ненавидит проигравших «победителей», но он боится и этих людей с востока, он читает их книги, чтобы понять, в чем сила и в чем слабость этих людей, ибо сказано: нет слабости без силы и нет силы без слабости...
В семьях пришельцев складывают пожитки. А может быть, война обойдет эти леса и болота? Может быть, она изберет более удобные и более широкие дороги? Многие люди в этом городе, заброшенном и затерянном среди болот и лесов, начинают подумывать, что заброшенность и отдаленность от всего и ото всех, от автострад, от властей, а по мнению некоторых верующих, даже от господа бога может обернуться величайшим счастьем. И хозяин маленького магазина безалкогольных напитков, куда горожане заходят выпить бокал лимонада, говорит своей жене:
– Ты всегда меня тащила, Зося, в большой город: «Поедем, поедем, там так весело!» А теперь у тебя завелись здесь свои делишки. Может, у тебя любовные делишки, Зося?
Зося молчит, ей хочется спать.
– Если о нас забудут и война пройдет мимо, тогда ты оценишь преимущества нашего городка, – говорит хозяин...
В ночной темноте к городу подходит мальчик Франек. Дед Явор послал его в это опасное путешествие, чтобы переправить троих русских. У пана ксендза отличное знакомство среди людей из леса. Он многое может, пан ксендз.
Франек пробирается задворками и тихонько царапается у черных дверей дома, увитого хмелем. Старуха служанка проводит его к ксендзу.
У Франека нехорошо на душе. Он обманул пана ксендза, выпив молока с хлебом перед тем, как пойти на исповедь, а это большой грех. Теперь он грешен, и это уже не поправишь до следующей исповеди. В смущении он входит к ксендзу, который знает всех своих прихожан и помнит грешника Франека. Но Франек набирается мужества: он пришел не за отпущением грехов, а по поводу тех троих в погребе. И он довольно бойко обо всем рассказывает.
– Вот что, Франек, – говорит ксендз и гладит мальчика по голове, – передай деду, чтобы его гости зашли выпить стаканчик лимонаду к пани Зосе и спросили: «Нет ли у вас, пани Зося, вчерашнего кюммеля?» Она ответит: «Нет у меня никакого кюммеля», и тогда они могут поговорить о деле. Запомнил?
Франек кивает.
Городок в десяти километрах от дома дорожного мастера Явора, и мальчик возвращается на рассвете.
– Ну что, сынок? – спрашивает дед, когда перед ним в сумраке бесшумно вырастает Франек.
– Пускай спросят у пани Зоей вчерашнего кюммеля, – говорит Франек.
– Это можно, – говорит дед, – это неплохо.
* * *
На заре команда оберста собирается в путь. Пьет чужое молоко, жует сухари. Команда оторвалась от своих частей и сейчас шагает в городок.
– Мой храбрый Тьяден, – говорит оберет, – нам не хватает двух покойников для ровного счета.
На дороге за этим дело не станет, не беспокойтесь, господин оберег.
Тьяден утешает своего начальника. И зачем только господин оберет торопится на фронт? Впрочем, где он теперь, фронт? Может, к счастью, война к тому времени, когда они разыщут своих, окончится! Не так давно он, Тьяден, был патриотом, но когда день за днем зарываешь мертвых, перестаешь уважать войну. Тьяден понимает, что это плохо, но он втайне давно уже возненавидел свое благородное занятие... Даже парное молоко не доставляет радости, как и это свежее утро. Оно такое, словно в мире нет войны, и Тьядену хочется реветь… А как славно они начинали!..
* * *
Старый Явор, переодев летчиков в ботинки, штаны и рубахи, в шапки с ослепительными козырьками, сидел на приступочке и любовался.
Летчики жмурились от яркого света после бессонной ночи в погребе и с любопытством поглядывали друг на друга.
Юлька носилась, по собственным словам, як скаженная.
– Ось яки гарнесенькие у нас батраки, дидуся! – кокетливо повторяла Юлька, не сводя глаз с белокурой курчавой головы Ивашенко.
Бабця Юстина испекла блинов на кислом молоке, подала картошку с простоквашей. Она молчала, и лицо ее едва выглядывало из глухо повязанного платка.
Юлька все подкладывала, и подливала, и носилась вокруг стола будто ветер. Глаза у нее горели. Вот ведь какое привалило ей счастье.
– Пийдем, Алексей Григорьевич, скотине сена задать, – говорит она и прижимается к плечу Ивашенко, сидящего робко за столом.
Юлька заводит его в сарай к скотине и взволнованно шепчет:
– Вы до пани Зоси не ходьте: она с немцами гуляла. В костеле мувили. Вы лучше идите до столяра Ганьского, разыщите его на Краковской, семь. Он двух беглых русских девчат из неметчины сховал и ваших переправляет... Он вас любит.
Юлька все это шепчет быстро, быстро, глаза ее так и сверкают.
– Вы летчики? – шепотом спрашивает Юлька. – вы еще прилетайте до нас, як война скинчится? Дидуся говорит, что теперь швидко.
Юлька осторожно кладет руки на плечи Алексею Григорьевичу.
– Я, как вас увидела, сразу залюбила. Я з вами куда желаете пийду, – жалобно от стыда и смущения говорит она, – хоть в кинец свиту!
Ивашенко поражен, и ему хочется сказать доброе и хорошее слово этой дикой Юльке.
– Кончится война, приеду к тебе, Юлька, – и ему кажется, что он обязательно так и сделает, но еще чувствуя на плечах маленькие загорелые руки Юльки, соображает, что вряд ли посчастливится ему снова попасть в эти польские глухие леса.
Юлька сняла с пальца тонкое оловянное колечко, первое колечко – подарок матери.
– У тебя нет кблька? Возьми. А теперь кинь его у крыннцю, – шепнула она.
Ивашенко подошел к колодцу посреди двора, красовавшемуся воротом, железной цепью и ведром. Из него тянуло свежестью. На дне еще купался месяц.
Ивашенко наклонился и бросил кольцо.
Круги едва скользнули по тихой воде. Только месяц скривился на мгновение, задрожал и снова замер.
– Ось, – сказала Юлька удовлетворенно, – теперь ты виртаешься за моим кольком.
– А может, и правда вернусь, Юлька? Муха теребит Ивашенко за штаны.
– Брысь вициля, чтоб тебя разорвало! – шепчет Юлька.
Муха отбегает в сторонку.
(Окончание следует)
Рисунки Л. Ливанова