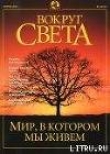Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №06 за 1962 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
Жанр:
Газеты и журналы
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 8 страниц)
Массиньи присвистнул:
– Счастье, что Тиль арендовал эту машину до самого Леокина.
Жан Янзен кивнул:
– Через восемь дней не будет ни маниоковой похлебки, ни банки консервов для тех, кто не подчинится компании. Как говорится в конституции Бельгийского Конго, каждому человеку не возбраняется отдать свои знания и средства для блага своего большого государства... И мы молчим!
На следующее утро Беннисон, отправляясь завтракать, вытаращил глаза: на домике Эльзы красовались щит с длиннохвостым бельгийским львом и вывеска: «Верховный комиссар Бельгийского Конго – новый район Киви-Киви».
– А завтрак все-таки дадут? – спросил Беннисон у Жана, возившегося с кастрюльками.
– Варите себе кофе на костре и сами ищите геологические профили, все ваши специалисты уезжают вместе со мной. Да, геологи, картографы, минеры, техники решили, что тонуть для блага компании явно невыгодно.
– Это нарушение контракта! – закричал Беннисон. – Ладно, Янзен, не будем ссориться: хороший кофе и банку бараньих консервов с лепешками... Вот, что я вам скажу, все правительство сегодня будет у меня. Нет, не смеюсь, – приказываем-то ведь мы...
Агент не договорил, кого он имел в виду: компанию Де-Беерс, каучуковую корпорацию или нефтяной концерн, медный синдикат или компанию по разработке монацита. Разве дело в названии!
– Слушайте, Жан, поговорите с Тилем. Принудив его прилететь в Киви-Киви, компания решила сломить этого упрямца. Уговорите Тиля согласиться на десять процентов стоимости сырья.
– И он получит письменное подтверждение?
– Конечно! Компании нужно убрать его с дороги, понимаете? Черт, кто там палит?
Где-то вдали стреляли. Беннисон вытащил из металлического ящика свой журнал, вынул из него каких-то два листка и, вздохнув, расписался около печати. Потом передал их Жану и объяснил:
– Второй экземпляр с подписью Тиля пришлете назад.
Стрельба приближалась. Вбежал один из белых старателей:
– Ваньямвезийские стрелки! Слышите, прокладывают дорогу...
Шум был такой, словно стадо слонов пробиралось сквозь тростниковые заросли.
Поздно вечером один из стрелков вернул второй экземпляр договора, подписанного Тилем. В тот же момент из чащи поднялся самолет и взял курс на север.
* * *
...В Хейсте, неподалеку от дюн, в домике, покрытом черепицей, сидит седой парализованный человек. Открывается дверь, и входит огорченная Эльза Вандермолен:
– Тиль, не волнуйся, но Де-Беерс снова снизила твою годовую ренту!
– Нам хватит?
– Конечно, но они гребут миллионы, а ты, отдавший свою кровь, здоровье и жизнь, получаешь гроши.
– Мое здоровье, моя жизнь... А миллионы бесправных негров – подлинных хозяев этой страны? Их кровь и пот льются потоком... Но час освобождения близок! Скоро все, что на земле и под землей, будет принадлежать настоящему хозяину – народу Африки.
Иногда Тиль получает из далекой Африки дружеский привет. Читая письма Баантумичо, Тиль снова видит девственный лес, болота и землю, веками скрывавшую алмазы, которые так и не принесли счастья людям.
Сокращенный перевод с немецкого В. Матвеевой.
Осторожно, мины!

В древнем славянском могильнике были найдены зерна пшеницы. Высаженные в землю, они пустили ростки: в течение многих веков в них таилась жизнь.
На островке в устье Вислы был найден огромный склад гитлеровских боеприпасов. Погребенные в морском песке, они ждали: в течение шестнадцати лет в них таилась смерть.
Есть в Польше люди, для которых давно окончившаяся война не воспоминание. С разных концов страны приходят порой грозные сообщения: «Найдены неразорвавшиеся мины!» И тогда появляются саперы – молодые парни, которые еще не родились или были малышами, когда шла война. Теперь они уничтожают ее следы.
В мае прошлого года люди, одетые в зеленые мундиры, стальные шлемы и вооруженные саперным оборудованием, пришли на зеленый вислинский остров у Собешева. Здесь в 1945 году отступавшие гитлеровские части оставили в земле тонны затаившейся смерти.
Молодые солдаты обезвредили десятки тысяч снарядов. Они трижды прочесали остров, ощупав сантиметр за сантиметром десять гектаров поверхности. Это была тяжелая и опасная работа...
Им, саперам Кашубского подразделения, посвящается этот фоторепортаж.

Медленно, шаг за шагом идет странный караван. На специальных носилках саперы переносят тяжелый минометный снаряд. Нужно следить за каждым шагом. Резкое движение, потеря равновесия грозят катастрофой.

Красный флажок означает место, где лежит снаряд. Наступает самый трудный момент: нужно определить, нет ли поблизости хитро замаскированного «сюрприза». У сапера уже немалый опыт. Он хорошо знает все самые хитрые выдумки фашистских минеров. Осторожно разгребает руками песок. Вот показался диск: большая противотанковая мина.

Проще всего взорвать все боеприпасы сразу, на месте. Но взрывы перепугают детей в лагерях, уничтожат лес. И саперы пошли на риск: все снаряды перенесены в отдаленное место. Здесь смертоносные грузы укладываются в глубокие траншеи. Звучит глухой взрыв – задание выполнено.
Текст Е. Войдылло / Фото Л. Вдовинского
Приключения «бандунгской пилюли »
Необыкновенные приключения происходят не только с людьми. Иной раз они выпадают и на долю... деревьев. Есть такое дерево – цинхона. Сто лет тому назад она переселилась из западного полушария в восточное и обрела новую родину в Индонезии.
Что заставило цинхону совершить столь дальнее путешествие?
Однако расскажем все по порядку. Родина цинхоны – Южная Америка. Это дерево росло в прохладных влажных лесах на склонах Анд. Никто не обращал на него особого внимания до тех пор, пока не выяснилось, что кора цинхоны содержит ценное лекарство – хину. Мы не знаем, кто и при каких обстоятельствах обнаружил целебные свойства этой коры. Известно только, что настой истолченной в порошок коры применяли для лечения малярии еще в первой половине семнадцатого века испанские монахи в Перу.
Долгое время принято было считать, что впервые в Европу целебную кору привезла из Перу испанская графиня Чинчон (отсюда и несколько искаженное название дерева: «цинхона»). По преданию, графиня сама излечилась корой от страшной лихорадки и поила потом этим горьким лекарством всех больных малярией. А вернувшись в Испанию в 1638 году, она привезла с собой драгоценное снадобье.
Но двадцать лет тому назад один английский ученый доказал, что во всей этой истории нет ни слова правды. Графиня Чинчон, оказывается, никогда в жизни не болела малярией. Привезти кору в Европу она тоже не могла, потому что умерла в пути, не добравшись до Испании.
Видимо, мы так и не узнаем, кто первый завез бесценное лекарство на наш континент. Но кто бы ни был этот безымянный человек, он сделал доброе дело. В семнадцатом веке в Испании и Италии свирепствовала малярия. Врачи были беспомощны, они не умели лечить эту таинственную болезнь и даже не знали, что ее разносят комары. Заморское снадобье сулило излечение десяткам тысяч больных. И несмотря на то, что хина стоила очень дорого, спрос на нее возрастал с каждым днем. «Каскарильерос» – сборщики коры цинхоны – хищнически истребляли хинные деревья в Южной Америке.
В 1852 году голландцы решили раздобыть семена цинхоны и выращивать ее на Яве. Но правительство Перу, опасаясь конкуренции, строжайшим образом запрещало вывоз за границу семян и ростков хинных деревьев. Тогда голландцы решили пробраться в малодоступные горные районы Перу, похитить семена и тайком переправить их за границу. Поручить такое сложное и опасное дело можно было только опытному ботанику, который сумел бы отобрать нужные семена и доставить их на Яву в целости и сохранности.
Выбор пал на Карла Юстуса Хасскарла, немецкого ботаника, который уже пятнадцать лет жил на Яве и работал в Богорском ботаническом саду.
...В один прекрасный день никому не известный господин прибыл в Лиму, столицу Перу. Оттуда он отправился по тропам в горные леса, где с опасностью для жизни добыл драгоценные семена и ростки. Ему удалось переправить их в Лиму, где его ждал помощник, который сразу же переслал их в Панаму, чтобы затем доставить на Яву.
Но в Панаме возникло непредвиденное осложнение, которое свело на нет все старания Хасскарла. Из-за нелепого недоразумения семена и ростки пролежали в мешке почти полгода и погибли.
В 1854 году Хасскарл снова отправился в Южную Америку. На этот раз он решил проникнуть через Перу на территорию Боливии. Ему сопутствовала удача, и он собрал очень много ценных ростков. Сгорая от нетерпения, голландцы послали за Хасскарлом военный корабль. Ростки были упакованы в специальные ящики, чтобы они не пострадали при перевозке. Однако за время пути многие ростки увяли из-за жары и начали разлагаться. Из пятисот ростков, собранных в Боливии, уцелело только семьдесят пять. И лишь на шестнадцати из уцелевших сохранились зеленые листья. Эти ростки были посажены на восточном склоне яванской горы Геде.
Но в последующие годы выяснилось, что сорта цинхоны, привезенные Хасскарлом, не оправдали его надежд. Они плохо росли на яванской земле, к тому же их кора содержала мало хины.
Цинхоне суждено было переселиться на Яву другим путем. Помог этому Чарлз Леджер – английский торговец, много лет проживший в Южной Америке. У Леджера был слуга – индеец по имени Мануэль Инкра Мамани. Он показал своему хозяину заросли ценной породы хинных деревьев на берегах реки Маморе в Боливии.
В 1851 году в городе Ла-Пас кусочки коры этих деревьев были подвергнуты химическому анализу. Оказалось, что они содержат большой процент хины.
Некоторое время спустя Чарлз Леджер переехал в Австралию, но мысль о хинных деревьях не давала ему покоя.
Вскоре Мануэль получил большое письмо от своего бывшего хозяина. «Собери немного семян и пришли их мне!» – умолял Леджер. Верный слуга исполнил эту просьбу...
В декабре 1865 года на Яву прибыла небольшая посылка: один фунт семян цинхоны. Огромные деньги получил Леджер от голландского правительства за эти семена. Оно даже выплачивало ему пенсию, когда он состарился.
А Мануэля замучили до смерти за то, что он переправил семена за границу.
Почти все хинные деревья на Яве – потомки тех немногих семян, которые были присланы Мануэлем около ста лет назад. Один фунт семян сделал Яву мировым центром производства хины.
В Индонезии хинин называют обычно «бандунгской пилюлей». В апреле 1955 года в Бандунге происходила историческая конференция стран Азии и Африки. Отсюда на весь мир прозвучали страстные слова против колониализма. Индонезийские газеты писали в те дни, что «колонизаторам пришлось проглотить горькую «бандунгскую пилюлю»!
В. Островский
А. Кучеров. Трое

Чуть слышно шумели ручьи. Мокрые черные ветви, еще обнаженные в светлой тишине, обсыхали на солнце.
В безветренном затишке у пня рядом с кабиной раскрылась на стебельке белая чашечка подснежника. Чудо спасло его от гибели, и теперь он благоухал в тени искореженного крыла.
Кабина врезалась в огромный муравейник, и тысячи муравьев уже занимались восстановлением и переустройством своей страны.
Рядом на озере отдыхали перелетные птицы.
Недалеко на реке лось, выйдя из чащи и не увидев вокруг никого, только диких коричневых уток, осторожно пил воду, прислушиваясь к весенней тишине.
«Вот, кажется, и все, – подумал Ивашенко, открыв глаза. – А все же я сбил этого гада, товарищ командир». Ивашенко казалось, что он говорит Морозову, хотя это была невысказанная мысль, стучавшая в его мозгу. Он потрогал лицо и посмотрел на руку: на пальцах была кровь. «Опять, как в прошлый раз, разбил морду о ручку пулемета». Руки и ноги были целы, он мог ими двигать. В голове гудело и звенело, но он был жив.
Он даже зажмурился почти с таким удовольствием, как в детстве, когда его будил в постели солнечный луч. Но в следующее мгновение его вдруг отчетливо пронзила мысль, что он лежит на днище самолета, что пахнет горючим и стреляными гильзами и что если они и не взорвались, то их падение мог заметить противник и преследователи вот-вот будут здесь. Он поднялся и огляделся. Впереди полулежал Борисов. Он стягивал бесполезный шлемофон, с трудом снял его, зажал голову в руках и помотал ею, как будто кто-то лил ему на макушку холодную воду.
– Товарищ капитан, живы? – спросил Ивашенко.
– Жив, как видишь.
Морозов сидел на своем месте, рука его лежала у приборов, а голову он втянул в плечи, как от удара. У его ног сидела Муха и лаяла.
– Молчи, молчи, собака. Морозов, Коля! – позвал Борисов.
– Ну? – Морозов поднял лицо, выпачканное кровью. – Пить, штурман. Воды!..
– Давай я тебя перевяжу, – Борисов протянул командиру флягу, достал индивидуальный пакет и перевязал Морозова.
– У меня в голове, братцы, что-то перекатывается, как дробь... – сказал Борисов.
– До свадьбы заживет. Поздравляю с посадкой, штурман. Здорово благополучно сели! – отрываясь от фляги, промычал Морозов. – Но радоваться рано, ребята. Проверьте оружие.
Он сказал это с трудом. Штурман и стрелок проверили пистолеты, они были полны патронов.
– Бортпаек!
Какие добрые руки собирали этот паек! Здесь было все, что по закону положено летчику в аварии: три плитки шоколада, три пачки галет и отдельно солдатская фляжка в суконном чехле – с чистым спиртом. О ней позаботился механик.
Они отстегнули парашюты и стали вылезать из самолета, протискиваясь мимо старого высокого пня, сорвавшего дверь с кабины.
Ивашенко, принявший на себя все обязанности Липочкина, позвал Муху.
– Ребята, – сказал Морозов, вытирая мокрое от пота лицо, – не будем жаловаться.
Они разбавили спирт водой и по очереди выпили из крышки фляги. Ивашенко вспомнил о пулемете, снял и выбросил затвор. Приборы разбились при падении. Все это сейчас было не нужно: ни пулемет, ни приборы.
Борисов достал карту, компас и попытался определиться.
– Судя по всему, нас снесло на юг километров на сто—сто пятьдесят от своего аэродрома. Вокруг, наверно, полно немцев. И где-то рядом линия прорыва Второго Украинского.
– Слоеный пирог, – сказал Ивашенко.
– Посмотрим, – сердито сказал Морозов.
Сверху все видно ясней, а на земле у них не было ориентиров. Они не знали точно, где находятся. И надо было подальше уйти от самолета. Борисов предложил продвигаться на восток.
Пошли сквозь лес напрямик. Морозов шел молчаливый, сосредоточенный. Он старался понять, допустил ли ошибку. И когда он ее допустил? Забыл о противозенитном маневре? Нет. Не в этом дело. Осколок заклинил рули. Эту случайность невозможно предусмотреть. Обычно это ведет к гибели. А он попытается выбраться и вывести своих ребят назло всей фашистской сволочи в мире. Все же у него железные парни. Идут по болоту, как следопыты. Ивашенко, конечно, не Липочкин, но идет неплохо.
На земле лежала прошлогодняя листва, и пахло сыростью. Вокруг то рыжие сосны, то ива да ольха с розовыми сережками.
Они шли всё на восток и заблудились в болоте. Болоту не было конца, оно светилось изумрудными крошечными озерцами, рыжей прошлогодней осокой, уходило в гнилой кустарник. Оно дышало и полнилось водами проснувшихся весной ручьев, зловеще хлюпало под ногами. Ивашенко, маленький и легкий, шел впереди, за ним Муха.
Они шли и ползли, перемазавшись в болотной жиже, мокрые, страшные. Один раз Морозов провалился по пояс: он был самый тяжелый и грузный. Ивашенко и Борисов еле вытащили его на тропу. Морозов улыбнулся одними губами на черном от грязи лице.
– Стрелок ничего, молодец, чувствует землю... Постояли, чтобы отдышаться.
Они так измучились на этом проклятом болоте, что не могли говорить. И, наконец, выбрались в дикий, нехоженый лес.
Два часа шли по компасу все на восток. И вдруг гуще потянулась ива, они вышли к пойме. Насколько хватало глаз до самого горизонта стояла вода.
– Разлив, – сказал Морозов, – похоже, как у нас на речонке дома. Летом курица вброд перейдет, а весной прямо великий океан: берегов не видно. Умыться бы...
На огромном пространстве стояла вода, играя на солнце. Вдали плавали дикие утки. Они поднимались невысоко, снова садились на воду, купались, что-то кричали.
Пока люди умывались, Муха побегала у воды, попробовала, какая она на вкус. Вода понравилась. Муха вошла чуть дальше, замочила лапы и сразу выскочила.
– Что, холодно? – сказал Морозов. – То-то!..
Они свернули на север. Шли часа два вдоль разлива, за кустами ольхи и за ивами, и снова перед ними, закрывая дорогу на север, изогнулась река, бледно-голубая, с легкой дымкой, а за ней – бесконечное болото и сотни маленьких озер, светившихся, как осколки зеркала.
– Озера да болота, – сказал Борисов, – и нигде ни души. Для начала неплохо.
– Хорошо для начала, – согласился Морозов. – Как себя чувствуете, ребята?
– Отдохнуть бы, – сказал Ивашенко. Он едва держался на ногах.
– Вечером отдохнем, жестко отрубил Борисов.
– Голова вроде не моя.
– Держится, и ладно. Попробуем теперь немного к югу. Надо выбраться из болот.
– Зато здесь труднее попасть волкам в зубы.
– Ты о каких? На четырех ногах или на двух?
– Предпочитаю на четырех, – сказал Ивашенко.
– Смотрите, какой умный, – сердито сказал Морозов, – просто замечательно умный у нас стрелок.
Они пошли к югу, пугая птиц. Солнце теперь ласково грело мокрые лица.
Под вечер стало ясно, что они окружены разливом рек и речушек, что они одни в этом лесу, на островке суши среди болот и остается только ожидание. Из боя их швырнуло в тишину, воды взяли их в плен.
* * *

Они мучительно устали. Их лихорадило, болело тело, болели ссадины и ушибы.
Чтобы обсушиться, Морозов разжег в ямке костер, с трудом насобирав сухих веток, и следил за тем, чтобы он не давал дыму.
– Я этому в детстве научился, когда лошадей пас,– сказал он, лежа на земле и раздувая пламя.
Захотелось пить. Воды было сколько угодно. Ее вскипятили в кружке Ивашенко, которую тот по солдатской привычке таскал с собой.
За весь день они съели по дольке шоколада и по галетине. В кипяток прибавили спирта и теперь, посушившись и умывшись, дремали у костерка. Спать условились по очереди.
Первую половину ночи не спал Борисов. В лесу плакал филин, на болоте кричала выпь. Шорохи ночи, ночной холод и ночная тишина пугали и настораживали.
Летчик спит на чистой постели; ночью, если он не летает, для него как бы кончается война. Кончается и потом приходит снова. Но он ест из тарелки и за столом и пьет из стакана. И он не всегда знает, что значит спать на земле, и шагать по грязи, и перемазаться в глине от сапог до фуражки, и мокнуть под дождем, и пить из лужи, если нет воды и очень хочется пить, и голодать, и жевать свой последний сухарь, твердый, как подкова. Борисов воевал в небе, и эта первая ночь в плену у воды, и сон на земле под открытым небом, и чувство голода – все было новым и, как все новое, обостряло жизнь; и соль, казалось, стала бы солонее, если была бы соль.
Луну спрятал туман, в нем растворились дальние стволы, кусты.
– Коля, – спросил шепотом Борисов, – ты ничего не слышишь?
Морозов мгновенно смахнул с себя сон, прислушался.
За туманом лепетала вода.
– Это река, – шепотом сказал Морозов. – Она возвращается в русло, она, понимаешь, вышла из берегов, сопит и плещется. Ты разве никогда не слышал?
– Дай закурить.
Морозов с вечера собрал все папиросы в общий фонд. Их осталось тридцать.
– Бери, – сказал он, – на твоем счету ровно десять. Кури хоть все подряд.
– Я одну! Когда куришь – будто теплее.
– Поспи.
Борисов привалился к спине Ивашенко, а Морозов, положив пистолет на колени, сел спиной к стволу старой сосны.
И пока он сторожил, подремывая, вспомнилась весна в средней полосе России, где он родился, – светлая, чистая и холодная, с поздними снегами в ложках. Здесь все было иным, словно и сюда доносилось дыханье моря.
С прорыва блокады под Ленинградом он почти каждый день, когда позволяла погода, летал. Один раз его сбили, и он сел с Борисовым в поле, очень близко от аэродрома. И то, что случилось с ним сейчас, под конец войны, было непривычно и странно и рождало необъяснимое чувство, словно ему дали отпуск из воинской жизни на неизвестное время. Он в лесу, окруженном водой; спадет разлив, и он войдет в вой» ну, как река в свое русло. Но сейчас даже голод не мог убить в нем забытого ощущения покоя и тишины. А рядом дремало смутное ожиданье опасностей, предстоявших, когда схлынет вода.
* * *
На заре проснулись тысячи птиц: утки, бакланы, чомги, и завели разговоры. Они летели на север и отдыхали у воздушной дороги. Огромные крылья прошумели над лесом – может быть, лебеди. Говорят, они живут в этом болотном краю.
Солнце выползло из-за края земли среди редких, легких, как пух, облаков; темно-красное в первое мгновенье, оно быстро стало золотым. И вода, казавшаяся ночью черной и слепой, вдруг обрела свои голубые оттенки, словно прозрела, гляделась в небо и отражала его. Кусты ивы стали розовыми, на них зазеленели сережки.
– Ребята, подъем, – сказал Морозов, – мыться, и поищем яиц.
Он посмотрел на уток, плававших почти у берега. И все же стрелять не следовало: услышат, чего доброго.
– А я уж давно не сплю, товарищ капитан, – сказал Ивашенко, лежавший на лапах сосны, положив голову на руку, смотрю, как тут здорово красиво. Были бы краски, я бы тут пожил. Я ведь человек городской, таких мест никогда не видел. Даже о войне забываешь.
– Не беспокойся, она о себе напомнит, – сказал Морозов.
Что-то мешало ему принять дружбу этого голубоглазого человека. Липочкин тоже жил в своем мире и, как представлялось Морозову, многого не понимал в жизни, но то был святой справедливости человек. А этот казался наивным, чудаковатым и беспомощным. Пересиливая в себе неприязнь, стараясь быть справедливым, как Костя Липочкин, Морозов позвал Ивашенко.
– Мойся в кустах, чтобы не было видно твоей замечательной личности. Тут, между прочим, немцы, может, сидят, как и мы.
– Да нет здесь никого, – убежденно сказал Ивашенко.
– Много ты понимаешь. Морозов нашел пять утиных яиц.
– Ну и жизнь! Как в санатории! – восторженно сказал Ивашенко.
– Может, последний раз в санатории, – мрачно ответил Морозов. – Ты только не пугайся, стрелок. – Морозову доставляло удовольствие дразнить Ивашенко.
– А чего мне? Я как все, – сказал Ивашенко. Когда разожгли в ямке костер, Борисов еще спал.
– Пусть еще поспит, не шуми, – сказал Морозов. – Он столько полетал, ему можно.
– Пусть слит, – согласился Ивашенко и улыбнулся своей обезоруживающей улыбкой.
Морозов испек яйца, вскипятил воду и стал будить друга.
– Где я? – вскочил с земли Борисов.
– Тебе виднее, ты штурман. Стрелок утверждает, что мы в санатории.
Морозов выдал каждому по галетине и папиросе:
– Шоколаду не будет.
Муха получила свою скудную порцию. Поев, они забрались в кусты. Оттуда открывались и лес, и вода, и болота.
– Заметили, как убывает вода? Может, к ночи выпустит. Тогда пойдем на восток... Главное, правильно себя чувствовать, ребята... Войне, может, осталось всего ничего, мы победили, и нам в самый раз шагать победителями. Мы здесь люди, а не эта коричневая нечисть. И здесь польская земля. Не такое уж трудное дело топать по земле друзей.
– Вы не говорите, вы изрекаете, командир, – насмешливо сказал Ивашенко.
– Ничего я не изрекаю, но я только что понял очень важную штуку: мы не должны бояться собственной тени и черт знает чего еще. Предлагаю возвращаться на аэродром спокойно, как крестьяне с поля. Тогда мы всюду пройдем.
– Сельские жители, которым надо идти по ночам и не наступить на сухой сучок. Три пистолета и три обоймы патронов, по десять папирос на брата и разбитые в кровь морды... – сказал Ивашенко.
– По девять папирос, – поправил Борисов. – И ничего, хоть и по девять, а пройдем.
– По девять так по девять. Не обращайте внимания на мои слова, командир. Во мне сидит бес противоречия, я всегда спорю, вторая моя натура.
– Ну и спорь.
– Так ведь спорю, а сам очень хорошо понимаю. Пойдем, как победители, это по мне, – легко рассмеялся Ивашенко.
Морозов вспоминал полеты с Борисовым. Сколько раз с трудом дотягивали до земли, и никогда Борисов не унывал! А как они ходили на бомбометания с малых высот, на его, Сашки Борисова, знаменитые бомбометания!
– Сегодня еще раз понял, почему стал летать с тобой, Саша, – сказал Морозов. – Упал с тысячи метров – и чувствуешь себя человеком. Вот почему.
– Агитируешь, Коля?
– Агитирую.
– Товарищи, это рай, это болотный санаторий! Я, кажется, начну говорить стихами, – сказал Ивашенко, стараясь показать, что и ему не страшно и даже как будто весело.
– Ну и валяй, а я не написал и двух строк, похожих на стихи, – с сожалением и любопытством сказал Морозов. – Мне это не угрожает.
Они лежали в кустах и курили и смотрели, как закипает в кружке вода. В кружке жила успокоительная сила родных вещей.
И такой же покой источал цветок на тоненьком зеленом стебле. Он выглянул из-под прошлогоднего листа и тянул к солнечному лучу мохнатую желтую голову.
В кружке поднимались пузырьки, и от пузырьков тоже веяло чем-то спокойным. Прилетела бабочка-капустница, белокрылая, серебристая. Она села на желтый цветок и замерла, едва вздрагивая от слабых порывов теплого ветра.
Ивашенко потянулся к ней рукой. У него даже рот раскрылся от удовольствия.
– Не тронь! – крикнул Морозов.
Ивашенко отдернул руку, пустил в бабочку струйку дыма, и она улетела. Он смотрел вдаль на мокрые черные кусты, на лес и горизонт. Г лаза резало от блеска и солнечного света, скользившего по воде.
– Хватит нам кипятку, на что он?
– А чтобы как на охоте. Постреляли уток, вернулись, кипятим чаек, – сказал Морозов, оглядываясь. – Здорово я любил с отцом в лес ходить! На охоту не брал, а за ягодами – пожалуйста. Почти такой же лес, летом всякой ягоды – заешься!
– Давай рассказывай, чтобы на часы не глядеть. Стемнеет – и пойдем, – предложил Борисов.
– О чем? О любви? Так ты же знаешь: жениться я не удосужился, и вопрос этот для меня серьезный.
– Для меня он тоже был серьезный,– сказал Борисов. – А теперь решенный вопрос. А у тебя сейчас – та рыжая из парикмахерской? Расскажи.
– Хорошая девушка, – сказал Морозов, стараясь вернуть из бесконечной дали их разговор и неожиданно явственно вспомнив ее чистое, горячее дыханье. – Хорошая девушка, – повторил он, – вот русский плохо знает...
– Ну и брось ты это дело, Коля, по-дружески говорю.
– Твой совет сейчас как раз вовремя, – рассмеялся Морозов. – Нет, я у тебя по другому случаю прошу совета.
Морозов столкнул с огня кружку, засыпал огонь землей.
– Про ту девушку в Доме офицера; я уже тебе про нее рассказывал, ну, она у меня вроде миража в пустыне: глазами видишь, а нет ни адреса, ничего. Будь я самый счастливый, и то по теории вероятностей не встречу. Блажь!
– Другую встретишь, – сказал Борисов.
Веска, и ветер с запахом ив, и озерная тишина – все настраивало на небывалый лад, и непривычные мысли лезли в голову, светлые, словно вымытые в весенней воде.
– Вот мы решили говорить о любви, – сказал Морозов задумчиво, – так мне же, ей-богу, нечего вам, ребята, рассказать. Впрочем, вспоминается одна глупая история, еще довоенная. Был я тогда совсем зеленым парнишкой и полюбил ходить в театр, когда мы в город из деревни приехали. Выпрошу у матери денег, приглажу вихры и отправляюсь с ребятами. Иногда и без денег – зайцем. Театр в нашем городке казался нам огромным, была своя, постоянная труппа. У режиссера такая странная фамилия двойная, вторую часть еще помню: Замирайло или Загорайло. Ставили разные пьесы: и современные и классические. Я классические очень любил. «Отелло» три раза ходил смотреть, так жалко Дездемону было. Ну вот, отправился я с дружком без билета, проскочили мимо капельдинера в партер; только стал гаснуть свет, юркнул я на пустое место. Сижу, на сцену смотрю.
Поворачиваю глаза – рядом Дездемона, то есть другая, но вроде бы и та.
– И ты влюбился?
– Ну конечно: сразу! Положил руку на подлокотник да нечаянно и прикоснулся к ее руке. Ощущение такое, будто замкнулось электричество в двадцать тысяч вольт! Чуть до люстры не подбросило. И главное– никто этого электрического удара не чувствует, ты один. Едва в кресле сидишь: перед глазами туман, и рука словно приросла к той, другой. Чудовищно сильное ощущение... Ну вот, сижу я рядом с Дездемоной, ничего на сцене не вижу, ослеп и оглох.
Наконец понемногу загорается свет, поворачиваю голову и вижу: соседке-то моей за сорок, и лицо у нее злое, тяжелое. Это игра угасавшего света превратила ее в красавицу. Я убежал на галерку и смотрел второе действие оттуда. Вот вам и любовная история.
Морозов засмеялся веселым, ребячливым смехом.
– Тише ты! Кричишь и вправду, как в доме отдыха.
– О, свет – великая сила! – сказал с глубочайшим убеждением Ивашенко. – На палитре у художника лежит свет, в магазине в коробках продают радугу.
– Фантазер ты, – сказал Морозов. – А все же неплохо, входишь в магазин и просишь: «Заверните мне радугу».
Они еще долго говорили – о многом, кроме того главного, что их сейчас больше всего заботило.
* * *
К вечеру они вышли из окруженья воды и пошли в сторону фронта, на северо-восток. В густом ольшанике они наткнулись на обломки немецкого самолета. Мертвый летчик лежал в разбитой кабине, он был в шлеме, в черной кожаной куртке, с искаженным лицом.
– Может, этот нас подбил, собака? – сказал Морозов.
– Не скули, Муха, – сказал Ивашенко собачонке. «Просто я очень штатский, – думал он, стараясь не смотреть на мертвого летчика. – Не твоя это профессия, несчастный шпак!»
Они подошли к дороге, обыкновенной асфальтированной дороге. Никто по ней сейчас не ехал и не шел. Она была как река, казалось, в ней отражаются звезды. Они пошли рядом с дорогой на север, лесом.
– У меня план такой, ребята, – сказал Морозов. – Дойдем до первого подходящего жилья, только бы жили в нем поляки. Они здорово не терпят эту фашистскую сволочь и уж как-нибудь помогут... Слышите?..
Вдали все громче и настойчивее трещал мотор.
В фосфорическом свете луны блестела дорога. Ветви деревьев рисовали на асфальте черные тени.
Показался мотоциклист. Он был весь черный. Он мчался без огней. Может, ему было страшно на этой глухой земле среди чужого народа!
Когда он приблизился, Муха неожиданно выскочила из-за пазухи Ивашенко и залаяла.
Мотоциклист остановился.
– Ах ты, сука! – зашипел Борисов.
Ивашенко бросился на собачонку и прижал ее к земле, но она продолжала жалобно тявкать.
Мотоциклист остановился и опустил одну ногу на асфальт. Может быть, в лае собачонки ему почудилась близость спокойного жилья среди дьявольской лунной ночи. Он, наверно, знал дорогу и старался вспомнить, где здесь поблизости хутор или деревня, но вспомнить не мог и озадаченно осматривался. Одна его нога была на педали, а другая твердо стояла на земле. Теперь блестели пуговицы его солдатской формы.