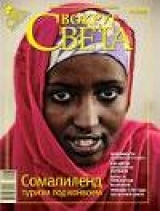
Текст книги "Журнал «Вокруг Света» №08 за 2009 год"
Автор книги: Вокруг Света Журнал
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 9 страниц)
Я кивнул – министерская скидка меня устраивала – и полез за кошельком. Долговязый сел выписывать мне разрешение. «И вот еще что, – вдруг сказал министр. – Вам необходимо нанять вооруженный конвой. Это закон. Министерство здесь бессильно». – «Сколько это стоит?» – «Сто тридцать долларов, – сказал министр. – И эта цена окончательная. Для вашей же безопасности». – «На безопасность у меня есть десять долларов», – сказал я правду. Министр снова посмотрел на меня, как на идиота, и скрылся в кабинете, громко хлопнув дверью. Мухи мгновенно заполнили приемную. Парень протянул мне отпечатанное разрешение. «Отдадите полицейскому, который охраняет Лаас-Гиль. С вас двадцать пять долларов». – «Почему двадцать пять?» – спросил я. «Ну как же, – удивился парень. – Пятнадцать за разрешение и десять за вооруженный конвой. Подождите здесь, я скоро вернусь». И он пошел искать автоматчика.

Обмен денег в Сомалиленде возможен практически повсеместно. Фото: SWIATOSLAW WOJTKOWIAK
Расплата будет тяжелой
Болезненную по своей сути мечту обладать чемоданом денег на сегодняшний день легче всего осуществить в Сомалиленде. В отличие от многих других непризнанных государств мира, пользующихся валютой соседей или даже того государства, независимости от которого они требуют, Сомалиленд пошел по другому пути. Решив, что введение в обращение собственной денежной единицы – это первый шаг к независимости, власти страны объявили об этом уже в 1994 году. То есть спустя три года после заявления о выходе из состава Сомали и на целых семь лет раньше принятия новой конституции в 2001-м. Грандиозные планы Национального банка республики предполагали вначале выпуск не только банкнот в 5, 10, 20, 50, 100 и 500 сомалилендских шиллингов, но также и монет мелкого достоинства, вплоть до центов. Однако этим планам не суждено было сбыться. Уже к началу 2000 года официальный курс составлял 5000 шиллингов за доллар, а в настоящее время приближается к 7500. Таким образом, отсутствие банкнот выше 500 шиллингов привело к тому, что сегодня за один доллар дают 15 сомалилендских купюр самого крупного номинала, а более мелкие просто перестали печатать. Обращение с этими деньгами требует определенных навыков, а подчас – дополнительных мест багажа. Нетрудно подсчитать, что, обменивая на базаре в Харгейсе 100 долларов на шиллинги, человек получает 1500 купюр. Эти полторы тысячи не только займут половину небольшого рюкзака, но и существенно его утяжелят. Как правило, все сомалилендские деньги находятся в очень плохом состоянии и многие заклеены скотчем, что увеличивает их вес. Однако сервис, окружающий процедуру обмена денег, делает все это не таким страшным. Пятисотшиллинговые банкноты расфасованы в перетянутые резинками пачки по 100 штук, которые не нужно пересчитывать – этого не делают даже сами сомалилендцы, поскольку честность уличных менял безупречна. Кроме того, крупным денежным транзакциям (от 30 долларов) всегда сопутствует бесплатный пакет. С таким же пакетом рекомендуется ходить за покупками вместо кошелька – на сегодняшний день в мире нет бумажника, подходящего для сомалилендских объемов наличности.

Одним из побочных эффектов от употребления наркотического растения кат считается длительная потеря аппетита. Однако это относится лишь к тем, кто жует его постоянно. Фото: SWIATOSLAW WOJTKOWIAK
Пожевать всего хорошего
Шахада, то есть мусульманский символ веры, изображенный на флаге Сомалиленда, прямо указывает на то, что непризнанная страна в будущем видит себя исламской республикой. Подтверждает это и национальный девиз: «Свидетельствую, что нет Достойного поклонения, кроме Аллаха; свидетельствую, что Мухаммед – посланник Аллаха». В соответствии с нормами ислама алкоголь в Сомали находится под полным запретом, и в отличие от ряда мусульманских стран для него не существует даже подпольного рынка. При этом в Сомалиленде процветает употребление наркотика под названием «кат». Кат (или чат) одно время попал под запрет даже в соседней Республике Сомали, где, впрочем, массовые недовольства довольно быстро вернули ему легальный статус. В Сомалиленде же кат продается повсеместно и круглосуточно – такого не увидишь даже в Йемене и Эфиопии, где он тоже пользуется большим спросом. Везут кат в Сомалиленд как раз из Эфиопии, а перевозками занимаются выходцы из стран СНГ: один или два раза в неделю из города Дыре-Дауа самолет со свежим катом и русскоязычным экипажем вылетает в сторону Харгейсы. По большому счету, наркотик представляет собой короткие ветки кустарника семейства бересклетовых, а его употребление сводится к простому пережевыванию их молодых листьев. В Сомалиленде кат продается с лотков увязанным в толстые веники. Тот, кто привык к алкоголю или другим наркотикам, скорее всего, не получит от употребления этого препарата никакого эффекта, кроме, возможно, расстройства желудка и зеленых, как хвоя, зубов. На тех же, кто вырос среди мусульманских запретов и практиковал кат с самого детства, он оказывает весьма сложное действие. Как правило, люди просто становятся веселыми и болтливыми. Иногда – агрессивными. Еще реже – видят галлюцинации. Впрочем, это редкость. Человек, сжевавший много ката, обычно не опасен для окружающих. Как и сам кат не может нанести вред здоровью того, кто его употребляет. Однако он наносит ощутимый ущерб семейному бюджету, из-за чего прозван в Сомалиленде «врагом семьи». Даже низкосортный кат стоит весьма недешево, а для достижения эффекта употреблять его нужно постоянно, тратя на него практически все заработанные деньги. По европейским меркам кат, пожалуй, не так и дорог. Однако не стоит покупать его в качестве сувенира: в большинстве стран мира за попытку провезти этот наркотик полагается серьезный тюремный срок. Даже в бесконечно далекой от ката Канаде за его ввоз можно получить до 10 лет заключения. Довольно много за препарат, который не вызовет у рядового канадца ничего, кроме проблем с желудком.
Бербера. История в порту
В маленьком непризнанном Сомалиленде очень мало больших городов и еще меньше таких, где есть что-то, что может сойти за достопримечательность. И есть всего один город, где иностранцам дозволено находиться без какого-либо специального разрешения, – это Харгейса. Я сидел в машине, которая ехала в Берберу, главный порт Сомалиленда и по совместительству главный порт не имеющей выхода к морю Эфиопии. Большой сосед получал и отправлял через Берберу множество самых разных грузов, позволяя избранным зарабатывать на этом гигантские деньги, а всем остальным – слоняться по припортовым районам в поисках хоть какой-то работы.
Мне нужно было в этот город любой ценой. Именно отсюда я планировал отправиться в соседний Джибути. В маленькую богатую страну отплывали деревянные корабли, груженные тысячами овец и коз. Их экипаж составляли индийцы-мусульмане. Вооруженные лишь плакатом с изображением Мекки, задыхающимся дизельным мотором, мобильным телефоном и умением ориентироваться по звездам, они совершали этот маршрут в среднем раз в десять дней. Однако точного расписания у этих рейсов не существовало – все зависело от спроса. Если Джибути требовал овец, индийцы переставали уныло бродить по порту с термосами индийского чая и, вооружившись молотками, начинали строить трапы, по которым овцы вперемешку с козами покорно взбирались на их корабли. Если с мясом в Джибути был достаток, рейс мог отложиться на неопределенное время, оставляя без денег сомалийцев-скотоводов. Если не считать такие коррумпированные сферы, как обслуживание морских перевозок, торговлю продуктами и продажу ката, перегон скота – самый важный сомалилендский бизнес. И единственный по-настоящему традиционный.
«Тебя не пустят в Берберу без вооруженной охраны, – сказал мне кто-то. – А если ты проберешься туда, то опоздаешь на свой обратный самолет. Потому что корабля до Джибути ты будешь ждать вечность». Я сделал вид, что не расслышал. А потом и вовсе забыл.

Вместо разрушенных бомбардировками домов наскоро строят новые. При этом в ход идет любой доступный материал – от мешков из-под гуманитарной помощи до консервных банок и упаковочного картона. Фото: SWIATOSLAW WOJTKOWIAK
Я вспомнил об этом в тот момент, когда доел жирную козлятину с рисом и подошел к умывальнику. Машина, везущая меня и других пассажиров в Берберу, стояла чуть поодаль и едва угадывалась в темноте. Дежуривший у умывальника мальчик протянул мне вместо мыла щепотку стирального порошка. Здесь, посреди пустыни, на крошечной станции для припозднившихся водителей, все ели руками.
До Берберы оставалось чуть меньше 100 километров по разбитой ночной дороге. Водитель доедал свою порцию козлятины. Он не спешил. Ему не хотелось за руль. Не хотелось опять останавливаться на каждом полицейском блокпосте и объяснять удивленным полицейским мои планы.
Те знали одно – то же, что знал и я: в Берберу без вооруженной охраны нельзя. Поэтому на всех блокпостах, вырастающих посреди пустыни из ниоткуда, они подолгу вертели в руках мой паспорт с двухголовым орлом. «Журналист?» – говорили они единственное известное им английское слово. «Турист», – убеждал я. Это слово полицейским было незнакомо. Они уходили в свои грубо сколоченные полицейские сараи. Водитель пытался идти за ними, но они криками прогоняли его прочь.
В сараях при свете масляных или керосиновых ламп полицейские долго совещались о чем-то, понимая, что пропускать меня вперед нельзя и в то же время не представляя, как можно отправить меня назад. Было видно, что прецедент до сих пор не создан. Поэтому каждый раз они приносили обратно мой паспорт и хмуро говорили «велкам», надеясь, что об их решении пропустить меня никому не станет известно.
Миновав более дюжины блокпостов, мы въехали в Берберу за полчаса до полуночи. Вдоль дороги потянулись низкие неосвещенные дома. Во многих домах были проломлены стены – еще не так давно здесь шли бои и на город с воздуха летели бомбы. Проломы были кое-как заделаны полиэтиленовой пленкой и разрезанными пополам 50-килограммовыми мешками из-под гуманитарного риса. Вдали слабыми огнями горел порт. «Куда?» – спросил водитель. «Отель «Мансур», – сказал я и тут же пожалел об этом.
«Мансур» был лучшим отелем страны. По крайней мере так говорили все. Основания им не верить у меня не было. Шестидесятидолларовый отель в стране, где одна половина людей живет в домах, сделанных из мусора, а другая зарабатывает чуть меньше 10 долларов в месяц, не мог не быть лучшим. Видимо, из-за возможного гнева обеих половин сомалилендского общества отель «Мансур» – излюбленное место отдыха крупных торговцев катом – расположен в шести километрах от города по пустынной дороге.
Машина мчалась по мягкому песку, поднимая облака пыли. Невдалеке ревел океан. У высокого, залитого голубым лунным светом бетонного забора лучшего отеля страны нас встретил автоматчик в камуфляже. Я вышел на мягкий песок. Автоматчик проверил мои карманы – оружия у меня не было. Водитель махнул мне рукой, и машина скрылась в темноте. Из ворот вышел заспанный управляющий. «Мне нужен номер», – сказал я. «Шестьдесят долларов, – сказал он то, что я уже знал. – И у нас есть пляж». Передо мной стояла дюжина побитых ветром бетонных домиков, громко тарахтел генератор, пахло дизелем и сырым бельем. Наверное, это был один из немногих случаев, когда за фразу «шестьдесят долларов» можно было убить человека. Наверное, стоило наорать на управляющего. Но я не стал орать. Я просто пошел прочь. «Я могу попробовать найти для вас такси», – вяло предложил управляющий. Я мотнул головой.
До Берберы было около шести километров по мягкой песчаной земле, и я рассчитывал пройти их за час. «Мансур» быстро исчез в темноте. Рев океана мгновенно стал громче. Огромное черное небо сделалось ниже и накрыло все вокруг, как плащ-палатка. Далекие отблески Берберы скакали вдоль горизонта, вытянувшись в ряд, как огни эквалайзера, даже не думая приближаться.
Когда я вошел в город, было далеко за полночь. Вдоль дороги потянулись брошенные дома с черными пустыми окнами. В отличие от Харгейсы, где оставленные после войны развалины занимали нищие, здесь их не трогал никто. На пустивших трещины стенах криво висели выгоревшие довоенные вывески. Задолго до того, как въехать в город, я пытался узнать, есть ли в Бербере центр. Люди не понимали вопроса. Потом кто-то категорично сказал: в Бербере центра нет, это портовый город. Тогда я не поверил, но сейчас, поднимаясь по одноэтажной улице в сторону порта, где хотя бы виднелись отблески света, я начал понимать, что это чистая правда.

В связи с нехваткой и дороговизной любых стройматериалов при постройке деревенских домов в ход идут практически любые подручные предметы. Например, распрямленные бочки из-под топлива. Фото: STUART FREEDMAN/PANOS/AGENCY.
PHOTOGRAPHER.RU
Улица была абсолютно пустой. Потом я увидел большой старый «мицубиси». С работающим двигателем и горящими фарами он стоял на месте и как будто ждал меня. Его издыхающий дизель надсадно стучал, а тонированные стекла звонко дребезжали в такт. Из «мицубиси» вышли улыбчивые люди с автоматами. Мы пожали руки. Краем глаза я заметил, что их новенькие китайские «калашниковы» сняты с предохранителей. Улыбчивые люди спросили, как меня зовут. Я ответил. «Полиция», – сказали они с повелительной интонацией. Я сел в машину. Слева и справа от меня уселись автоматчики. «Безопасность», – сказал кто-то. Я кивнул. Машина ехала по мертвым улицам умирающего от нищеты города. Ее фары выхватывали из темноты убогие сараи и тощих собак. Потом показалось здание полиции – разбитая бетонная глыба. Перед глыбой на земле и на бетонных блоках сидели не меньше 30 вооруженных людей и, не снимая оружия, занимались разными делами – смеялись, ели и спали. По-арестантски, в сопровождении двух автоматчиков, я вышел из машины. «Русский», – сказали мои сопровождающие и запрыгнули обратно, оставляя меня на попечении 30 стволов.
Потом пришел шеф полиции Берберы. Он был изящен, высок, имел гладко выбритую голову, лакированную кобуру и белые ботинки. «Велкам», – сказал он единственное известное ему слово. Потом я сидел в его армейском пикапе и под охраной полудюжины вооруженных людей, разместившихся в кузове, ехал в портовый отель, который для меня выбрал шеф полиции, – огромное разваливающееся здание с бесконечными больничного типа коридорами. Потом он требовал, чтобы мне дали лучший номер по лучшей цене. Потом мы долго жали друг другу руки. «Велкам, – говорил шеф полиции. – Велкам».
А потом я заснул. Без каких-либо снов, сожалений и страхов. Я спокойно спал, не обращая внимания на комаров, а когда рано утром в дверь постучали, я просто встал и повернул ключ. На пороге стоял шеф берберской полиции – изящный, высокий, с гладко выбритой головой, с лакированной кобурой и в белых ботинках.
«Рашн Байбл фор ю», – сказал он тщательно заученную фразу. В мои руки легла тяжелая истрепанная русская Библия. «Презент», – пояснил шеф полиции и быстро пошел прочь, видимо, опасаясь благодарностей и, конечно же, вопросов, на которые он бы все равно не смог ответить. Но тогда в коридоре портовой гостиницы у меня не было сил удивляться и тем более приставать с расспросами о происхождении книги.
Очень скоро я сяду на забитый ревущими овцами деревянный корабль и поплыву в сторону тихого спокойного Джибути. А пока еще я здесь, в никому не известной и никем не признанной крошечной стране, про которую никто ничего не знает и которой нет ни на одной карте. Здесь все очень сложно, потому что этой страны официально не существует. Здесь нет даже музеев, а для того чтобы посмотреть на расположенный тут главный памятник всей Африки – Лаас-Гиль, нужно иметь тот вид упорства, который в других ситуациях помогает людям становиться президентами и космонавтами.
Думая об этом, я просто положил Библию на кровать и закрыл за шефом полиции дверь. А потом стал делать что-то очень будничное. Кажется, чистить зубы.
Михаил Казиник
Гараж на сто миллионов

Для обычного музея 450 экспонатов, из которых к тому же большая часть стоит в запасниках, – цифра совсем не большая. Но только не в том случае, когда экспонаты весят как минимум тонну и стоят десятки, а то и многие сотни тысяч евро каждый. В только что открывшемся Музее Porsche – 80 машин, и почти четыре сотни ждут своей очереди.
Штутгарт обычно воспринимается как вотчина компании Mercedes – недаром над внушительным зданием городского вокзала, на опершейся на него всем своим весом маcсивной квадратной башне, водружена знаменитая мерседесовская трехлучевая звезда этак метров десяти в диаметре, не меньше. Пусть Porsche собирает меньше 100 000 автомобилей в год, зато эта компания – настоящая легенда.
Среди всех сегодняшних автомобильных производителей компания Porsche занимает особое место: выпуская относительно дорогостоящие спортивные автомобили сравнительно малыми «порциями», она прибыльна и экономически независима от окружающих транснациональных автомобильных гигантов. Кстати, эта небольшая компания владеет 35% акций концерна Volkswagen (эта доля стремительно росла в последние годы), а следовательно, по германским законам Volkswagen AG является дочерней фирмой Porsche, и поэтому последняя получает право косвенно контролировать такие марки, как Audi, Seat, Škoda, Bentley, Lamborghini и Bugatti.
Но в Штутгарт мы отправились не за тем, чтобы вникнуть в детали отношений между Porsche и Volkswagen – такая задача выходила бы за рамки интересов «Вокруг света». Зато в этом городе в феврале нынешнего года через дорогу от завода Porsche (тоже, кстати, достойный объект для экскурсии) открылся Музей Porsche – своеобразная будущая Мекка для автомобилистов, самый современный музей авто, застывшая в бетоне и металле ода технологиям. К тому же экскурсию должен был провести для нас сам Клаус Бишоф, в прошлом инженер и испытатель, а сейчас директор заводского музея и один из ведущих сотрудников нынешнего, «публичного».
Музей необычный, и следовало, выдерживая стиль, приступить к визиту как можно более неординарным способом. Это оказалось просто: к тому моменту, как я приехал в Штутгарт, прошло всего полтора месяца с момента открытия музея, а ресторан при нем уже успел стать модной достопримечательностью. Начнем же с еды, а не с машин.
Директор музея Ахим Стейскал, сидя напротив меня, убедительно постукивает по столу ручкой мясного ножа. «Вот смотрите», – восклицает Ахим и щедрым жестом передает мне нож – полюбоваться. Что-то в нем мне кажется неуловимо знакомым. Где-то я уже видел эти обводы… Это же Porsche! «Да, – продолжает Стейскал, – их изготовила специально для нашего ресторана небольшая местная фирма. А дерево рукояти то же самое, что идет на деревянный руль 911-й модели». Такая продуманность в деталях поражает куда больше, чем какие-нибудь позолоченные люстры. Таков стиль Porsche: думай о главном – и так же подумают и о тебе.
Директор Стейскал, кстати, недавно был заместителем директора в Музее Daimler в Зиндельфингене. Новый Музей Porsche обошелся компании в 100 миллионов евро – это большие деньги, и за их расходованием должен был проследить опытный в таких делах человек. Неслучайно поршевский музей слегка напоминает мерседесовский, особенно внутренними интерьерами – в обоих случаях ими занималось одно архитектурное бюро. Внешне здание поражает воображение. Кажется, что этого просто не может быть, что сооружение не простоит и пяти минут. Гигантская белая коробка неправильной формы покоится, небрежно накренясь, всего на трех колоннах, расставленных как бы случайным образом. Внизу, под «коробкой», скромной лужицей растеклось низкое строение с фойе, раздевалками и автомастерской – с основным зданием служебное соединяется длинным закрытым эскалатором.
А внутри – 80 машин из более чем 400 коллекционных автомобилей, которыми располагает компания. Первое, что видит любой, воспарив на эскалаторе из служебного здания в музейное, – алюминиевый кузов знаменитой Porsche Type 64 выпуска 1937 года, прародительницы всех современных Porsche. Только кузов и больше ничего лишнего: зато у каждого посетителя зафиксируется в подсознании пресловутая «линия Porsche» и он с легкостью будет находить знакомые черты в любом выставленном здесь автомобиле. «Экспозиция будет постоянно меняться, – рассказывает Клаус Бишоф, – одни машины уедут, другие приедут, чтобы не застаиваться в стойлах… то есть в запасниках». Уедут? Приедут? «Ну да, наше кредо – все музейные машины должны время от времени ездить, – говорит Бишоф, похлопывая по боку 904-ю Carrera 1964 года. – Я вот и сам как раз вчера ездил на этой – отличная машина, люблю легкие автомобили».
Три часа прогулки по музею. Жаль, что не пара дней, три часа – явно недостаточно. Здесь никто не спешит. Экскурсантов хватает, потому что компания предлагает посетить завод и музей каждому покупателю новой Porsche – кто же будет спешить, когда есть возможность ознакомиться в деталях с тем, как делали твою машину и на что были похожи все ее предки и собратья? То, что стоит в залах музея, точнее, в странных, кажущихся невесомыми плоскостях, привольно пересекающихся под разными углами внутри огромного пространства «коробки», каждая выставочная единица – не просто автомобиль, а несомненно Porsche, за километр видно, что Porsche.
Даже то, что Porsche разрабатывает под заказ – вот спортивное купе, которое попросил «нарисовать» Volkswagen, вот прототип массового автомобиля, сделанный по заказу китайцев, – все это Porsche, если чуть приглядеться. Бесконечная вереница чудес технической мысли, протянувшаяся из середины века двадцатого в двадцать первый. Еще один девиз Posrche: «Мы слишком хороши, чтобы меняться». И не надо меняться – разве что под капотом.
Егор Быковский








