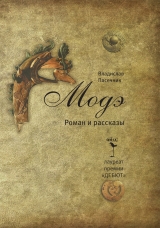
Текст книги "Модэ "
Автор книги: Владислав Пасечник
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Лицо Модэ дрогнуло. Рот болезненно скривился. Темник не смотрел больше на игрища Караша, он уставился в небо, чуть наклонив голову вбок.
– Зачем мне твоя Поднебесная? – произнес он. – Я что, привяжу ее к своему седлу?
И он посмотрел на Михру, чьи руки по-прежнему были связаны, а глаза смотрели на Караша бессмысленно и дико. Жилы на шее юэчжи вздулись и сделались красными, на лбу выступил пот. Беловолосый великан тянулся к Карашу, бессмысленно шевеля распухшими и почерневшими пальцами, открывая битый, перекошенный рот, словно зубами хотел смолоть весь этот позор.
Что-то изменилось в тот день. Празднество больше не привлекало Модэ. Скоро он прогнал слуг и забрался в шатер, не пустив к себе даже наложниц.
Он лежал в темной пустоте шатра, вглядываясь в узкую дыру в потолке. Царевич думал о пленнике-юэчжи и скрежетал зубами от бессильной ярости. Сегодня, взглянув на руки этого беловолосого, он вспомнил руки отца – полные и сильные лапы.
Вспомнилась ему далекая, холодная и голодная зима, когда он, Модэ, лежал на грязном войлоке, сжав обиженно губы, стараясь не заплакать, чтобы не услышал отец. Той зимой умерло много детей. Вот и маленькая сестренка, которую Модэ любил и нянчил, бывало, на руках, в один из дней вдруг затихла, перестала плакать и просить есть. Мать выла, била себя в иссохшую грудь, отец бил ее, не кричал, а отрывисто рыкал. Сестренка долго пролежала – она уже почернела, когда отец наконец забрал ее у матери и унес куда-то прочь. Курень в ту зиму стоял на речном берегу, холодный ветер задувал в шатер белую холодную пыль. Модэ метался на лежанке в жару, в бреду и видел только тень отца на стене, большую, заострившуюся, похожую на черного грифа.
Вспомнился и праздник весны, когда отец впервые приказал Модэ убить барашка. То была жертва древнему богу Неба, который хлестал степь своими молниями. Жертвы ему приносили в начале года, когда космы его нависали над равниной, а единственное око-солнце исчезало за густой пеленой.
Отец подвел Модэ к каменному алтарю, на котором лежал связанный барашек, и велел разрезать тому грудину. Модэ, мальчишка с глупым круглым лицом и глупыми круглыми глазами, стоял, потупившись. Нож тускло блестел в протянутой черной лапе отца, острый, как лунный серп, древний, как камни алтаря, как сам священный курган. Барашек молчал – чуть прикрыв глаз, он смотрел на Модэ и, кажется, хотел ткнуться носом в его ладонь. Он был совсем ягненок и не отвык еще ластиться ко всему теплому и большому.
– Режь грудину, – сказал шаньюй.
Модэ повиновался. Барашек молчал, когда нож делал свое дело.
– Запусти руку ему под ребра, – продолжал царь. – Отодвинь внутренности. Так… дальше!
Сухой и горький комок застрял у Модэ в горле, но он повиновался каждому слову отца. Князья-старики смотрели пристально, но их взгляды не тревожили Модэ. Только черные клешни отца, самая близость их заставляла мальчика просовывать руку дальше – к позвоночнику.
– Чувствуешь? – спросил отец.
Да, Модэ чувствовал: под пальцами билась горячая толстая жила, та, что гонит кровь прямо к сердцу. Барашек чуть повернул голову, уставив на мальчика большой розовый глаз.
– Рви ее, – кажется, это даже не отец сказал, кажется, Модэ приказал себе потянуть невидимую жилу…
– Мой сын принес первую жертву! – взревел шаньюй, поднимая тяжелые лапы, уже перемазанные кровью, не глядя на дрожащего ребенка, который еще не успел даже вытащить руку, вытереть ее о траву, очистить…
Модэ лежал на спине, глядя на ясные звезды, и царапал ногтями лицо. Он хотел вскочить, метнуться к шатру, где был связанный пленник, и убить его тут же, без всякого объяснения, – единственно за руки его, так похожие на отцовские…
Но он сдержался. Снова заговорило в нем какое-то чутье, какой-то зверь поднял уши за его спиной, и Модэ понял: юэчжи убивать нельзя. Он нужен ему, Модэ, для чего-то, как нужен старый воробей Чию и двенадцать резаков… Не двенадцать уже, а одиннадцать…
«Нет Курганника», – одними губами прошептал Модэ. Только теперь осознал он смерть лучшего своего батыра и только теперь пожалел о ней.
«Нет Курганника… Пусть! Пусть юэчжи будет двенадцатым, вместо него! Он убил, он и станет двенадцатым».
Эта мысль почему-то успокоила и усыпила царевича хунну. Он прикрыл уставшие веки и увидел на обратной их стороне приятный багровый сон. От мальчика с круглым лицом и круглыми глазами не осталось и следа. Был лишь Модэ – всадник с десятью тысячами луков, гроза юэчжи и смерть своего отца.
8
Молодой хунну с черными косицами приходил и уходил. Михра успел изучить его лицо – смуглое, рыхлое, не такое широкое, как у других хунну, – оттого, наверное, что щеки у него когда-то были усечены и отдавали той же розовой мякотью, что и рана на щеке Михры. Черные косицы его, всегда смазанные салом, блестели на солнце, как тонкие змеиные хвосты.
Он приходил дважды в день – утром и вечером. Стояли сизые сумерки, и воздух был холодным и прогорклым. Впрочем, все это пленнику было безразлично. В душе он готовился к событию большому, последнему, важному. Он не боялся. Чего бояться, если умирают все, даже боги на заре времен сошли в курганы, чтобы освободить на земле место для новой, другой жизни? И Михра умер бы – от жажды и голода, от кулаков немого страшного хунну, – но в одну из ночей случилось с ним новое видение. На сей раз не было ни мальчишки, ни сизой бычьей шкуры, а было только орлиное крыло да еще овечье око. И крыло и око неясно повисли в воздухе среди цветных пятен и багровых разводов, но сквозь видение явственно слышался голос Раманы-Пая:
– Здравствуй, брат Михра. Натерпелся ты горя. Хватит себя изводить – подчинись теперь Модэ. Тому молодому, с черными косицами. Долго он ждал. Скоро он тебя казнит.
– Я ему что, служить буду? – спросил Михра почти беззвучно, одними губами.
– За ним сила. С ним теперь воля богов.
– Он мой народ бьет. Он луга мои топчет. Я думал, мне убить его суждено… Вот это… – И Михра посмотрел на перстень. – Что еще может значить эта кровавая капля?
– Ты не Модэ должен убить. Ты другую кровь прольешь…
– Другую? Чью? Чью? – проговорил Михра, прежде чем забыться окончательно.
Его разбудили, выволокли на свет, и свет был невыносим. Его привязали к тележному колесу и облили водой.
– Денег хочешь? Табуны хочешь? Женщин хочешь? – спросил Модэ, наклонившись над еле живым великаном. За спиной царевича ходили какие-то тени, среди них Караш…
Михра с трудом приподнял голову и проговорил на языке хунну:
– Есть хочу. И пить…
* * *
Вот уже две луны жили молодые волки в отряде Салма. Разбойники пришли на зимнюю стоянку, на холмы, до боли знакомые Ашпокаю. Здесь, на этих холмах, у березовой рощи встретили они в первый раз ашавана, здесь в одной из хижин отлеживался Михра, раненный, казалось, смертельно. Все изменилось теперь: отряд встретили пастухи, сторожившие овечьи отары, хижин стало куда больше, во дворе прибавилось коновязей.
Старшие разбойники все были бывалыми караванщиками – согдийскими и бактрийскими купцами, «перекати-поле», как звал их Салм. Многие владели копьем и луком не хуже хуннских батыров. Иные плохо знали степные наречия и общались все больше с Салмом, а он-то был неплохим толмачом и мог говорить и ругаться на семи языках, как на родных.
Стая молодых волков медленно срасталась с отрядом Салма, волчата вытянулись и возмужали, и их невозможно теперь было отличить от других юных разбойников. Атья, тот и вовсе стал своим – он взял начало над всеми сиротскими душами, которых в отряде Салма было целых два десятка. Были здесь и девчонки – худые умелые лучницы, лютые до боя. «Уж не знаю даже, – вздыхал на то Атья. – Я думал всегда, что бабье дело – войлок валять, а эти туда же, на коня да в бой! Лихое время». С лучницами он обходился так же, как и с парнями, – строго и сухо, бойкие молодые волчицы посмеивались между собой, но слушались.
В первые же дни на зимней стоянке Инисмей ушел. Давно все этого ждали – не было сил смотреть, как сидит он в стороне, ест, забившись в темный угол, как спит вдали от очага, завернувшись в потертую накидку. В одно утро он просто исчез. Ушел без огнива, без ножа. Осталось от него немногое: у коновязи стоял мерин да висела еще на одной из березовых веток зашитая заячья шкурка. В ней таилось настоящее, запретное, имя Инисмея. Шкурку тут же сожгли, и значило это, что Инисмей сгинул, – вместо него по земле ходит теперь другой человек, без имени и души, но и он, безымянный, пропадет скоро – растворится в степи.
Соша молчал несколько дней, сторонился других, но потом как будто стал прежним. Он давно простил Инисмея в сердце своем и понимал: тот ушел, потому что так было нужно. Степняк не может быть трусом. Трус не должен жить среди походных костров.
Странного племени были эти вольные степняки, сиротского, оголодавшего, промерзшего до костей. Тянулись за ними дети – безродные, бездомные. Ашпокай помнил, как подобрали они одного пастушка на разоренном пастбище. Он лежал возле мертвого быка и плакал. То был великий бык, с черным, как сажа, еще теплым боком. Бактриец Салм подошел к пастушку и стал гладить его по растрепанной голове, как щенка. А мальчонка, глотая слезы, рассказывал, как пришли на пастбище хунну, как бросились наутек старшие пастухи, а хунну стали угонять коров. Как решили забить черного быка, быка-отца, а он, пастушок, самый малый, самый глупый, встал перед быком, заслонил грудью солнечные дуги его рогов и кто-то из хунну ударил его кулаком по груди и бросил к копытам быка, но тот не стал его, малого, топтать, отступил и загудел на врагов. Хунну испугались и стали пускать в быка стрелы, и, когда тот припал на одно колено, старший хунну подошел и ударил его чеканом в широкий живой висок. А пастушок лежал и не шевелился, чтобы хунну приняли его за мертвого.
Много было таких пастушков у Салма под крылом.
* * *
– Эй, прохвосты! Конокрады! Степная падаль! – кричал Модэ, поигрывая плеткой. – Мы поймаем сегодня хоть одного зайца?
Все чаще пропадал Модэ на охоте, истребляя зверя без всякой жалости. Вот и сегодня опять выехал со своими всадниками в широкую степь и Михру взял с собой.
– Эй, юэчжи! Ваше племя ведь тоже охотится на зайцев? – спросил он его.
– Да. Я прежде ловил зайцев с отцом, – ответил Михра, сглотнув набежавшую слюну. Ему непривычно было говорить без кожаного ошейника, который он носил всю весну и все лето, – его сняли только сегодня утром, перед самой охотой.
– И много ловили? – Модэ подъехал к юэчжи совсем близко, глаза его блестели смело и нагло, но Михра заметил, как сын шаньюя нервно повел плечом. Темник готов был рвануть в сторону в любой момент.
– Прилично, – сухо ответил юэчжи.
– А что же стало потом с твоим отцом? – не отставал Модэ.
– Твои люди поймали его. Поймали и убили.
– Как зайца? – Модэ даже чмокнул губами от удовольствия. – Мои люди… изловили твоего отца, как зайца?
Михра не ответил. Руки его были связаны удилами, он мог править конем, но не мог протянуть руку в сторону.
– Эй, конокрады, вы посмотрите, кто с нами сегодня охотится! – Модэ щелкнул плетью. – Степной призрак! Все зайцы от него поразбежались! Они с ним одной крови!
Всадники Модэ загикали. Они боялись беловолосого призрака даже теперь, когда на нем не было маски. Они старались держаться от него подальше, даже Караш, – а уж он-то ел зайцев сырыми.
– Подожди, господин… Не договорил я, – Михра вдруг поднял голову и взглянул царевичу прямо в глаза. – Отец убил немало твоих людей, прежде чем его схватили. Мы вместе убивали хунну. И я пил их кровь!
Модэ молчал. Он не дыша глядел на беловолосого юэчжи, рука его вдруг оказалась на рукояти меча, но это заметил только сам Михра, заметил, склонил опять голову и произнес:
– Теперь ты меня убьешь.
Кругом все молча смотрели на связанного юэчжи. Он ждал, повесив свою косматую голову.
Была осень, а прежде было лето, а еще прежде – весна, с тем страшным, позабытым. А Михры не было, был кто-то вместо него, ослабевший, исхудалый, покорный, истомившийся в ожидании…
Но Модэ ответил:
– Не дождешься – ведь ты мне нужен.
И тут же кто-то крикнул:
– Глядите! Зайцы!
И двенадцать резаков рванули туда, где замелькали в траве серые клубочки. Михра мчался со всеми, хотя в этом не было никакого толку, – участвовать в охоте он не мог. Но с шеи его уже сняли ошейник, и он мог снова вдыхать пьяный степной воздух.
Раскрасневшийся, веселый Модэ привязывал к упряжи очередную заячью тушку. Вдруг взгляд его остановился на открытой груди юэчжи, где была татуировка.
– Это что? Что значит этот лось на твоей груди? – спросил он с любопытством.
– Это мать-лосиха… – сказал Михра. – Старая богиня. Она живет на небе, кружит вокруг звездного колеса.
– Расскажи… расскажи… – говорил Модэ.
– Я мало знаю о ней. Она из забытых богов. Ей теперь поклоняется только лесное племя.
– Расскажи про лесное племя!
– Живут они далеко, в холодной тайге, обличьем похожи и на вашу, и на нашу породу, а нрав у них совсем другой, не степной. Я видел их на торгах, на сборах племен. Они далекий, чужой народ и в наши степи не ходят.
– И на вашу, и на нашу породу… – приговаривал восхищенно Модэ. – Еще, еще!
* * *
Торговля шла куда хуже прежнего. Война оборвала все прохожие дороги на запад, купцов грабили и хунну, и юэчжи, и дунху, и шакийцы. Вот и получилось, что главный торговый путь из Поднебесной в Бактрию мало-помалу стал усыхать, словно река в жаркий полдень. И люди на этом пути скоро забились, как рыбы на пустом илистом дне.
Говорили о разных разбойниках, но все больше о Салме, который собирал со всей степи бедняков и сирот. Много поездов разорил он, много увел в свои стойбища добра. Зароптали купцы во всех концах степи, встревожились правители: оскудела их казна, потускнели венцы, дорогие платья поела моль. Земля перестала родить, вода ушла из колодцев, люди кормились лебедой и древесной корой. Люди не чтили больше богов своих и во всех бедах винили теперь Салма.
Про него говорили разное: одни, что он могущественный колдун, другие – что потерянный сын какого-то заморского владыки, третьи уверяли, что это сам Ариман, задумавший принести на землю разлад и смуту. Когда слухи эти доходили до Салма, он говорил только: «Пускай ропщут. Наша правда сиротская».
В стойбище Модэ с любопытством слушал каждый рассказ Чию о Салме и его ватажниках.
– Нет страшнее человека босого и напуганного, – говорил он Модэ. – Такой человек может горы сровнять с землей и реки повернуть вспять. Помни мои слова.
* * *
Михра не ел и не пил уже несколько дней. Он и прежде неохотно принимал пищу, но теперь целыми днями сидел, склонив голову, не издавал ни звука и не поднимал глаз, когда его окликали. В мыслях своих он подружился с солнечным лучиком, что каждый день проделывал путь от порога до миски с водой. Лучик тонул в плошке, освещая на время плавающие в воде золотые пылинки. Потом наступал сумрак, и Михра забывался.
Вся прожитая жизнь текла перед его мысленным взором. На обратной стороне век возникало то, что видели когда-то его глаза, и то, чего видеть они никак не могли. Михре представилось явственно, как бьется беспомощно Малай в руках немого хунну и дрожат обвислые его усы, как ломается неслышно его позвоночник и расплывается на штанах свежее пятно мочи. Затем вдруг возник откуда-то из памяти Ашпокай верхом на Диве. Проскакав по равнине с востока на запад, он пропал, и при этом раздался громовой раскат – кажется, это кровь гремела у Михры в голове. Он видел, как высоко в горах из скал рождаются реки, как зимуют на снежных облаках птицы. Наконец все забывалось, пропадало, и Михра плакал без слез. Он был безумен.
«Ты много ждал, – шептал ему невидимый Рамана-Пай. – Ты много терпел. Осталось главное… Откажись от своего имени… Ты не сможешь закончить дело, будучи Михрой. Ты им чужой. Стань теперь одним из них, одним из двенадцати».
Черный конь переступает через курган, вот вверху проплывает его грудь, торчащие безобразно ребра и ввалившееся брюхо…
«Ты не Михра. Михра умер уже, – шептал Рамана-Пай. – Разве он мог пережить плен, разве мог пережить такой позор?»
Михра нащупал щепу в остове шатра и, не зажмурившись, быстро провел по ней ладонью. Путы позволяли ему дотянуться рукой до лица, он посмотрел на окровавленную руку, затем прошептал:
– Я сотру с губ своих прежнее имя – Михра и отброшу от себя тайное имя, данное мне богами, – Соруш. Отныне я не защитник своей земли, и зовут меня «никто».
Произнеся страшное заклинание, он размазал кровь по губам. Тут только он ощутил боль, но не от раны – что-то важное, сокровенное отлетело от него в этот миг, оставив тело и дух в болезненном оцепенении.
Михра пропал окончательно, и через несколько дней тот, кто звался прежде Михрой, вышел из шатра, и не было на его руках пут. Всадники Модэ приветствовали его как равного. Ему вывели мохноногого крепкого коня взамен прежнего исполина в рогатой маске. На упряжи болталась голова зверя – не то волка, не то лисицы, рыжая, с оскаленной пастью голова перевертыша.
Модэ сам хлопотал вокруг безымянного воина, подарил даже черный войлочный плащ со своего плеча.
Старый воробей Чию сидел перед шатром княжича и за всем наблюдал.
– Снова их двенадцать, – тихо говорил Чию. – Он алчет крови отца и крови страны – слишком много для одного человека. Распустил бы ты своих всадников, господин Модэ.
* * *
Как-то вечером бактриец отвел в сторону Ашпокая и так сказал:
– Брат твой утратил душу.
– Мой брат убит, – ответил Ашпокай тихо. – Ты смеешься над его памятью?
– Посмотри! – Салм поднял руку, на которой был перстень. – Мой коралл потускнел. Если бы Михра умер, камень треснул бы.
– Ты думаешь, он в плену? – встрепенулся Ашпокай.
– Да. Брату твоему мы ничем теперь не поможем. Но душу его спасти можно. Коралл изменил цвет сегодня утром, у нас два дня в запасе.
– Что делать? Скажи!
– Сейчас мы уедем вдвоем, – говорил Салм. – С собой возьмем только моего пса. Никто не будет знать, куда мы держим путь. Я и тебе не скажу.
– И что же? Я поеду, не зная куда? Зачем? – удивился Ашпокай.
– Узнаешь потом. С этих пор мы будем молчать. Всю дорогу ни один из нас не проронит ни слова, иначе дело пропало. Понял?
– Да, – покорно ответил Ашпокай. За всю свою жизнь в степи он видел немало странных людей, но этот бактриец – самый странный.
Потом все было просто: приторочили к упряжи кое-какие припасы и тронулись в путь. Разбойники их окликали, но они не оглянулись. Рядом с ними послушно бежал пес пасуш-хурва, лохматый, с черными отметинами на лбу.
И двигались они до глубокой темноты, и спали, не разводя костра. Наутро Ашпокай заметил, что Салм подпоясался трехцветным поясом, как настоящий ашаван. Они не произнесли ни слова, Ашпокаю казалось порой, будто они охотники и идут к звериной тропе.
«Он держится ко мне ближе, чем на три шага, – думал Ашпокай, – и не зовет меня “Ариманово семя”. Странно это, но так нужно, наверное…»
Прошел день, потом другой, к третьему закату путники вышли к кургану, провалившемуся, размытому, заросшему травами и крыжовником. Темным горбом поднимался он среди дикого поля.
И тогда Салм заговорил:
– Знаешь, что это за место?
– Это… – Ашпокай задумался. – Кажется, это курган Атара-Пая. Какой же он старый!
– Верно. Это курган бога Атара. Это место особое. Оно нам и нужно.
Потом наступило молчание, которое длилось очень долго, но Ашпокай не осмелился его прервать.
Наконец разбойник заговорил опять:
– Меня зовут теперь Салм, но прежде звали просто «магуш» или «ашаван». Прежде я обладал властью отгонять злых духов и исцелять больных. Но Ардви было угодно сделать из меня налетчика, человека степей. Я грабил купцов и сам водил караваны через пустыню. Воды Ардви донесли меня и до вашего края, где забыто имя господа моего Ахура-Мазды. И здесь я вспомнил, увидел… Три ночи я не говорил с тобой, молодой волк, а теперь говорю: боги ваши сошли в курганы, но они оставили вам свои имена. Их души живут в сердцах достойных людей, и Михра прежде обладал таким великим сокровищем, но отказался от него по своей воле. Он стер со своих губ тайное имя, – здесь Салм понизил голос, – Соруш.
Ашпокай не слышал тайного имени брата с самой ночи Посвящения. Ему показалось, что небо вдруг стало пасмурным и с севера подул ледяной ветер. Равнина заходила темными волнами, и что-то холодное обступило курган.
Салм развязал свой трехцветный пояс, достал из-за пазухи какие-то плошки, травы, узелки и велел Ашпокаю достать флягу с кислым овечьим молоком.
– Много лет не готовил я этот отвар, – сказал Салм. – И впредь никогда больше не буду. Силы мои уже не те, ум потерял прежнюю остроту. Если зелье не выйдет, мы останемся в мире духов, в Серой степи, навечно.
Он поднял пояс, растянув его над головой, и начал произносить молитву на незнакомом языке. Он смутно напоминал Ашпокаю родную его речь, но было в нем много странных звуков и слов, от которых бежали по спине мурашки.
Пес ходил тут же, фыркая и ворча на холодный ветер.
– Видишь, у пса моего черные пятна над глазами? – сказал Салм между делом. – Это вторые его глаза. У нас нет таких глаз, пока мы не выпьем отвара хаомы. Ты выпьешь ее, и у тебя тоже будут вторые глаза.
Он достал из-за пазухи кожаный мешочек, сковырнул длинным ногтем глиняную пробку и выплеснул в самую большую плошку какой-то настой.
– Сок хаомы, – произнес он, и голос его дрогнул. – Не выдохся, надеюсь…
Потом Салм толок и растирал траву, молол ее в плошках каменным пестом, заливал и ополаскивал водой. Ашпокай следил за ним, затаив дыхание. Он не знал, что ему нужно сделать или сказать, и потому просто молчал. Салм не смотрел на него больше, он весь был в работе. Молитвы и заклинания слились в бессвязное бормотание, и Ашпокая начало клонить в сон.
– Выпей, – сказал Салм. – Выпей это.
Ашпокай осторожно взял плошку и посмотрел на желтоватую жижицу.
– Все не пей. Маленький глоток сделай. Я следом за тобой, – сказал Салм.
Ашпокай зажмурился и хлебнул из плошки. Жижица была неприятной на вкус, но мягко текла по горлу. Ничего особенного не произошло – просто думать стало вдруг легче. Салм заглянул Ашпокаю в глаза, словно пытаясь увидеть в них что-то, затем отхлебнул сам.
Потом был еще один глоток. Ашпокай почувствовал удивительную легкость и свободу, слегка кружилась голова. Потом еще… Приятное возбуждение зажурчало в висках. Ашпокай уже не чувствовал, как пьет, все вокруг переставало быть, все сливалось в сером водовороте, думалось обо всем сразу, о тысяче вещей, все теперь представлялось возможным, все было понятно и ясно… И наступила вокруг тьма, тьма…
Ашпокай открыл глаза. Вернее, не открыл, и не глаза, потому что глаз не было – как и всего остального, просто взгляд его повис невысоко над черным блестящим крошевом, которое прежде было землей. Вокруг простиралась равнина, над которой громоздилось плоское темное небо. Вместо горизонта было бело-сине-желтое зарево, и Ашпокай вдруг ясно понял, что это – конец радуги. Он помчался над равниной невесомым духом и вдруг увидел на земле скрюченную фигурку. Человек сидел на корточках, раскачиваясь из стороны в сторону. Ашпокай приблизился к нему и спросил:
– Ты чего здесь сидишь?
– Холодно, – ответил тихо человек.
– Жалко, нет огня, – вздохнул Ашпокай невидимой грудью, и тут же на земле зажегся, заплясал синий огонек. В его свете Ашпокай увидел свои руки и ноги, моргнул – и веки есть!
– Ты чего здесь сидишь? – повторил он свой вопрос.
– Жду людей – Салма и Ашпокая, – ответил человек.
– А как тебя зовут?
– Соруш.
– Так я тебя и искал! – Ашпокай даже подпрыгнул от радости.
– Ты? – испугался человек. – Зачем? Кто ты?
– Я – Ашпокай, твой брат!
– Нет, – ответил человек печально. – Ты прежде был моим братом. Я теперь не Михра. Я теперь сам по себе.
– И что же делать? – Ашпокай совсем растерялся. – Где Салм?
Тут появился Салм верхом на исполинском псе. Пес был с быка ростом, шерсть его отливала серебром, а на лбу, там, где наяву были черные отметины, сверкали теперь грозно глаза. Четыре ока было у пса.
И Салм теперь стал другой: одет он был в белые одежды, на груди отливал рыбьей чешуей панцирь, а в руке сверкало копье.
– Что происходит? – бросился к нему Ашпокай. – Это что за место?
– Серая степь – царство между царствами, жизнь между жизнями, – ответил ослепительный Салм. – Я и не думал опять найти сюда дорогу… Здесь никто не знает твоего настоящего имени, поэтому ты очень силен, Ашпокай.
– Все мои желания исполняются! – Ашпокай засмеялся. – Вот смотри… Как здесь темно… Солнце, зажгись!
Но солнце не зажглось, напротив, небо сделалось еще темнее, откуда-то подул ветер, из-под земли раздался гул, будто подал голос матерый бык. Ашпокай понял, что случилось что-то страшное и ничего уже поправить нельзя.
– Это они! Перевертыши! – Соруш вскочил и принялся затаптывать синий огонек, но тот ускользал у него из-под ног.
– Его войско идет! Это Он их подослал! – сказал Салм, поднимая копье. На пальце его загорелся алым светом перстень.
Радуга померкла, Ашпокай с трудом мог различить вдали множество серых фигур, они быстро приближались, – кажется, это были всадники. Ашпокай прищурился и внезапно оказался перед ними… Да, множество всадников, иссохших, в истлевших одеждах! Скакали они верхом на тощих конях дурной породы.
– Это слуги Злого духа! – кричал Соруш. – Они за мной пришли! За мной!
Соруш стоял, сжав кулаки, теперь он стал настоящим великаном, выше Ашпокая, выше Салма с его псом. Он топнул ногой – и все войско рассыпалось в прах! Но тут же из праха поднялись древние исполины с огромными палицами и каменными топорами. Плоть их давно сделалась глиною, и глина та едва держалась на широких и прочных костях. Они двигались медленнее всадников, но все же приближались. Соруш дунул, и они рухнули замертво. И снова поднялись, изменившись, – теперь это были страшные чудовища с волчьими мордами, покрытые красной шерстью. Из крыльев трупных мух были их панцири. Они шли вперед с железными мечами и черными копьями. Радуга почти совсем потускнела, и вдали под самыми небесами ворочалось что-то немыслимое, бескрайнее, похожее на снежную зимнюю тучу… От тучи отделился черный хоботок или вихрь, медленно, неумолимо потянулся он к земле, к Сорушу… И Ашпокаю вдруг почудилось слово, понятное и страшное, выдавленное из груди ночным страхом, – Ариман!
И тогда Соруш сделался опять маленьким, меньше прежнего, и упал перед Ашпокаем на колени:
– Больше сил моих нет! Унеси ты меня отсюда!
– Как? Что мне делать? – не понимал Ашпокай.
– Усади меня к себе на спину, – сказал Соруш. – Поспеши! Смотри, Он близко, Он сейчас сильнее меня…
– Хор… хорошо… – и тут же Ашпокай согнулся под страшной ношей. Кажется, гора легла на его плечи.
– Беги, беги прочь от них! – раздался голос Соруша над самым его ухом.
Войско духов приближалось. Они рычали, лаяли, выли, все пространство почернело от них.
– Скорее беги! – кричал Салм. – Я задержу их! Ты-то уйдешь, а я уже не смогу! Они знают мое настоящее имя!
И тут только Ашпокай услышал, что перевертыши выкрикивают одно и то же слово: «Хумата! Хумата!» Это и было тайное имя ашавана.
– Беги! Беги! – шептал Соруш.
– Я и шага сделать не могу… – прохрипел Ашпокай, но все же шагнул вперед. Соруш придавил его к земле. Ашпокай уперся ладонями в черное крошево и подумал, что не сможет сделать еще шаг. Но он двинулся вперед, чтобы не упасть. Потом шагнул еще и еще. Краем глаза он увидел, как Салм верхом на серебристом псе ворвался в орду чудовищ, как засияло его копье, и услышал шипение и вой, будто перевертышей жгли огнем. Он видел, как приблизился к Салму черный хоботок, как раскинулось над ним тяжелое снежное облако…
Ашпокай шел вперед и чувствовал, как с каждым шагом ноша его становится легче, он не идет, а бежит уже, вертит головой – нет за плечами перепуганного человека, а есть крылья, большие, сильные, как у грифа! И взлетел он туда, где тускнели последние разводы радуги. Ашпокай протянул руки и ухватился за эти разводы, как за конскую гриву…
– Ашпокай, очнись! – Салм бил его по щекам и тряс за плечи. – Ашпокай… живой? Я думал, ты умер уже…
Чудовища, зимняя туча, ускользающий радужный мост… все смешалось у Ашпокая в голове.
Он разлепил глаза и увидел лицо ашавана и его взгляд – уставший, пустой.
– Я потерял свое мастерство, – сказал Салм бесцветным голосом. – Я не видел Серую степь.
– Я ее видел! И тебя там… Дело сделано! – сказал Ашпокай.
– Как сделано? – встрепенулся ашаван. – Точно? Что ты видел?
Юноша еще не вполне ощущал себя, но он сразу уловил незнакомую силу – словно новая горячая жилка забилась где-то в его теле, за ключицей или, быть может, под правой лопаткой.
– Никак не возьму в толк, что со мной было, – пробормотал он. – Все перемешалось, но… я знаю, как тебя зовут!
– Молчи! Молчи! Ты слышал его? Кто-то называл его? – Салм отпрянул. – А! Тогда все кончено для меня!
Ашпокай растер ладонью холодный лоб и чуточку надавил на веки. Перед глазами запрыгали синие кольца.
– Я спас душу брата своего. Она была у меня за плечами…
– Коли так, – Салм, пошатываясь, подошел к седельной сумке и достал что-то из нее, – коли так, то это теперь принадлежит тебе.
И он протянул Ашпокаю маску из лосиного рога. Она треснула в двух местах и сильно пожелтела, но это точно была маска Михры.
* * *
Шло время. Мало-помалу Ашпокай стал свыкаться с незнакомой силой, что жила теперь в нем. Юноша чувствовал ее явственно – то возле пупа, то под правой лопаткой. Он пытался заговорить об этом с Салмом, но не нашел нужных слов и смешался. Салм только кивнул, успокоив юношу печальной улыбкой. Кажется, и он не мог объяснить Ашпокаю всего.
В одно утро Соша привел к стойбищу чужого коня доброй рыжей масти. Соша вел коня под уздцы. К красной, блестящей, как слюда, спине был привязан человек – неподвижный, с кожей, черной от грязного сала. Ашпокай отметил, что одет всадник не бедно – в добротный синий кафтан и башлык с тремя медными бубенцами.
Салм осмотрел чужака и сказал, что тот еще жив, но скоро умрет.
– Дух смерти коснулся его своим мушиным крылом, – произнес Салм. – Несчастный человек, я ничем не могу ему помочь.
Две стрелы были в том чужаке, два черных хуннских жала. Первая стрела раздробила плечо и окрасила правый рукав темной охрою. Вторая же впилась в бок, сделав гнойную язву, в которой уже шевелились черви, белые, как китайский рис.
Чужака отнесли в хижину, и там он пришел в себя. Несмотря на страшные раны, рассудок его был вполне ясен. Он говорил тихо, но не заговаривался и не бормотал. Мальчишки, как могли, помогали Салму – таскали воду и травы для примочек, поглядывая исподволь на незнакомца.








