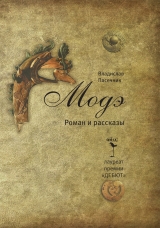
Текст книги "Модэ "
Автор книги: Владислав Пасечник
Жанры:
Историческая проза
,сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 12 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
Скелет смотрел на нас из растревоженной могилы. Это его курган мы вчера раздерновали аккордом. А сегодня, пока не было жары, раскидали насыпь, оставив только широкое кольцо крепиды. Зачистили – разровняли штыковыми лопатами, так что в центре крепиды стало видно неровное темное пятно. По нему всегда узнают могилу – даже если нет кургана. Волонтеры насели на лопаты, и скоро мы увидели скелет целиком, во всю протяженность его двухметрового роста. Мертвец от древности угрызал сам себя: верхняя часть черепа осела, зашла за нижнюю, и казалось, что скелет глядит на нас исподлобья. У бедра, скифски щерясь волчьей пастью на рукояти, лежал бронзовый меч-акинак. Возле ног раскинулся лошадиный скелет – его Специалист окрестил «крокодилом».
Вот раздались далекие раскаты – они ухали через равные промежутки времени, как мерные шаги невиданного великана, все ближе и ближе. Великан перешагивал через горы, ступал громко. Гудел древний известняк.
Я помню все, что случилось в ту секунду: Специалист выругался матом, пряча тетрадь в заплечную сумку. Музыкант втянул кривые ноги под брезент и невозмутимо закурил, Кузьмич тайком опрокинул в себя немножко неразбавленной отравы с самого донышка, кто-то толкнул кого-то, кто-то брехнул беззлобно, и накатилось темное, большое. А потом… потом над нашими головами затрещала связка петард и ударил косой ливень с градом. Градины дырявили брезент, прошивали флотские куртки насквозь, вместе с войлочным подкладом, и оставляли на коже синие знаки.
Дожди шли часто. Не было дня, чтобы не случилось ливня с грозой и градом. Особенно страдал от этого лагерь – ветер срывал палатки, тащил их вместе с людьми и со всеми пожитками к обрыву, в реку, словно хотел утопить, смолоть о камни в бурной воде. Дождь не любили, его проклинали, но еще хуже дождя были молнии – сырая и долгая долина, окруженная скалами, была для них самым подходящим руслом, и они мчались по ней, словно горный поток, с огнем и треском расщепляя кедры, облизывая камни и мох невидимыми языками.
Все имеет свою меру. Гроза накатила вдруг и, быстро отвоевавшись, унеслась прочь. Вот в небе уже разверзлась голубая пустота, потемневшая от испарений, радуга уперлась в реку разноцветным рогом, земля забрала всю воду, и сделалось хорошо. Специалист растирал исхлестанные руки и тихонько чертыхался. Этнограф стащил футболку, подставив солнцу широкую черную спину. Музыкант отряхнул с колен пепел, важно выпрямился, походил взад-вперед, разминая руки, и вдруг, подмигнув мне, пошел колесом, как мальчишка.
– Схожу до ветру на бережок, – крякнул Кузьмич.
Я и не взглянул на него. Меня больше занимали горячие ноздреватые камни, на которых можно было растянуться и всласть подремать. Они были с соседнего кургана. Сезон закончился, времени не хватило на этот небольшой холмик. Мы лишь выпололи всю траву и открыли поваленную гранитную стелу и часть оградки. На стеле я и растянул свой усталый позвоночник, продолжая одним глазом наблюдать за археологами.
– Сегодня утром во-о-от такого поймал, – Специалист изобразил добычу жестом бывалого рыбака.
– Гадость какая, – скривился Музыкант.
– Я на него гляжу, значит, а он уже приподнимается, – вещал Специалист возбужденно. – Вижу: драться хочет. А ведь знаю, что он дурак, он от драки никогда не уходит. Да ведь и я не ухожу. Ну, я его быстренько ломом-то прижал…
– Не могу слушать, – застонал Музыкант. Он боялся змей.
– Зачем их ловить? – произнес Этнограф. – Это их земля. Они живут в ней. А мы приходим, топчем их, убиваем…
– Лучше бы их совсем не было, – Музыкант надвинул на глаза козырек кепки и тут же задремал.
Специалист ловил щитомордников. Он ел их сырыми – еще бьющееся змеиное сердце глотал целиком и запивал неразведенным спиртом. Как мальчишка, он верил, что, стоит змеиному сердцу замереть, оно тут же наполнится ядом.
Я слушал одним ухом, по ниточке расплетая разговоры. Говорили о важном: о работе, о женщинах. Ленивая, чинная беседа взрослых мужчин. В ней я скоро запутался и увяз. Нити были липкими, сделалось душно. Но потом я услышал голос Специалиста и молчание Музыканта – особое сочетание звука и тишины, которое не могло проскользнуть мимо моего слуха. Я сразу отсеял его и уже не слышал ничего другого.
– Лет пять назад он исчез из мира, – вещал Специалист. – Он был сумасшедший. Паранойя. Боялся, что его сфотографируют – пьяного, невменяемого, – обнародуют, опозорят. Боялся, что соседи убьют, думал, что слышит их через электрическую розетку. Весной лечился. Много пил летом. Отборнейшие яды. На другой год лечился снова.
– Его трояр сгубил, – нервно вставил Кузьмич. – Какая еще паранойя? Он нормальный был. Вот кабы не трояр!
– Молчал бы. Сам же и хлестал с ним эту отраву, – фыркнул Специалист.
Кузьмич обиженно выругался.
Разговор сразу замяли. Наступило неловкое молчание. Я стиснул зубы в бессильной ярости. Мои поиски продолжались уже три месяца. То есть я не искал, а просто ждал, когда приспособится мое зрение. То, что мне было нужно, всегда находилось у меня перед глазами, скрытое мутной калькой. Я точно знаю, на что это похоже: в школе я посещал астрономический кружок при городском планетарии, иногда работники планетария выносили во двор свое главное сокровище – телескоп-рефлектор ТАЛ-120. Телескоп стоял на черной трехпалой ноге, задрав к небу белый тубус. Мы наводили объектив на Луну и звездные скопления, и в этом занятии, конечно, не было никакого научного интереса. Мы смотрели на далекие и мертвые миры из одного только мальчишеского любопытства. В этот телескоп, прижав бровью окуляр, я впервые увидел Юпитер. Он был похож на затертый пятак – бледный и мылкий в толще земной атмосферы. Тогда я узнал, что нетренированный глаз не может ничего рассмотреть на Юпитере. Нужны месяцы наблюдений, чтобы стали различимы оспинка Большого красного пятна и тонкие разводы жира – полосы исполинских бурь и штормов, бушевавших в атмосфере планеты.
Мои нынешние наблюдения были иного характера, и смотрел я не в черную небесную твердь, а вокруг себя, но моей пытливости и въедливости позавидовал бы любой астроном.
Тепло могильного камня усыпляло. Глаза сами закрывались. В распаренном после дождя воздухе дремота ощущалась вязкой паутиной, протянутой от лба к кончику носа.
Мне представилась странная, никогда не виденная вживую картина: осенняя жара, моленная старообрядцев, молодой человек возле одной из стен. Он водит кистью по сырой штукатурке – пишет святого по древнему канону: золотистая катафракта, нежно-голубые ризы и жилистая песья голова.
«Как напишем Христофора, будет много разговора», – пропевает Иконописец и хитро подмигивает мне.
Я больше не слушал пустых разговоров археологов. Меня занимал только Иконописец. Я почти вспомнил что-то важное, что-то, о чем молчали мои воображение и память.
Но вдруг переменился ветер, воздух задрожал, как старый жестяной лист. Паутина натянулась и лопнула, ударив в виски нудным звоном. Исчез Иконописец, все исчезло. Остался лишь звон…
– Сюда! Сюда идите! – кричал Кузьмич. Он бежал, смешно размахивая суставчатыми лапами, будто паук, которого травят горящей спичкой. – Там! Быстрее!
Крик, хрип, ржание прокатилось со стороны реки. Страшное что-то творилось там, где терраса обрывалась в узкую полоску берега.
Мы все побежали – и археологи, и волонтеры. Кузьмич показывал дорогу.
«Кобылка… перепугалась, в реку ее понесло… утонет сейчас, ведь утонет. Серегина кобылка».
Некоторое время я не мог видеть реку, но слышал ее неумолимый гул и повторявшиеся снова и снова раскаты лошадиного ржания.
Я застал последние секунды борьбы. Я едва разглядел саму лошадь в голубом и зеленом потоке плеса. На секунду показалась над водой длинная черная морда, раздался всплеск, большое темное тело перевернулось, задралось кверху копыто, и все исчезло в грохочущей пене.
А потом остался только мерный шум и несколько растерянных людей на замшелых камнях. В воде больше не было того темного, большого, сильного, не было его на скалах, не было на порогах. Мы смотрели за скалы, туда, где река делала поворот и шла тише, вглядывались в ледяную зелень, надеясь увидеть над волнами мокрую черную гриву, но она не появилась.
– На глубину затащило, – прошипел Кузьмич почти удовлетворенно. – Там за плесами яма метра три…
Раздался посвист. Мы разом задрали головы: над каменным гребнем стоял Серега, молодой теленгит. Я знал его – он приводил к нашим раскопам редких туристов.
– Всё? – только спросил он, увидев нас.
– Всё, – отозвался Кузьмич. – Нет кобылки.
– Твою мать, – Серега сплюнул, спустился к нам, сел на гранитную «щетку» [3]3
«Щетка»– скальное образование.
[Закрыть]и закурил. Он был беден, одевал свое тонкое жилистое тело в старый ватник и не курил ничего, кроме «Беломора», – настоящий сын своей земли.
Влетит лошадка Сереге в копеечку. Хозяин его не пощадит, хотя и уважает. Он будет с ним жесток, как сам Серега был жесток с лайками: обычно, если собака дурно себя вела, он ставил ее передними лапами на шаткую колоду и привязывал за шею к тугой и хлесткой ветке. Собака заходилась лаем, передние лапы ее царапали колоду, но она стояла навытяжку, так только, как позволяла вертикально натянутая веревка. Серега сидел рядом и наблюдал за ней, пока ему не начинало казаться, что наказания достаточно и лайка усвоила урок.
Он сдавленно матерился теперь – по-русски и по-алтайски. Наверное, чувствовал уже на шее резкую петлю.
Постепенно разошлись. Теленгит убрался восвояси. Остались только мы с Музыкантом. Еще долго мы сидели на гранитной «щетке», свесив ноги над ревущим потоком. Я посмотрел на свои пальцы, на тонкие полумесяцы грязи под ногтями. Музыкант, поддавшись какой-то общей со мной мысли, сделал то же самое. Под ногтями у него были серпики жирной земли. Наши руки, такие разные прежде, сделались похожи. Пальцы огрубели, мозоли стали белыми от едкой извести.
– Знаешь что… – произнес он. – Знаешь что? А тебе не кажется, что нас самих уже не раз откапывали?
Я не нашелся, что ответить ему.
7
Минуло несколько несколько дней, и молодые волки снова собрались вместе. Только не было Михры. Только Соша, крепко битый, хватался то и дело за пунцовый бок. Но они были все теперь в одной стае – и волки, и волчата, все верхом – даже Атья как-то вернул себе тура.
С утра до ночи моросил дождь. Где-то на горизонте ходили густые мутные завесы. Низины были завалены неподвижными, закостеневшими телами, в небе роилось воронье, но молодые волки не замечали ничего вокруг. Они просто ехали за битым войском по осклизлым, холодным следам. Над землей поднимался приторный дух. Впереди было все одно – спины в бурых плащах, понурые, всклокоченные головы да грязные конские крупы.
Теперь у Ашпокая был Рахша. Но нет в том никакой радости. Прежде Ашпокай не раз представлял себя верхом на коне-великане, но все это были пустые мечты. Он и не задумывался о том, что получить Рахшу может одним-единственным способом – если не станет Михры, если он пропадет совсем. Умри Михра, воздвигни ему соплеменники курган, Рахша сошел бы в него вслед за своим хозяином. Люди верили, что конь в посмертье обретает крылья и переносит своего всадника над радужным мостом.
Но Михра не умер. Он пропал.
Мальчики перешептывались между собой и посматривали в сторону Ашпокая, но он, кажется, не обращал на них внимания.
– До чего дурно пахнет, – ворчал Соша, не глядя на товарищей. – Куда же Михра пропал?
Молчание. Но Соша и не ждал ответа, он просто лег на твердую, жилистую шею лошади и прикрыл глаза. Все знали: без Михры они больше не степное войско, а просто сироты – бесприютные, невесомые, как пыль.
Галдело в небе воронье, где-то скрипели несмазанные колеса, тихо чертыхался Инисмей. Он дурно ухаживал за конем, оттого и запаршивел сам. Ашпокай старался не смотреть на гнусную его голову и остро торчащий кадык. Все в этом парне злило его теперь – Инисмей был трус, он бросил в бою Сошу.
Оттого не разговаривал теперь со своим приятелем Соша, и Инисмей на Сошу не смотрел – стыдился его бока, пунцового, как львиный зев, в центре – мертво-лилового, с круглыми красными пятнышками по краям.
На каждом привале их встречали новые лица – озлобленные, растерянные, они сменялись, не оставляя в памяти ничего. Люди попадались, впрочем, разные: от одних костров ребят гнали, у других делили с ними последнюю еду. Ашпокай не запоминал ничего, он вообще потерял способность запоминать и думал только о Михре. Лишь одна фраза, услышанная на первом привале, задержалась в его голове: «Все теперь идут в горы…»
Горы… Не от хорошей жизни люди уходили туда. Только нищету и голод уносили они на высокие холодные перевалы. В горах жили бедные семьи: бывало, одного за другим хоронили шестерых.
Горцев Ашпокай видел на весеннем торгу – лица черные, затверделые, как древесная кора, поникшие плечи, костлявые груди выступали из-под распахнутых кафтанов. Были и богатые всадники – на плечах ирбисовые шкуры, панцири шиты бараньей лопаткой. Перед ними горцы-пастухи снимали шапки, и был у них при этом такой трусливый, забитый вид, что Ашпокай отворачивался.
Теперь он смотрел по сторонам и думал, что весь степной народ, наверное, загонят в горы и все они со временем сгинут на далеких холодных перевалах. Они и сейчас пропадали, его соплеменники, – ветер разметал их по равнине во все стороны, все меньше маячило рядом бурых спин, их размывал дождь, они таяли в мутной, серой дали.
Волчата ослабли. Волосы на их головах пошли клоками, на серой коже высыпали мелкие язвочки. Один мальчик – самый маленький – дышал теперь шумно, нездорово. Голова его, страшно тяжелая, болталась на тонкой шее, клонилась то на одно плечо, то на другое. Волчонок плелся в самом хвосте на своей лошаденке. Ашпокай думал, что он, наверное, умрет, коли нет рядом мудрых сморщенных старух, знающих, как унимать хвори и заговаривать лихорадку. «Если умрет, я сам не смогу жить», – решил про себя Ашпокай, и соленое, комковатое снова задвигалось в горле.
Все шли в горы теперь. Туда вели следы копыт и тени костров. И волчата плелись туда же, только потому, что некуда им было идти и не было Михры, который растолковал бы, что к чему.
Через несколько дней на берегу озера они наткнулись на большое разоренное кочевье: шатры были разметаны по земле, тут и там виднелись следы – лошадиные, овечьи, коровьи. Здесь прошло не одно стадо, все было уничтожено и растоптано. На каменистом выступе лежало голое тощее тело, привязанное за волосы, за руки и ноги к деревянным кольям. Сотворив охранный знак, Ашпокай взглянул на лицо мертвеца и вздрогнул – это был сам паралат.
– Кто-то разграбил царскую стоянку, – объявил Ашпокай остальным, – а потом осквернил тело паралата. Разбойники могут быть где-то здесь, смотрите по сторонам.
Мальчишки просто не знали, что им сделать теперь, как поступить с телом. Потому они просто проехали мимо мертвого царя, опустив головы и сняв шапки.
Они шли всё дальше – к темным от леса холмам, прочь из степи. В темной ложбине, укрытой от посторонних глаз густым кустарником, они остановились на ночлег и развели огонь. По ночам было еще прохладно, младшие сидели на земле, стучали зубами и жались к костру, старшие договорились по очереди сторожить стоянку. Первым был Атья.
Ашпокай решил спать верхом. Он прижался щекой к жесткой стриженой гриве Дива и задремал. Сквозь сон он еще различал встревоженное дыхание Рахши. Конь-великан тянул поводья и рвался к хозяину своему. Вдруг кто-то ударил Ашпокая в бок. Он отмахнулся спросонья и увидел испуганного Атью.
– Там… я видел… паралата!
– Что? Что такое?
– Паралат, живой, на коне… – Атья не договорил, из темноты выступили какие-то фигуры. Среди них – не мерещится ли? – была одна, сутулая, в остроконечном колпаке, как…
– Паралат! – закричали в голос Инисмей и Соша.
Мальчики вскочили, кто-то выхватил из костра тлеющую головешку и ткнул ею в темноту.
Вдруг откуда ни возьмись вышел огромный пес, отливающий серебром в свете огня. Мальчишки закричали, сбились в кучу, затоптав костер, лошади заржали и захрапели, но Див отчего-то остался спокоен. Тогда паралат поднял руку в знак приветствия и выехал вперед.
«Это бактриец!» – Ашпокай сразу узнал лошадиное печальное лицо и перстень на руке ашавана, такой же, как у Михры.
– Мы помним бактрийца Салма, – произнес он.
Лицо вожака прояснилось.
– Да, Салм зовут меня, – отозвался бактриец. – Я вольный степняк. А это, – он указал на маячившие позади фигуры, – это моя ватага. А вы кто такие? Кажется, ты…
Он, похоже, узнал их теперь, это был он, точно он, только в одежде паралата, но такой же вздорный и угрюмый.
«Салм… ящерица, – только и подумал Ашпокай, – какое все-таки дрянное он себе подобрал имя».
– Ты убил паралата! – закричал Соша, хватаясь за бок. – И сейчас ты в его одеждах!
– Паралат сам отраву выпил, – отозвался кто-то из-за спины бактрийца. – Позор паралата пережил его самого. Мы лишь привязали тело, как велит наш господь Ахура-Мазда.
«Ахура… Мазда… – пронеслось в голове Ашпокая. – Что это – сон? Похоже на сон, этот ашаван… бактриец… или кто он такой? Все перепуталось…»
– Когда паралат сделал то, что он сделал, – произнес бактриец, – его же ватага все и растащила. Нам почти ничего не досталось. Первым делом они весь скот угнали и всех лошадей. Кто-то замешкался – не поделили ватажники одежду и оружие, подрались. Тут мы их и застали. Они всё побросали и кинулись наутек. А тело паралата оставили на земле.
– Быть… не может! – проговорил Ашпокай. – Быть не может!
– Хватит слов, – сказал Салм властно. – Вы с нами пойдете. У вас нет выбора.
Молодые волки загалдели, кто-то сжал кулаки, кто-то схватился за чекан.
– Нет! Выбора! – повторил Ашпокай, тут же повернулся к ребятам и крикнул: – Слушайте меня, волки! Я брат Михры и говорю от имени вашего вожака. Мы поедем с этим Салмом. Мы знаем его – я, Соша и… Инисмей тоже… Он хороший человек, даю слово!
И волчата послушались его. Наверное, они так устали, так оголодали, что готовы были подчиниться любому приказу. А может быть, они увидели в нескладном рыжем Ашпокае наконец Михру или тень его. Сам себе Ашпокай казался в тот миг взрослым и решительным.
– Веди, Салм, – сказал он. – Мы тебе верим. У нас нет выбора.
* * *
Снова и снова приходит Модэ в кибитку и заводит с пленником короткий разговор:
– Денег хочешь? Табуны хочешь? Женщин хочешь?
Говорит он на языке юэчжи хорошо, без запинки. Белобрысый великан поднимает голову и, глядя мимо царевича, произносит одно короткое слово:
– Нон.
«Нон» – значит «нет» у юэчжи. И Модэ, не говоря больше ничего, уходит. А белобрысого великана снова бьют. Почти всегда это делает немой Караш, он бьет беззлобно, привычно, юэчжи только рот раскрывает – воздуха перехватить.
Потом пленник забывается, но Караш еще долго сидит возле него и с каким-то звериным любопытством вглядывается в длинное худое лицо чужака. Непонятно, какие мысли гуляют в голове Караша, да и есть ли вообще в ней мысли, или только голодный вздор. Потом Караш уходит, и прекращается все. До следующего визита царевича.
А темник Модэ ночь не спит, мается: то мчится в холодном воздухе по равнине, коня изводит, пока тот не начинает храпеть, то вдруг свистит и щелкает плетью:
– Эй, конокрады! Принесите мне араки побольше!
И тут же приносят ему араку, но он смотрит на нее, кривится и выплескивает все на землю.
– Отравить вздумали? Споить вздумали? Пошли! Пошли! – и гонит от себя слуг плетью.
И нет рядом Чию, который успокоил бы Модэ. Он пропал сразу после боя, сгинул куда-то, старый воробей, и царевич досадовал на него за это.
Благодаря военному искусству Модэ разбил юэчжи и паралата обратил в бегство. Хунну истребили десятую часть вражьего войска, а сами не потеряли и четырех сотен – как старик и предсказывал.
Но Модэ злился. Модэ беспокоился, и всем было худо от его беспокойства. У отца он был нелюбимым сыном. Шаньюй всегда недобро, с опаской смотрел на дерзкого старшего сына, младшего же, рожденного княжной из бедного рода, окружал заботой и лаской. Послушным был младший сын.
– Отец, почему мы столько платим Поднебесной за хлеб? – еще мальчишкой спрашивал Модэ. – Мы можем просто прийти и забрать все, что нужно!
– Молчи. Не дорос мне советовать, – отвечал шаньюй. – Мы только начали спокойно жить. Зачем нам воевать? Ваны Поднебесной объединились, у них теперь один правитель. Нам с ними не спорить.
Но Модэ все не унимался, стал подбивать молодых княжичей пойти на Поднебесную в набег. Этого шаньюй не стерпел и отослал его к юэчжи, а чжучи-князем, наследником своим, вопреки закону назвал Ичиса – младшего сына. Так и получилось, что отрочество прожил Модэ в плену, среди шатров и кибиток юэчжи, пугливо вслушиваясь в незнакомую гнусавую и шипящую речь. То был почетный плен – Модэ стал залогом мира между двумя кочевыми народами. Он носил богатое платье, ел и пил в одном шатре с паралатом и тогда уже презирал его и все обычаи юэчжи. Противно ему было все: как говорят они, как одеваются, как ругаются и смеются.
Сначала при Модэ был его воспитатель Курьяк. Он учил его языку юэчжи, вместе они упражнялись в стрельбе из лука и рукопашном бое. Но потом паралат решил, что довольно в его стойбище и одного хунну. Курьяк уехал. На прощание он положил руку царевичу на плечо и сказал так: «Не жди от отца милости. Не жди от юэчжи добра. Ты лисица посреди собачьей своры. Вот это помни». Сказал и ускакал прочь. Модэ запомнил каждое слово – он долго потом не слышал родной речи. А воспитателя своего и вовсе никогда больше не увидел. Говорили, что через пару месяцев во время охоты Курьяка вместе с конем распорол дикий кабан.
Больше всего Модэ ненавидел князя Малая, который следил за ним. Он ненавидел его жирную шею и обвислые усы. Малай звал сына шаньюя щенком, зверенышем, иногда в подпитии щелкал бичом у Модэ над головой. Он говорил, что, если царевич испугается, втянет голову в плечи, он скормит его собакам. Но Модэ не боялся. Он знал: рано или поздно Малай окажется у него в руках. Но до поры он должен был жить под вечным его надзором и всегда следовать за ним.
По ночам он молился степным умертвиям, духам-перевертышам, чтобы спасли, вынесли его из плена. Он чуял что-то недоброе и каждую ночь, засыпая, играл в загадки с собственным будущим. И всегда выигрывал, находя ответ: отец задумал извести его, сжить со свету.
Так и случилось – через несколько лет хунну напали на юэчжи и стали вытаптывать их кочевья. Это значило, что все заложники будут убиты.
Про Модэ говорили, будто он задушил своего стражника, но это была ложь – он просто выскользнул ночью из шатра, невидимый, быстрый, как ящерица, и взял себе лучшего коня. Наутро он был в открытой степи, и всадники-юэчжи затаптывали его следы. Но где им было угнаться за таким конем! За самым быстрым конем в табуне князя Малая! И преследователи исчезли, захлебнувшись пылью. Потом говорили, что Модэ спасли его злые чары.
Шаньюй испугался, увидев сына. Испугался и отправил прочь от себя, обратно к юэчжи, но теперь уже с туменом – войском в десять тысяч семей…
И началась у Модэ жизнь странная, в которой главнее всего план будущего отцеубийства, а все остальное – набеги, охота, пиры – подобно полуденной дремоте, от которой нет толку, лишь головная боль и смятение мыслей. Все было для Модэ бесконечной забавой. Он маялся каждую ночь, выл от бессилия, стегал кнутом лунные тени, которые трусливо разбегались в стороны. Только под утро сникала его голова и он засыпал верхом, как озябший ворон на ветке дерева…
* * *
Отряд Салма был в пути уже много дней. Не стало в равнине колодцев – и всадники пили из ручьев вместе с лошадьми. Поднялся с левого края темный еловый лес, из-под тяжелых лап, как привидения, тянулись чахлые березки. Каждую ночь степняки разжигали яркие костры, чтобы отпугнуть лесных духов.
Ашпокай никак не мог взять в толк, кто таков этот Салм. Имя, которым он назывался, не внушало доверия. Теперь Ашпокая терзали сомнения. «Очень уж часто меняет он кожу, – думал он. – Как можно верить этой ящерице?» Когда молодые волки столкнулись с людьми Салма, он сразу принял сторону бактрийца, но каждую ночь в беспокойном полусне снова и снова спрашивал себя: «А верно ли я поступил?»
Салм поведал, как оказался возле стойбища паралата. Он и его люди сражались бок о бок с людьми холмов. Хунну прошлись по их ватагам, словно каменная булава-вазра. Но храбрые пастухи не повернули и не побежали, даже когда отступил паралат. Они рассыпались, запутали хуннские отряды и многих убили, но враги все прибывали и теснили их в глубь степи, пока не прижали к берегу широкого соленого озера.
– Мы сражались, как барсы, в тот день, – рассказывал Салм. – Трижды сходились мы с ними и трижды обращали в бегство. Один из моих витязей потерял коня и уже с земли опрокинул копьем хуннского всадника с его мохноногой лошаденкой!
Соша смеялся и ойкал, хватаясь за больной бок:
– Как же это – на лету?
– На лету, не на лету, – сердито уточнял Салм, – но хунну на земле остался. Мой боец чеканом его и хватил… Хунну на земле сражаться непривычны. Но и витязя нашего потом тоже… – Тут он замолчал, и Соша покраснел за свой смех.
– Мы укрылись среди известняковых скал, – говорил Салм. – Рядом бежал пресный ручей, и мы могли утолить жажду. Но коням кормиться было нечем – земля вокруг того озера родит только соль, что пашни Аримановы. Враги уже не приближались, но и не убирались прочь: они ждали, когда мы сами выйдем навстречу им – на смерть. Я молился Ардви, и она услышала: утром с озера поднялся густой туман, и мы смогли перебраться на дальнюю отмель. Кони шли по брюхо в воде, так что хунну и следа нашего не нашли, а собаки их к тому времени совсем потеряли нюх от соли. Так мы и спаслись.
Ашпокай по-прежнему ездил на своем Диве. Рахша, который шел на привязи по правую руку от него, еще томился по старому хозяину, еще тянул удила в какую-то одному ему понятную сторону.
– Это брата твоего конь? – спросил как-то Салм Ашпокая.
– Да. Все так, – ответил молодой волк. – Брат мой пропал, и я не знаю, где теперь его кости.
Салм хмуро поглядел на свою правую руку.
– Может быть, я сыщу твоего брата. Он не умер и не сгинул от колдовства. Я бы сразу узнал. Да и конь, гляди, беспокоится.
– Как мне тебя называть? – Ашпокай сделал вид, что поправляет ослабшую упряжь, а сам впился взглядом в медное кольцо на пальце Салма. – Как твое настоящее имя? Михре ты его сказал.
Ему показалось на миг, что Салм изменился в лице.
– Имя… Его я не могу тебе назвать, – произнес бактриец, – и никому больше не назову.
С той поры он говорил с Ашпокаем мало, больше приблизив к себе Атью, который, по его словам, был «строг, сдержан и не любил пустых вопросов».
«От чего бежит эта ящерица? – думал Ашпокай. – Видно, она потеряла уже не один хвост».
* * *
В стойбище Модэ веселье: на днях был удачный набег. Перед шатром темника Караш устроил забаву – начертил на земле большой круг и загнал в него пленных девок-юэчжи. Сам же он, пьяный, в рыжей шубе, накинутой на голое тело, стал ходить вокруг, поигрывая конским кнутом. Когда ему казалось, что наступил «нужный» момент, он задорно гикал, подпрыгивал и щелкал кнутом. Сухой щелчок прокатывался по равнине, девки в ужасе сбивались в кучу, а Караш гоготал и пускался на месте в пляс, отчего шуба его распахивалась и хлопала.
Темник был весел теперь: к нему вернулся старый воробей Чию. Как-то вечером он просто пришел к шатру царевича и завел чудную песню на языке Поднебесной. Модэ сначала рассердился на старика, велел высечь, но тут же передумал, отменил приказ и стал его расспрашивать. Потом оба взнуздали коней и умчались куда-то в степь. Вернулись утром, и Модэ был молчалив и задумчив. Говорили потом, что он встречался в степи с мятежными князьями-ванами из Поднебесной. Будто бы они захотели иметь с хунну общее дело против правителя Хуан-Ди. Знающие люди в степи говорили так: «Дракон Хуан-Ди скоро издохнет – вместо него придет другой дракон, с железным сердцем и железными зубами».
Чию опять жил при князе, и странные их беседы возобновились. Еще видели батыры, как Чию учил Модэ бою на мечах, притом оба стояли на земле! Тонкий и быстрый Чию легко уходил от выпадов железного меча царевича хунну и плашмя бил его по плечам и спине. Модэ не возмущался, сносил каждый удар молча, он стеснялся, кажется, кривых своих ног и грузного тела. «Ты научишь меня своим искусствам? Я смогу сокрушить юэчжи?» – спрашивал он взволнованно. «Ты сможешь сокрушить Поднебесную, господин», – отвечал Чию довольно. Он уже вполне ощущал свою власть над молодым драконом. «Меч твой – дрянь, – говорил он. – Дрянь, как всякий хуннский меч. Но железо хорошее. Вели расплавить его и выковать новый, я научу твоих мастеров». А еще так говорил иногда: «В одной провинции Поднебесной людей больше, чем во всей вашей степи. Но твой народ неприхотлив, у него много времени на военные дела, каждый пастух, каждый степняк – воин. Люди же Поднебесной постоянно должны заботиться о своей земле, о рисовых полях». Модэ кивал каждому его слову и думал, что в Поднебесной живут плохие воины. Но, получив очередной удар медным мечом по спине, он думал иначе: «Недоговаривает чего-то этот воробей».
Раздался щелчок кнута. Одна из девушек упала на землю лицом вниз – кнут просвистел прямо у нее над головой. Он был омерзителен, этот безъязыкий. Из всего оружия предпочитал каменный молот. Он и сам был молот – о его плоское серое лицо любой гневный взгляд и любое слово разбивались вдребезги. Не было ни сомнений, ни страхов в этом лице.
Гоготали всадники, хищно улыбался Модэ, одному Чию хуннская забава пришлась не по вкусу.
– Молодой господин! Зачем ты держишь его при себе? – спросил он, морщась. – Погляди на него: это же скотина!
– Потому и держу, – не переставая улыбаться, ответил Модэ, – что за глазами у него нет никаких злых мыслей против меня. А мне такие нужны… которые без мыслей. Посмотри – он предан мне, как сытый пес, он никогда не укусит кормящую его руку, всем доволен и не ждет большей радости.
Чию ничего на это не сказал.
– А за твои глаза я не могу заглянуть, старый воробей, – произнес Модэ. – Нет ли там каких дурных мыслей?
– Ты же знаешь мою преданность, молодой господин, – сказал Чию. – Ты знаешь, что я изготовил лучшие яды для князя юэчжи.
– А нет ли у тебя яда и для меня? – рот Модэ продолжал улыбаться, но глаза его превратились в две черные щелки.
Чию пропустил эти слова мимо ушей:
– Как ты и хотел, мы сперва расправимся с юэчжи, молодой господин. Нельзя позволить им обрести сильного правителя. Харга позаботится об этом – зелья, что я ему дал, действуют наверняка. Но не забывай: скоро твоя рука должна дотянуться и до Поднебесной…








