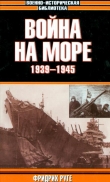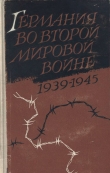Текст книги "Пианист"
Автор книги: Владислав Шпильман
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
4 ГЕТТО
В тот год осень затянулась, но к концу ноября солнце стало проглядывать все реже, зарядили холодные проливные дожди – в один из таких дней смерть впервые прошла совсем рядом с нами. Как-то вечером мы с отцом и Генриком засиделись у знакомых, и когда я посмотрел на часы, то с ужасом понял, что вот-вот начнется комендантский час. Нужно было немедленно уходить. Правда, попасть домой вовремя мы все равно не успевали, но ведь небольшое опоздание – не великий грех. Поэтому мы решили рискнуть.
Надев пальто, мы поспешно попрощались и выбежали на улицу. Было темно и пусто. Дождь хлестал по лицу, порывистый ветер трепал вывески, отовсюду доносился их металлический грохот. С поднятыми воротниками мы двигались вдоль стен домов, стараясь идти как можно быстрее и тише. Мы уже были на Зельной улице, почти дома, как вдруг из-за угла показался жандармский патруль. Попытаться уйти или спрятаться было уже поздно. Мы стояли в слепящем свете фонариков, а один из жандармов подошел ближе, чтобы рассмотреть наши лица.
– Евреи?
Вопрос был скорее риторический, потому что ответа он и не ждал:
– Ну, да…
В его голосе вместе с угрозой и издевкой звучало торжество – ведь добыча ему досталась просто превосходная. Прежде чем мы поняли, что они собираются делать, нас поставили лицом к стене, отступили на несколько шагов и передернули затворы автоматов. Так вот какая она, наша смерть… Мы встретим ее уже через несколько секунд. Потом мы будем лежать в лужах крови с раздробленными черепами до завтрашнего дня, пока мать и сестры не узнают обо всем и не прибегут сюда. Знакомые станут упрекать себя, что позволили нам уйти в столь поздний час. Такие мысли пронеслись у меня в голове, но все равно я словно не осознавал, что это происходит со мной. Я услышал, как кто-то произнес:
– Это конец!
Лишь спустя мгновение я понял, что это был мой собственный голос. Кто-то громко плакал. Я повернул голову и в свете фонариков увидел отца, стоявшего на коленях на мокром асфальте. Рыдая, он умолял жандармов даровать нам жизнь. Как он мог так унижаться! Генрик склонился над отцом, что-то шепча ему и пробуя его поднять. В Генрике, моем брате, с его вечным сарказмом, в тот момент открылось что-то обезоруживающе нежное. Я никогда его таким не видел. Должно быть, в нем жили два человека, и со вторым, совершенно на него непохожим – если бы у меня была возможность узнать его раньше – мы могли бы найти взаимопонимание и не ссориться каждую минуту. Я снова отвернулся к стене. Положение было безнадежным. Отец плакал, Генрик пытался его успокоить, а немцы по-прежнему держали нас на прицеле. Мы не могли их видеть, ослепленные светом фонариков. Вдруг, за какую-то долю секунды я инстинктивно понял, что смерть прошла стороной. Кто-то из них гаркнул:
– Профессия?
Генрик с необычайным самообладанием, спокойным тоном, будто ничего особенного не происходило, ответил за нас всех:
– Мы музыканты.
Один из жандармов подошел ближе, взял меня за шиворот и потряс с такой злобой, словно не он сам решил даровать нам жизнь:
– Ваше счастье, что я тоже музыкант! – Он ударил меня так, что я отлетел к стене. – Бегите, быстро!
Мы бросились вперед куда-то в темноту, чтобы как можно скорее исчезнуть из круга света от фонариков, боясь, что жандармы могут еще передумать. Удаляясь, мы слышали, как сзади разгорается ссора. Два других жандарма упрекали нашего спасителя за то, что он проявил сочувствие, которого мы не стоим, ведь война, на которой гибнут ни в чем не повинные немцы, началась исключительно по нашей вине.
Если бы немцы отправлялись на тот свет также быстро, как им удавалось богатеть! Банды немцев все чаще врывались в квартиры, где жили евреи, забирая все ценные вещи и мебель и вывозя их грузовиками. Охваченные страхом люди старались избавляться от всего стоящего, оставляя лишь то, что не могло бы никого прельстить. Мы тоже продали пючти все, что сумели, но не из страха перед налетами, а потому, что дела наши шли все хуже. Ни у кого в нашей семье не было торговой жилки. Регина пробовала, но из этого ничего не вышло. Она, как юрист, обладала сильным чувством справедливости, поэтому не умела запрашивать за какую-то вещь двойную цену. Она быстро отказалась от торговли и занялась репетиторством. Отец, мать и Галина давали уроки музыки, а Генрик – английского языка. Только я в то время не мог принудить себя заниматься чем-нибудь для заработка. Я впал в глубокую депрессию, лишь изредка мне удавалось заставить себя заняться инструментовкой моего концертино.
Во второй половине ноября, безо всяких объяснений, немцы начали строить ограждения из колючей проволоки по северной стороне Маршалковской улицы. А в конце месяца появилось объявление, которому сначала никто не мог поверить. Оно превосходило все наши самые мрачные предчувствия: в срок с 1 по 5 декабря все евреи должны были обзавестись белыми повязками с пришитой бело-голубой звездой Давида. Имея публичное клеймо, мы должны были выделяться из толпы как «предназначенные на убой». Тем самым перечеркивалось несколько сотен лет движения человечества по пути гуманизма. Это означало возврат к методам темного Средневековья.
Теперь многие наши знакомые из еврейской интеллигенции целые недели проводили под добровольным домашним арестом. Никто не решался выйти на улицу с повязкой на рукаве. Когда избежать этого было совершенно невозможно, пытались проскользнуть незаметно, глядя в землю, со стыдом и болью на лице.
Потянулись необычайно тяжелые зимние месяцы. Казалось, мороз помогает немцам в преследовании варшавян. Целыми неделями держалась такая низкая температура, какой не могли припомнить в Польше даже старики. Достать уголь было почти невозможно, а его цена выросла неимоверно. Помню, бывали дни, когда мы не вставали с постели, так холодно было в квартире.
В самые суровые морозы в Варшаву из западных областей Польши стали приходить транспорты с евреями. Живыми до конечного пункта добирались немногие. Их долго везли из родных мест в телячьих пломбированных вагонах, без еды, воды и тепла. Когда транспорты прибывали на место назначения, в живых оставалось не больше половины отправленных, да и те с тяжелыми обморожениями. Умершие, одеревенев на холоде, стояли в тесной толпе среди живых и валились на землю, как только открывали засовы вагонов.
Казалось, что хуже быть уже не может. Но так казалось лишь евреям. Немцы думали иначе. В соответствии с немецким принципом постепенного усиления террора были обнародованы новые распоряжения. Первое сообщало о вывозе евреев на работы в концентрационные лагеря, где мы должны были получать необходимое общественное воспитание, чтобы перестать быть «паразитами на здоровом теле арийской расы». Отправке подлежат здоровые мужчины в возрасте от двенадцати до шестидесяти лет и женщины в возрасте от четырнадцати до сорока пяти лет. Второе распоряжение касалось порядка регистрации и транспортировки. Немцы не хотели этим заниматься сами и решили поручить эту задачу еврейской общине. Мы должны были сами себе стать палачами, своими руками приблизить свой конец, совершить нечто вроде узаконенного ими самоубийства. Транспорт был запланирован на начало весны.
Еврейская община решила сделать все возможное, чтобы уберечь интеллигенцию. За тысячу злотых занесенного в списки вычеркивали и заменяли на какого-нибудь еврейского пролетария. Конечно, не вся тысяча попадала в руки этих несчастных: руководители общины тоже нуждались в деньгах, чтобы скрасить себе жизнь водкой с закуской.
Наконец-то наступила весна. Ожидаемый транспорт не состоялся. Это лишний раз подтверждало, что не все официальные постановления немцев выполнялись. Напротив, началась длившаяся несколько месяцев разрядка в отношениях между евреями и немцами, которая казалась тем реальнее, чем сильнее обе стороны были поглощены событиями на фронте.
Мы надеялись, что союзники за зиму спокойно подготовятся и весной атакуют немцев одновременно из Франции, Бельгии и Голландии, «линия Зигфрида» будет прорвана, они займут Баварию, Саарский угольный бассейн и северную часть Германии, войдут в Берлин и самое позднее летом освободят Варшаву. Целый город жил во взволнованном ожидании этого наступления как какого-то праздника. В это время немцы вошли в Данию, что, по мнению наших местных «политиков», не могло ни на что повлиять – все равно они угодят там в окружение.
10 мая началось наступление, но не союзников, а немцев. Голландия и Бельгия пали, агрессии подверглась Франция, но тем более не стоило терять надежды. Повторялся 1914 год. Даже во главе французских войск стояли те же самые люди, что и тогда: Петен, Вейган – лучшие командиры школы Фоша. Можно было ожидать, что и на этот раз они дадут немцам отпор не хуже.
В середине дня 20 мая ко мне пришел знакомый скрипач. Нам хотелось вместе вспомнить одну сонату Бетховена, которую мы оба очень любили, но давно не играли. Пришло еще несколько друзей, и мать, желая сделать мне приятное, приготовила полдник. Был прекрасный солнечный день, мы пили замечательный кофе, ели испеченные матерью пироги, все были в хорошем настроении; уже было известно, что немцы стоят под Парижем, но никто особенно не волновался, ведь оставалась еще Марна – природный защитный рубеж, здесь все должно было остановиться, как на фермате во второй части скерцо си минор Шопена, и после этого немцы в том же бешеном темпе восьмых долей, в каком они наступали, будут вынуждены отступать до своих границ, а потом и дальше, вплоть до заключительного победного аккорда союзников.
Мы выпили кофе и собрались играть. Я сел к роялю в окружении внимательных слушателей, способных оценить хорошее исполнение и получить удовольствие от музыки. Справа от меня встал скрипач, а слева села молодая и хорошенькая подруга Регины, чтобы переворачивать страницы нот. Чего еще я мог пожелать для полного счастья? Мы еще ждали Галину, которой пришлось ненадолго спуститься в магазин, расположенный под нами, чтобы позвонить. Она вернулась со специальным выпуском какой-то газеты. Большими буквами, наверное, самыми большими, какие нашлись в типографии, на первой странице было напечатано: ПАРИЖ ВЗЯТ!
Я уронил голову на рояль и разрыдался, в первый раз с начала войны.
Теперь, упоенные своей победой, немцы после короткой передышки снова возьмутся за нас, хоти нельзя сказать, что, пока шли бои на западном фронте, они о нас забыли. Грабежи, выселение евреев и отправка на работу в Германию шли постоянно, но к этому все уже успели привыкнуть. Теперь следовало ожидать чего-нибудь похуже.
В сентябре ушли первые транспорты в лагеря – в Бельжиц и Хрубешов. Евреи, получавшие там «правильное воспитание» на мелиоративных работах, днями напролет стояли по пояс в воде, копая рвы. В сутки им выдавали сто граммов хлеба и тарелку водянистого супа. Работы длились не два года, как было обещано, а всего три месяца, но и этого хватило, чтобы довести этих людей до полного физического истощения, к тому же многие заболели туберкулезом.
Все мужчины, оставшиеся в Варшаве, были обязаны записаться на работу и минимум шесть дней в неделю работать физически. Я делал все возможное, чтобы этого избежать. В основном из-за пальцев: достаточно было самого незначительного повреждения суставов, надрыва мышц или легкой травмы, чтобы на карьере пианиста поставить крест. Генрик относился к этому совершенно иначе: с ею точки зрения, каждый, кто занят творческим трудом, должен познать вкус тяжелой физической работы, узнать ей цену. Вот он и записался туда добровольно, несмотря на то что это лишило его возможности учиться дальше.
Вскоре произошли два события, потрясшие всех: первым был воздушный налет немцев на Англию, вторым – щиты и развешенные на улицах, ведущих в гетто, извещавшие об эпидемии тифа в этом районе и необходимости обходить его стороной. Вскоре после этого в единственной варшавской газете, которую издавали немцы на польском языке, был опубликован официальный комментарий на тему: евреи – общественно вредные элементы и разносчики заразы. Их вовсе не запирали в гетто, само это слово совершенно неуместно. Ведь немцы – народ великодушный и культурный и никогда не создали бы гетто даже таких паразитов, как евреи, – ведь новый европейский порядок несовместим с таким пережитком Средневековья, как гетто. Напротив, в городе планируется выделить специальный район, где будут жить только евреи и где они будут чувствовать себя свободно, исполнять свои ритуалы и развивать свою культуру. Этот район окружен стеной исключительно по соображениям гигиены, чтобы тиф и другие «еврейские» болезни не перекинулись на население остальной части Варшавы. Комментарий сопровождался картой города, где были точно указаны границы гетто.
Нам оставалось утешать себя тем, что вся наша улица оказалась внутри гетто и нам не пришлось подыскивать себе новую квартиру. Евреи, живущие в других частях города, оказались в несравнимо худшем положении. Они были вынуждены платить огромные отступные, чтобы до конца октября найти новое жилье в черте гетто. Самые удачливые переехали в свободные комнаты на Сенной, которая стала Елисейскими Полями гетто, или куда-то поблизости. Остальные вынуждены были довольствоваться грязными притонами на улицах, издавна заселенных еврейской беднотой: Гусиной, Драконьей и Заменхофа.
Выход из гетто перекрыли 15 ноября. В тот вечер у меня были какие-то дела в конце Сенной улицы, на пересечении ее с Желязной. Шел дождь, но для этого времени года было необыкновенно тепло. Темные улицы кишели людьми с белыми повязками на рукавах. Все возбужденно бегали туда-сюда, как звери, запертые в клетке и не успевшие еще к ней привыкнуть. У стен домов на грудах промокших и забрызганных грязью перин выли женщины с детьми, которые тоже заходились от крика. Это были еврейские семьи, брошенные в гетто в последний момент и не имевшие ни малейшего шанса получить здесь хоть какую-то крышу над головой. На территории и так уже перенаселенного района, где могло разместиться от силы сто тысяч человек, теперь должно было проживать более полумиллиона.
На фоне темной улицы в свете фар выделялся свежеоструганным деревом квадрат ворот, отрезавшихгетто от мира свободных людей, которые жили надостаточной площади в одном с нами городе.
Отныне никто из нас не имел права переступитьэту черту.
Как-то я встретил друга моего отца. Он тоже был музыкантом и таким же, как отец, мягким, беззаботным человеком.
– Ну, что вы обо всем этом думаете? – Он нервно засмеялся и обвел рукой толпу людей, стены и ворота гетто.
– Что? – переспросил я. – Они нас прикончат.
Но старик не мог или не хотел со мной согласиться. Снова рассмеявшись, уже несколько принужденно, он похлопал меня по плечу и воскликнул:
– Не расстраивайтесь! – Он схватил меня за пуговицу пальто, приблизил свое розовое лицо и заявил с глубокой, а может, хорошо разыгранной убежденностью: – Ведь нас все равно скоро выпустят. Как только об этом узнают американцы…
5 ТАНЦЫ НА УЛИЦЕ ХЛОДНОЙ
Возвращаясь к пережитому в варшавском гетто с ноября 1940 года по июнь 1942-го, я пытаюсь и не могу разделить свои воспоминания на части и расположить их, как в дневнике, в хронологическом порядке – все события этих двух лет сливаются в один день. Конечно, многие факты, относящиеся к этому и более позднему периоду, теперь общеизвестны. Один из них – охота на людей, подобная той, что устраивали немцы на жителей всей оккупированной ими территории Европы, чтобы превратить их в рабочий скот. Правда, в гетто эту практику неожиданно прекратили весной 1942 года. Евреев приберегали для другой цели. Им предусмотрели охранный период, как принято до начала охотничьего сезона, чтобы запланированная большая охота оказалась богатой и никого не разочаровала. Евреев грабили так же, как греков, французов, бельгийцев или голландцев, с той только разницей, что делалось это более последовательно и от имени закона. Не облеченные соответствующими полномочиями немцы не имели доступа в гетто и не имели права обирать нас по собственному желанию. Это разрешалось только немецкой полиции по распоряжению коменданта – в соответствии с законом Третьего рейха, легализовавшим грабеж.
В 1941 году Германия напала на Россию. Затаив дыхание, следили в гетто за ходом нового немецкого наступления: сначала – с тщетной надеждой, что нацистам наконец дадут отпор, а позднее – с сомнением и страхом за свою судьбу и за будущее всего человечества. Это сомнение росло по мере продвижения гитлеровских войск в глубь России и сменялось оптимизмом, когда немцы под угрозой смерти начинали реквизировать у евреев все меховые изделия. Это давало повод задуматься: так ли хороши у них дела, если их победа может зависеть от жакетов из лисы и бобра.
Границы гетто сужались. Его территорию систематически сокращали, точно так, как немцы сжимали границы вокруг свободной части Европы, захватывая очередное государство. Словно варшавское гетто представляло собой не менее важную проблему для немцев, чем Франция, а отсечение от него Злотой или Желязной улицы имело такое же значение для расширения их жизненного пространства, как отделение от Франции Эльзаса и Лотарингии. И все же ничто не угнетало нас так сильно, как постоянная, все-подавляющая мысль: мы – узники. Мне кажется, с ней легче было бы смириться, если бы нашу свободу ограничили более осязаемо – например, тюремной камерой. Такой способ изоляции ясно и недвусмысленно определял бы наши отношения с окружающим миром. Там известно, чего ждать: тюрьма – это другая реальность, лишенная даже видимости нормальной жизни, о которой остается только мечтать. Все погружено в тюремный быт – не так, как в гетто, где иллюзорность всего и вся – где бы ты ни был, каждую минуту, на каждом шагу – напоминает об утраченной свободе. Жизнь в гетто выносить было тем труднее, чем больше она походила на обычную. Выйдя на улицу, можно было подумать, что находишься в обыкновенном городе. Повязки на рукаве уже никого не смущали – их носили все, а спустя какое-то время пребывания в гетто я поймал себя на том, как сильно я к ним привык: когда мне снились друзья еще довоенных лет, я видел их с повязкой, будто та была неотъемлемой частью костюма, как галстук или носовой платок. Но улицы гетто вели в никуда. Они всегда кончались стеной. Мне часто случалось идти куда глаза глядят, пока я неожиданно не натыкался на стену. Она внезапно вырастала передо мной, и не было никакого логического объяснения, почему мне нельзя при желании продолжить свой путь. Улица по ту сторону стены становилась для меня невероятно значимой, я не мог без нее обойтись, как без чего-то самого дорогого в жизни, там происходило то, за участие в чем я отдал бы все на свете. Подавленный, я возвращался обратно, и так каждый день – в том же отчаянье. В гетто можно было пойти в ресторан или кафе. Вы встречали там друзей, и почему бы, казалось, не провести с ними время в приятной обстановке, как в любом другом кафе в мире. Но рано или поздно у кого-нибудь из присутствующих срывалось с языка, что неплохо бы всей компанией в выходной выбраться в Отвоцк. Ведь сейчас лето, прекрасные жаркие дни простоят еще долго, и ничто не помешает осуществить эту простую, в общем-то, затею. Хоть вот сию минуту. Только заплатить за кофе, выйти на улицу, вместе со смеющимися друзьями направиться на вокзал, купить билеты и сесть в пригородный поезд. Мы находились в замкнутом в стенах гетто иллюзорном мире, полном подмен…
Этот почти двухлетний период моей жизни вызывает у меня детское воспоминание об одном событии, правда куда менее продолжительном. Мне должны были удалить аппендикс. Операция не слишком сложная – не о чем волноваться. Сделать ее собирались через неделю, дата была уже определена, и палата в больнице зарезервирована. Родители, желая скрасить мне ожидание, старались меня отвлечь разными приятными вещами. Каждый день мы выходили съесть мороженое, потом в театр или кино, мне дарили книги и игрушки – все, что душе угодно. Казалось, чего мне не хватало для полного счастья? Но и по сей день я очень хорошо помню, что всю ту неделю, везде – в кино, в театре, поедая мороженое или во время других, столь же увлекательных занятий, целиком поглощавших мое внимание, меняне покидал подсознательный страх перед чем-то неопределенным, мне еще неизвестным: предстоящей операцией. Подобный инстинктивный страх не отпускал людей, находящихся в гетто, на протяжении целых двух лет. По сравнению с тем, что началось потом, это было относительно спокойное время, в течение которого наша жизнь постепенно скатывалась к кошмару, так как все каждую секунду ожидали чего-то ужасного, но никто не знал, чего именно и с какой стороны ждать.
Каждое утро я выходил из дома, обычно сразу после завтрака. В ежедневный ритуал входила длинная прогулка нa улицу Милую, к Иегуде Зискинду, который жил там с семьей в темной, мрачной дыре.
Выход из дома – на первый взгляд нечто совершенно обыденное – в условиях гетто, а особенно из-за уличных облав, вырастал до размеров настоящего события. Сначала надо было навестить кое-кого из соседей, выслушать от них разные жалобы и сетования, а заодно и разузнать, какова ситуация в городе: нет ли облав, не заблокированы ли улицы, что происходит на пропускном пункте на улице Хлодной. Только теперь можно отважиться выйти из дома, но попрежнему нельзя терять бдительности: мы все время останавливали идущих с противоположной стороны, чтобы узнать, что там делается. И только такие меры безопасности давали хоть какую-то надежду избежать облавы.
Гетто разделялось на малое и большое. Малое, расположенное между улицами Велькая, Сенная, Желязная и Хлодная, после очередного сокращения территории соединялось с большим гетто только в одном месте – там, где Хлодная пересекалась с Желязной. Большое гетто занимало всю южную часть Варшавы с множеством маленьких вонючих улочек и переулков, которые кишели еврейской беднотой, ютившейся здесь в грязи, тесноте и нищете.
В малом гетто тоже жили тесно, но все же в пределах разумного: по три, самое большее по четыре человека в одной комнате, и по улицам, при минимальном внимании, здесь можно было пройти, не задевая других людей. А если бы и случилось задеть, то без последствий – в малом гетто жили главным образом интеллигенция и зажиточные горожане, завшивленность была низкая, почти не было переносчиков насекомых. В большом гетто вы неизбежно нахватали бы их. Кошмар начинался за Хлодной, но даже перейти ее – было большой удачей, невозможной без правильной оценки ситуации. Улица Хлодная полностью лежала в «арийской» части города. На ней не прекращалось оживленное движение автомобилей, трамваев и пешеходов. Чтобы пропустить еврейское население по Желязной из малого гетто в большое и обратно, требовалось остановить движение на Хлодной. Это было неудобно для немцев, поэтому они старались делать это как можно реже.
Идя по Желязной, я уже издалека видел толпу на углу Хлодной. Спешащие по делам люди нервно переступали с ноги на ногу, ожидая милости от жандарма, который решал, достаточно ли большая собралась толпа, чтобы открыть проход. Когда такой момент наставал, часовые расступались, и масса потерявших терпение людей начинала напирать со всех сторон, толкаясь, падая и топча друг друга, чтобы как можно скорее оказаться вне опасного соседства с немцами и раствориться в улочках обеих частей гетто. Затем шеренга часовых смыкалась, и вновь начиналось нервное, полное страха и тревоги ожидание.
Немцы скучали на посту и пробовали, как умели, чем-нибудь себя занять. Из всех развлечений они больше всего любили танцы. С близлежащих улочек сгоняли музыкантов – по мере роста нищеты количество уличных ансамблей постоянно увеличивалось, – потом из толпы ожидающих выбирали кого посмешнее и приказывали им танцевать вальс. Музыкантов ставили у стены дома, на проезжей части освобождали место, один из солдат брал на себя роль дирижера: когда оркестранты играли слишком медленно, он их бил. Остальные следили за тем, чтобы танцоры не халтурили. Перед запуганной толпой кружили пары: калеки, старцы, толстяки и доходяги. Коротышки или дети танцевали с людьми, выделявшимися высоким ростом. Вокруг стояли немцы и, надрываясь от смеха, покрикивали: «Быстрей! Шевелитесь! Танцуют все!» Когда комические пары были подобраны исключительно удачно, танцы продлевались. Проход открывался, закрывался и вновь открывался, а эти несчастные все дергались в ритме вальса из последних сил, сопя и плача от усталости и напрасно ожидая, что над ними сжалятся.
Лишь благополучно миновав Хлодную, можно было увидеть гетто в его подлинном обличье. Здесь у людей не было имущества или припрятанных ценностей. Жили торговлей. По мере того как вы углублялись в путаницу тесных улочек, торговля велась все бойчее и нахальнее. Женщины с уцепившимися за их юбки детьми преграждали прохожим путь, пытаясь продать лежащий на обрывке картона кусок пирога – все их богатство, от которого зависело, смогут ли их дети вечером съесть четвертушку черного хлеба. А рядом старые евреи, высохшие от голода до неузнаваемости, пытались, хрипло крича, обратить внимание прохожих на какие-то тряпки в надежде получить за них деньги. Молодые мужчины торговали золотом и валютой, ведя яростную, упорную борьбу за покривившиеся корпуса часов, замочки от цепочек или грязные, потертые долларовые банкноты, которые рассматривали на свет и обнаруживали, что деньги фальшивые и никуда не годные, хотя продавец клялся, что они «почти как новые».
По забитым людьми улицам, стуча и дребезжа, двигались конки, или «конгеллерки», вспарывая плотную толпу дышлами и конскими телами, как корабль рассекает носом воду. Название «конгеллерка» происходило от фамилий владельцев – Кона и Геллера, двух еврейских богачей, которые выслуживались перед гестаповцами, благодаря чему процветали. Вагонами, из-за высокой стоимости проезда, пользовались только богатые, – их приводила в гетто необходимость поддерживать торговые связи. Выходя на остановках, они старались как можно скорее добраться до магазина или конторы, где была назначена встреча, а потом опять побыстрее сесть в конку и покинуть это страшное место.
Преодолеть расстояние от остановки до ближайшего магазина было нелегко. Минутной встречи с состоятельным человеком ожидали десятки нищих, которые, сбившись в кучу, хватали его за одежду и преграждали дорогу, плача, крича или угрожая. Но было бы безрассудно в порыве сострадания подать нищему милостыню. Крик тогда переходил в вой, со всех сторон подходили другие бедняки и брали благодетеля в плотное кольцо: исхудалые, больные туберкулезом люди, толкающие своих, покрытых гнойными наростами, детей ему под ноги; жестикулирующие культи вместо рук, слепые глаза, беззубые, распространяющие зловоние рты, молящие о жалости в последнюю минуту перед смертью, как будто лишь немедленное подаяние могло отсрочить их конец.
Внутрь гетто можно было попасть только по Кармелитской улице, единственной, которая туда вела. Пройти по ней, не задевая прохожих, было невозможно. Плотная людская масса не шла, а перла и проталкивалась вперед, создавая завихрения вокруг торговых лотков и затоны в подворотнях, из которых несло холодным, затхлым воздухом непроветренных постелей, прогорклого жира и гниющих отходов. По любому, самому незначительному поводу толпа впадала в панику и шарахалась то в одну, то в другую сторону, задыхаясь, давя, крича и ругаясь на чем свет стоит. Кармелитская улица была одной из самых опасных. По ней каждый день ездили тюремные машины. За их маленькими зарешеченными окошками с матовыми стеклами находились узники, которых везли с Павяка на аллею Шуха, в Главное управление гестапо, а обратно – то, что от них осталось после допроса – кровавые комья с переломанными костями, отбитыми почками и вырванными ногтями.
Конвоиры никого не подпускали к этим машинам, несмотря на то что те были бронированы. Сворачивая на Кармелитскую, гестаповцы высовывались из автомобилей и били наотмашь палками по толпе, такой плотной, что даже при большом желании никто нe мог укрыться в подворотне. Будь то обычные резиновые палки, это еще можно было пережить, но гестаповцы пользовались такими, из которых торчали бритвы и гвозди.
Иегуда Зискинд жил на улице Милой, недалеко от места ее пересечения с Кармелитской. Он был сторожем, а при случае – носильщиком, возчиком, торговцем и контрабандистом: нелегально перебрасывал товары через границугетто. Прирабатывал везде, где только мог, употребляя все свои силы и хитрость на то, чтобы прокормить семью, численность которой я не мог определить даже приблизительно, так она была велика. Если оставить в стороне его обычные занятия, то Зискинд был человеком, полным идеалов. Как член тайной организации он провозил листовки в гетто и пытался заниматься здесь нелегальной деятельностью, хотя давалось ему это с большим трудом. Относился он ко мне с некоторым пренебрежением, как следовало, с его точки зрения, относиться к артистам – людям, не пригодным к подпольной работе. Все же я ему нравился, и он позволял мне ежедневно заходить к нему домой, – читать свежие новости, тайно полученные по радио и только что распечатанные. Иегуда относился к решительным оптимистам.
Вспоминая сейчас о нем, после всех страшных лет, отделяющих меня от тех дней, когда он был еще жив и нес свои добрые вести людям, я восхищаюсь его стойкостью. Не было ни одного зловещего сообщения по радио, которое он не смог бы истолкавать в лучшую сторону. Однажды, прочитав последние известия, я в отчаянье ударил рукой по газете и вздохнул: «Но теперь вам придется, наконец, признать, что все пропало». Зискинд улыбнулся, взял сигарету, уселся поудобнее в кресле и со словами: «Господин Шпильман, вы ничего не понимаете, ничего!» начал свою очередную лекцию по политике. Из его речей я понимал немного, но сама его манера говорить была отмечена твердой, передающейся слушателю верой в то, что все идет как надо и, сам не зная как, я проникался тою же уверенностью. От Иегуды Зискинда с улицы Милой я всегда возвращался назад ободренный. И только уже дома, лежа в постели и снова, который раз, анализируя политические события, я приходил к заключению, что выводы Зискинда абсурдны. Но следующим утром я опять отправлялся к нему, позволял себя переубедить и уходил с новой дозой оптимизма, которая действовала до самого вечера и давала мне возможность выжить.
Зискинд попался только зимой 1942 года. С поличным: на столе лежали стопки листовок, а Иегуда с женой и детьми сортировали их. Всех расстреляли на месте, не пощадив даже их маленького сынишки – трехлетнего Симхи. Как же трудно стало мне надеяться на лучшее, когда убили Зискинда и не осталось никого, кто мог бы мне все как следует объяснить! Только теперь я понимаю, что прав был не я и не эти сообщения, а Зискинд. Позднее все случилось именно так, как он предрекал, хотя тогда мы не могли в это поверить.