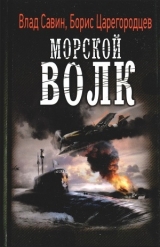
Текст книги "Восточный фронт (СИ)"
Автор книги: Владислав Савин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 27 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
События в Германии и Италии превзошли самые худшие опасения, мучавшие Рузвельта еще в 30-е годы; опасения, буквально заставившие его 'поставить на кон' свой авторитет, заработанный в течение всей жизни – да, он отдавал себе отчет в том, как подавляющее большинство 'хозяев Америки' отреагирует на предложенный им 'Второй билль о правах'. К его сожалению, он оказался прав в своих ожиданиях относительно реакции большого бизнеса США на этот проект.
Гитлеровское вторжение в Россию отвечало его ожиданиям – фюрер, как и его генералы, так и не смогли в полной мере осознать всю важность морской мощи, так что их обращение к привычной континентальной стратегии было вполне естественным. С точки же зрения долговременных интересов США это вторжение было подарком судьбы – два опаснейших стратегических конкурента США предельно ослабляли друг друга в ожесточенной схватке. Конечно, Рузвельт был слишком умен для того, чтобы открыто демонстрировать профессиональный цинизм государственного деятеля и аналитика высочайшего класса, в отличие от Рэндольфа Черчилля и покойного Гарри Трумэна – мимолетная глупость могла очень дорого обойтись впоследствии, когда надо будет юридически закреплять итоги войны. Русофобия фюрера, напрочь отключившая присущие Гитлеру здравый смысл и звериную интуицию, стала проклятием Германии и великим благом для США – теперь, когда Гитлер во всеуслышание объявил русских недочеловеками, по отношению к которым не должны соблюдаться ни законы и обычаи ведения войны, ни элементарные нормы гуманизма, все русские, неважно, сторонники или противники Сталина, большевики или националисты, становились смертельными врагами Германии, объединенными в этой борьбе. От Сталина же Рузвельт не ждал глупостей, очень уж тот был умен, предусмотрителен и осторожен – и не ошибся, узнав о сказанной красным императором в тяжелейшем для России феврале 1942 года фразе 'Гитлеры приходят и уходят, а народ немецкий остается..'. Выводы из этого были для Рузвельта очевидны до неприличия – Сталин уже тогда был уверен в конечной победе СССР, и, начал психологическую подготовку своего народа к построению послевоенного мира – мира, в котором СССР будет тесно взаимодействовать с Германией, где не будет Гитлера. Популярная среди аналитиков армии и Госдепа версия, что речь идет о подготовке к заключению сепаратного мира, на взгляд президента, не выдерживала критики – этому категорически противоречили русские заказы, сделанные еще во время визита Гопкинса. Да и действия русских летом и осенью 1941 года совершенно не были импровизацией, это признавали сами разведчики. Дальнейшие события подтвердили оценку президента – но, оставалось неясным, откуда у Сталина была эта уверенность. Доклады разведок США не давали ответа на возникавшие вопросы – наоборот, странности только множились, не получая внятных объяснений.
Рузвельт анализировал действия Сталина перед войной и в начале войны – по его глубокому убеждению, именно там следовало искать корни происходящего сейчас. С учетом склонности Сталина планировать все на двадцать ходов вперед, версия о серии удачных импровизаций русских не заслуживала даже иронии, она была просто смехотворна. Не поняв происходившего тогда, невозможно было понять причины нынешнего положения дел – а, не понимая сути происходящего сейчас, немыслимо было планировать будущее. Итак, во второй половине 30-х начинается уничтожение старых революционеров, с последующей заменой революционной идеологии имперской – и, тогда же, судя по строительству заводов-дублеров, начинается подготовка советской промышленности к возможной эвакуации на Восток; той самой эвакуации, которая была осуществлена во второй половине 1941 года. Выражаясь проще, расчищается место для имперской элиты и имперской идеологии – и, одновременно, тогда же начинается подготовка к запуску плана 'В', рассчитанного на тот случай, если в Европе дела у СССР пойдут плохо. Судя по той уверенности, которую Сталин демонстрировал на переговорах с Гопкинсом, у него уже были основания рассчитывать на успех плана 'В'. Заказы на станки, оборудование, стратегическое сырье служили лучшим доказательством того, что эта уверенность не была 'хорошей миной при плохой игре'. Чтобы иметь такую уверенность в конце июля – начале августа 1941 года нужны были крайне веские основания – Германия превосходила Советский Союз по величине подконтрольного ей экономического и демографического потенциала, оперативному и тактическому мастерству армии; а о 'втором фронте' тем временем можно было только мечтать.
После возвращения Гопкинса из СССР Рузвельт задал себе два вопроса – допустим, речь идет не об импровизации в сложившихся обстоятельствах; в таком случае, что представлял собой план 'А'? Допустим, Сталин не играет, изображая уверенность в своих силах – на что он рассчитывает, при таком неравенстве сил?
С ответами на первый вопрос все было очень плохо – версия доктора Геббельса, гласящая, что Сталин готовил агрессию против Германии, и, его удалось упредить в последний момент, вызывала у профессионалов взрывы хохота. Рузвельт не был военным, но, доводы военных были более чем убедительными – при отсутствии наступательного развертывания, при том уровне подготовки и материально-технического обеспечения, который был у Красной Армии летом 1941 года, она просто не могла начать наступательную войну против Германии. А, если бы, все-таки, СССР начал агрессию против Германии, то быстрый разгром РККА в Польше и Румынии был бы неизбежен. Равно не выдерживала даже малейшей критики версия о том, что Сталин ждал антигитлеровского переворота в Германии – в 1941 году 'казус Роммеля' был невозможен по определению. Примыкавшая ко второй версии версия о том, что союз СССР со старой европейской элитой был заключен еще до войны, была не убедительнее второй – никто не станет заключать союза с заведомо слабейшей стороной. Четвертая версия, выдвинутая аналитиками уже в отчаянии, поскольку логичного объяснения поведению Сталина не было, гласила, что Сталин ждал англо-американского вторжения в Европу, а, до этого надеялся оттянуть время. Комментировать это Рузвельту было просто некогда – времени не хватало на серьезные дела.
Так же плохо обстояли дела с ответом на второй вопрос – кадровая армия была уничтожена, потеряны территории, на которых до войны была сосредоточено больше половины экономического потенциала СССР. Да, удалось эвакуировать промышленность – но из этого совершенно не следовало, что, во-первых, удастся запустить производство в нужные сроки, во-вторых, что удастся производить технику пристойного качества в нужных количествах. Поражение Вермахта в Московской битве сняло угрозу быстрого краха СССР – но военные специалисты были едины во мнении, что исход войны на Востоке далеко не предопределен. Сталин, тем временем, по докладам разведчиков и дипломатов, со спокойствием человека, имеющего на руках четыре туза и джокер, занимается развертыванием военной промышленности на востоке страны и готовит стратегические резервы. Он сохраняет спокойствие в ситуации, когда СССР оказывается едва ли не ближе к катастрофе, чем осенью 1941 года – летом 1942 года советские войска разгромлены под Харьковом, танковые группы Вермахта рвутся к предгорьям Кавказа и ближним подступам к Сталинграда, угрожая лишить Советский Союз и основного района нефтедобычи, и ключевого маршрута транспортировки нефти и нефтепродуктов с Кавказа в центр страны. Конечно, оказавшись перед перспективой краха Советской России из-за отсутствия горючего, США оказали бы помощь – но ни по иранскому маршруту, ни по дальневосточному перебросить миллионы тонн нефтепродуктов было невозможно даже теоретически; а арктический маршрут оказался на грани фактического закрытия из-за успехов немцев.
И вот тут наконец-то фактор 'Х', который многие сподвижники Рузвельта считали плодом излишне живой фантазии специалистов из его 'мозгового треста', вопреки завету Конфуция ищущих отсутствующую в темной комнате черную кошку, проявил себя. Тогда что-то начало проясняться – до этого аналитики ожесточенно спорили о природе этого предполагаемого фактора 'Х', и доминировало мнение, что он представляет всего лишь выход советского общества на новый качественный уровень развития, подобно тому, как изменились США после эпохи Реконструкции, или Германия после эпохи грюндерства, став из аграрно-индустриальных стран обществами индустриально-аграрными Империями мирового класса. Этого мнения поначалу придерживался и сам Рузвельт – точка зрения меньшинства аналитиков, что фактор 'Х' представляет собой нечто сложное, включающее в себя и некую внешнюю компоненту, представлялось тогда президенту весьма спорным. Любимый аргумент меньшинства аналитиков о наличии внешней компоненты – реформация структуры большевистской партии, Рузвельт считал некорректным, хотя, конечно, в лицо он этого не говорил. Нет, отрицать тот несомненный факт, что большевики прошли путь от вполне обычной экстремистской партии, совмещающей легальную политическую деятельность с подрывной работой против своего государства, включая восстания и террор, похожей, например, на ирландскую ИРА, до правящей партии довольно нестандартного образца, и, далее, до структуры орденского типа, крайне напоминавшей орден тамплиеров времен его расцвета, было глупо. Естественно, первый этап не вызывал вопросов – суть дела была логична и понятна; также все было вполне понятно и очевидно со вторым этапом – оказавшись в хаосе Гражданской войны, в ситуации развала государственного аппарата, большевики вынужденно повторили путь якобинцев, превратив свою партию в структуру управления государством, правда, заметно успешнее; а вот, третий этап, превращение в орденскую структуру, наводил на серьезнейшие размышления – да, само по себе успешное совмещение идеи и идеологии, с управленческими функциями, было весьма нетипичным вариантом; но осуществление такой структурой буквально прорыва из времени паровозов и лошадей в эпоху дизелей и самолетов, давало пищу для размышлений на порядки большую. Когда сторонники второго варианта прямо говорили президенту, что единственный пример преобразований сопоставимого масштаба, на сопоставимой территории, структурой такого типа – это деятельность ордена тамплиеров, фактически создавших не просто орденское государство на территории западноевропейских государств, но первую в истории Европы единую финансово-торговую структуру, охватывавшую и почти всю Европу, и Средиземноморье. Это было нечто качественно новое – единое государство в государствах, объединенное общей идеей и железной дисциплиной, единая финансово-торговая структура, общие вооруженные силы и секретные службы – и эффективность этой системы настолько превосходила обычные для этой эпохи образцы, что ее поспешили уничтожить, пока это еще было возможно. Но орден тамплиеров создавался элитой европейского дворянства, при активнейшей поддержке Ватикана – Сталин мог только мечтать о таких стартовых условиях, и, надо заметить, о таком качестве человеческого материала, какими располагали создатели и иерархи ордена. Прийти к этой идее, говорили сторонники этой версии, он мог и сам – но, воплотить ее в жизнь с таким успехом, при активном противодействии старых революционеров? На это Рузвельт резонно отвечал, что основания для сомнений в единоличном авторстве Сталина такой трансформации большевистской партии, безусловно, есть – но, нет доказательств посторонней помощи. Кроме того, совершенно неясно, кто бы мог и желал помочь мистеру Сталину с этим бизнесом.
После показательной резни, устроенной Арктическому флоту Рейха русским Северным флотом, доселе незамеченным в особых свершениях, Рузвельт совершенно спокойно ждал продолжения – если это было началом явного вступления в игру фактора 'Х', имеющего внешнюю составляющую, то продолжение должно было последовать, и скорее всего, на юге России, чтобы снять угрозу русским нефтяным месторождениям. Предположение подтвердилось не сразу, вначале последовали репетиции на севере и в центре советско-германского фронта – но его реализация вызвала шок у американских генштабистов, не сразу поверивших в реальность такого разгрома. Если до сей поры противостояние Красной Армии и Красного Флота с Вермахтом и Кригсмарине напоминало Рузвельту поединок парня с фермы, пусть и сильного, и разучившего приемы бокса, но совершенно неопытного, с признанным чемпионом штата среди любителей, с вполне предсказуемыми результатами – то, теперь, чемпион США среди профессионалов, методично, с усердием хорошего повара, превращал в отбивную котлету чемпиона штата среди любителей. Результат также был очевиден – но, нужно было найти ответы на некоторые вопросы. Кто тот тренер, превративший парня с фермы в непобедимого чемпиона? Каковы его планы, насколько далеко он собирается зайти? Насколько его цели совпадают с целями его подопечного? Возможно ли выйти с ним на прямой контакт – или переговоры придется вести с мистером Сталиным? Можно ли вообще с ним договориться на приемлемых для США условиях – или жесткая конфронтация неизбежна?
Сотрудники 'мозгового треста' президента трудились как негры на плантации – но, информации для анализа катастрофически не хватало. Если удалось вычислить два наиболее вероятных варианта ответа на первый вопрос, то с ответами на второй вопрос дела обстояли намного хуже – предположительно, речь шла о доминировании, но, ограничивается ли это доминирование Европой, Евразией, или же, всем миром, ответить было невозможно. Неясно было и то, идет речь о классическом доминировании – или, доминирование является средством для достижения некой сверхзадачи. На третий, четвертый и пятый вопросы ответов не было вовсе.
События в Италии, Испании и Германии намного превзошли худшие ожидания – тренер сделал из своего ученика не просто воина, пусть и непобедимого на поле боя, но, еще и блестящего экономиста и дипломата. Впрочем, Рузвельт подозревал, что 'университетский курс' начался отнюдь не в 1942 году, а, самое позднее, лет на пятнадцать раньше – очень уж хорошо укладывалась в единую систему трансформация Советского Союза и его общества, завершением которой стала трансформация его вооруженных сил, внешнеэкономических отношений и внешней политики. Оставалась сущая мелочь – попытаться донести понимание всего этого сначала до своих сподвижников, а, затем, до 'капитанов' американского бизнеса. Совсем недурно будет, подумал Рузвельт, если они не сочтут, что я несколько переутомился от тяжких трудов на посту президента – или, что моя болезнь начала влиять на ясность моего рассудка. Рузвельт прекрасно отдавал себе отчет в интеллектуальных способностях, как первых, так и вторых – очень умные, великолепно образованные люди, отлично умевшие просчитывать ситуацию 'в статике' и, очень хорошо – 'в динамике', они, за редким исключением, с большим трудом выходили за грань привычных шаблонов. Им не хватало таланта, которым, без ложной скромности, обладал сам Рузвельт – не просто выйти мыслью за грань, но и совместить это с текущей реальностью, с несомненной пользой для последней – кроме него, из числа его сподвижников, этой способностью обладали умиравший от рака Гопкинс и присутствующий здесь Маршалл. Еще, пожалуй, с изрядной натяжкой, можно было добавить в список отсутствовавшего Аллена Даллеса, выдающегося бизнесмена и дипломата.
Чем ум отличается от хитрости? Тем, что он видит суть вещей, в то время как второе, это лишь нахождение частных решений применительно к условиям. Старина Уинни безусловно был очень хитрым и многоопытным бойцом за могущество Британской Империи. Он с яростью сражался за каждую мелочь – Шпицберген, Нарвик, французская контрибуция, оплата по ленд-лизу, границы фунтовой зоны, статус Проливов, курдская проблема, Афганистан, что-то там еще. Но все это не имело никакого значения – если где-то рядом пряталось нечто, способное перевернуть игровой стол, причем ключ к нему был в кармане у одного из игроков, кто сейчас отмахивается от нападок Уинни, вполсилы, даже не выходя из состояния олимпийского покоя.
Так неужели аналитики были правы, в одном из предположений, на вид совершенно безумном?
Рузвельт с трудом дождался окончания заседания. Проклиная свою прикованность к коляске – насколько легче было бы просто к Сталину подойти, чтобы задать один вопрос! Или просить через переводчика о минутном разговоре один на один? Но все обернулось как лучше – раскрасневшийся и злой Черчилль первым выскочил за дверь, за ним последовал его секретарь-переводчик. Сталин неспешно встал и тоже собрался выйти.
–Господин маршал, можно вас на минуту? – сказал Рузвельт – у меня к вам есть важный вопрос.
Если Сталин и удивился, то вида не подал. Вернулся на прежнее место, сел в кресло напротив.
–Господин маршал, я хотел вам сказать – тут Президент США на секунду запнулся, подбирая слова – знаете ли вы, что бывает с волком, присвоившим общую добычу? Его рвут всей стаей. Если к вам, волею судьбы или господа, попало то, что по праву принадлежит всему человечеству. Господин маршал, у вас есть доступ к машине времени?
Сталин лишь усмехнулся. И произнес:
–Вероятно ваши аналитики так и не смогли найти причину побед нашей армии над врагом, и придумывают для объяснения этого самые невероятные причины. Нет у меня машины времени, и даже волшебной палочки нет. Все это сделано руками наших, советских людей.
И сверкнул взглядом.
–Под всем человечеством вы, видимо, имели ввиду Соединенные штаты? Да и слова про стаю волков мне придется иметь ввиду в дальнейшем.
–Вот черт! – подумал Рузвельт. – я не только ничего не прояснил, но еще и подставился! Но каков же он – матерый волчара! Хотя... в таком разговоре все ж не комильфо лгать в глаза? Умалчивать, говорить иносказательно или двусмысленно – да. Но не отрицать имеющееся!
–Интересно, господин Президент, а как бы вы ответили на подобный вопрос? – продолжил Сталин – впрочем, даже если допустить что что-то подобное имело место, неужели вы, американцы, стали бы этим делиться? Вспомним времена "золотой лихорадки" на Аляске, гениально описанные господином Лондоном – золотоискатели столбили участки, становящиеся их собственностью. Посягательство на чужой участок каралось смертью – но, любой имел право застолбить свое место на незанятой земле и искать там золото. И если ему это удавалось – это его удача и его право, которое он мог защищать. И никто не ссылался на "право стаи". Впрочем, господин президент, мы с Вами собрались здесь обсудить мировые проблемы, которые ждать не могут? А о фантастике, я полагаю, можем поговорить позже, например в компании с господином Уэллсом, он ведь ещё жив?
30 мая от советской делегации в Москву ушло шифрованное сообщение. Которое содержало лишь одно слово, "согласие".
В этот день вечером в Генштабе, и некоторых других Учреждениях, допоздна горел свет. А линии ВЧ, идущие на Дальний Восток, наверное, раскалились от звонков.
Все дипломатически решено – можно начинать! За Родину, за Сталина!
Контр-адмирал Лазарев Михаил Петрович. Владивосток, штаб ТОФ, 30 мая 1945.
Готовясь и изучая национальный характер будущего врага, я удивился, насколько мы похожи. И мы, и японцы – "тягловые", у нас во главу ставится служение. По причине трудностей жизни: у нас это были постоянные набеги самых разных завоевателей, и суровая природа, а у японцев жизнь буквально на вулкане, тут и тайфуны, землетрясения, цунами, и крайняя ограниченность ресурсов, когда три четверти и так невеликой территории составляют бесплодные горы. Потому и у нас и у них торговое "третье сословие" не то что не возникло, но никогда не имело большой силы в сравнении со служивыми. И даже капитализм, прямо по Ильичу, "был склонен к высшей концентрации", то есть был крепко связан с государством.
Различие же в том, что японцам некуда было податься со своих островов – в отличие от нас, бегущих от Москвы на новые земли, "встречь солнцу", от крепкой царской руки. Ну и чисто восточная специфика (все ж Япония очень много в плане культуры взяла от Китая) – в итоге, японское общество гораздо жестче нашего, и жестоко даже к своим (а о чужаках вообще молчу!). Второе отличие – что, если не считать полумифического вторжения монголов, Японию никто не пытался завоевать, и японцы воевали исключительно или между собой, или как захватчики. И третье, что тайфуну, в отличие от иноземцев, сопротивляться бесполезно – а потому надлежит капитулировать перед неодолимой силой, а не сражаться до конца. Интересно, что было бы, сумей Хубилай оказаться таким же удачливым как норманн Вильгельм Завоеватель?
Маленькое отступление: мне слабо верится во вторжение "монголов". Поскольку не представляю, как из степных кочевников можно сделать моряков. Как в турецком и арабском флотах служили отнюдь не бедуины из пустынь, а уроженцы Леванта. И припоминаю, что еще в той, прежней жизни, в двухтысячных, попался мне переведенный роман какого-то современного японского автора про те героические времена, что-то про "монах-ниндзя", ну как полагается, отважные самураи, живота не щадящие за свое отечество... вот только про армию вторжения прямо сказано, что корабли и матросы были корейскими, десантная пехота – китайской, монголы были лишь кавалерийским корпусом; конечно, это худлитература, но значит, в самой Японии помнят именно так? А так как еще Лев Гумилев писал, что китайцы, будучи плохими всадниками, всегда предпочитали нанимать конников-степняков – хуннов, тюрок, и тех же монголов – то может быть, это какой-то китайский богдыхан решил попробовать завоевать Японию, но обломилось?
Но это все лирика. А грубая реальность, что войну, которая начнется вот-вот, СССР обязан не просто выиграть, расплатившись наконец за Порт-Артур и Цусиму – но и сделать это быстро и с минимальными потерями. И нет у меня сейчас туза в рукаве, непобедимого "чудо-оружия" в лице атомной подлодки, могущей истребить целую эскадру из этих времен. Можно спорить, прав был Сталин или нет, уже тогда эксплуатируя уникальную боевую единицу на пределе ее возможностей – без преувеличения скажу, что именно мы вымели немецкий флот с Севера, обеспечив бесперебойную работу северного маршрута ленд-лиза, сыграли решающую роль в Средиземноморской кампании, а уж уран для "манхеттена", вместо того попавший к Курчатову на "арсенал два", реально может обеспечить резкое ускорение советской атомной программы. Но за все надо платить – и хотя "Воронеж" перед самым провалом в прошлое побывал в капитальном ремонте, ресурс его не бесконечен, в последнем походе случилась утечка в одном из реакторов, слава богу, без ужасов в стиле голливудской К-19 обошлось, а кап-1 Серега Сирый бесспорно, самый лучший командир БЧ-5, какого я знаю – но идти подо льдами Арктики на Тихий океан (где к тому же нет такой научной и ремонтной базы, как Севмаш), было признано слишком опасным. Так что, товарищ Лазарев, воюйте тем, что есть в этом времени! Что есть – вот, весь Тихоокеанский флот под вашей рукой.
Замечу кстати, что в той реальности, где Победа была в 1945, а не в 1944, в войне с Японией наш флот, в отличие от армии, и даже Амурской флотилии, показал себя откровенно бледно. И успехи на морском фронте – взятие Курил, десанты в Корее – были следствием того, что японский флот, бывший когда-то третьим в мире, к августу сорок пятого после Сайпана, Филиппин, Окинавы представлял из себя лишь тень былого, жалкие ошметки. А здесь события на Тихом океане, из-за сражений в Атлантике между флотами англо-американских союзников и Еврорейха (рейды "берсерка" Тиле, Гибралтар, Лиссабон) оттянулись где-то на полгода позже, хотя последовательность их, в целом, сохранилась. Сейчас, весной 1945, американцы заканчивают очищать от японцев Филиппины. А в юго-восточной Азии англичане, ликвидировав наконец японское вторжение в Индию, пока присматриваются к Бирме, Малайе, Индонезии. Но японский флот, хотя и понес очень серьезные потери, еще не уничтожен, и кроет наш ТОФ с его парой крейсеров и десятком эсминцев, как бык овцу.Так что задача победить, причем быстро и без потерь – ну очень не тривиальная!
Нашими козырными картами были (кроме послезнания), авиация и подплав. Подводные лодки с Балтфлота (двенадцать бывших немецких "тип XXI" и два минных заградителя) вместе с ленд-лизовской эскадрой (эскортные авианосцы "Владивосток" и "Хабаровск", тип "Касабланка", шесть эсминцев типа "Флетчер", шесть эскортных миноносцев, восемь десантных кораблей) пришли в Петропавловск-Камчатский 5 мая. Экипажи там опытные, и должны хорошо освоить корабли за время перехода – но как им удастся включиться в общий план? И как справится Котельников – один из лучших подводников СФ, но бывший всего лишь командиром дивизиона, теперь же ему предстояло бригаду подплава сформировать, за месяц всего!
Подвел Дальзавод. Раньше в Камчатский дивизион подлодок входили семь "ленинцев" и три "щуки". Но поскольку "тип Л" были относительно новые, то решено было их, по нашему опыту, довести до стандарта североморских "катюш" – новые гидролокаторы, радары, приборы управления торпедной стрельбой, системы регенерации воздуха, даже механизмы успели на амортизаторы поставить. Вот только в результате (новую технику надо было опробовать, по сути экипажам пройти курс боевой подготовки), лодки застряли во Владивостоке, и на позиции к восточному побережью Японии не успевают никак – через Корейский пролив самураи не пропустят, там у них противолодочный рубеж, минные заграждения, на которых уже погибло несколько американских лодок. Два дня назад Л-7, Л-8 и Л-19 ушли из Владивостока на север, пойдут Татарским проливом, будут в Петропавловске не раньше чем через неделю. А у меня остаются лишь десять по-настоящему современных лодок, восемь "ленинцев" и две "эски", С-52 и С-53. Еще есть "щуки" ранних версий, и "малютки", которые вообще можно не считать, ну если только японцы не попытаются с моря штурмовать Владивосток.
"Бофорсами" удалось разжиться, по принципу "что дают". На крейсера, "Калинин" и "Каганович", поставили по четыре установки, две спарки, две одиночные. На эсминцы по две или три, тут полный разнобой, кому-то шесть стволов досталось, кому-то два. Остается лишь надежда, что японской авиации при нашем господстве в воздухе будет очень неуютно. Зато часть одноствольных "бофорсов" сумели поставить на "шнелльботы". Торпедных катеров у нас целых две бригады: одна, в четыре десятка больших мореходных "немцев", вторая на американских "восперах", переброшена с СФ, причем командует Шабалин, которого я знаю еще по бою у Нарвика весной сорок третьего. Дислоцированы катера в Совгавани и Николаевске, работать им предстоит у южного Сахалина и в проливе Лаперуза. И не на всех, но хотя бы на флагманах звеньев катеров установили радары – а главное, подали новейшие торпеды с самонаведением на кильватер, не так много, как хотелось, но все же... и экипажи успели отработать с ними учебно-боевые задачи, так что японцев ждет сюрприз!
Ну и авиация. За ПВО я в общем, спокоен, "перл-харбора" не будет, истребителей у нас много, новых моделей, налажено наконец взаимодействие с РЛС. Штурмовые полки, на Сахалине и на Камчатке, готовы к работе. Головная боль – недостаток ударной авиации, в сравнении с количеством целей. И аэродромов не хватает – количество авиации на ТОФ достигло насыщения, дальше просто негде размещать. Правда, появился такой новый для нас компонент, как палубная авиация – как я сказал, американцы расщедрились на два авианосца-эскортника. В составе авиагрупп "хеллкеты", могут работать и как противолодочники, и как легкие штурмовики. Что до главной ударной силы, то число бомберов, в той или иной мере обученных применять управляемый боеприпас (КАБы, по типу немецких "фриц-Х") удалось довести до десяти полков на Ту-2 и До-217, один полк на Хе-177 (по докладам, пилоты не в восторге, очень капризная машина). И есть еще отдельная разведывательная эскадрилья, имеющая в составе пять Хе-277, два Пе-8, один В-17 и один В-24 (последние подобраны в Европе, восстановлены из числа совершивших вынужденную посадку на нашей территории).
Именно с этой эскадрильей – напряг наибольший. Доразведка, уточнение целей, летали не только над морем, но и над японской территорией, и над южным Сахалином, и над Курилами, и даже над Хоккайдо и Хюнсю! Благо, "хейнкель" забирается на тринадцать тысяч, где его японские истребители просто не могут достать – а цейссовская оптика все видит! Вот только гонять тяжелые бомберы ежесуточно, это возможно лишь в книге Резуна – в норме же, при всем старании техников, межполетный интервал достигает двух-трех дней, и каждый новый вылет расписан штабом на недели вперед!
А пришлось нарушить! 10 мая, прорвался ко мне Юрка Смоленцев, только прилетевший из Читы. И после положенного здравия и приветствий, предъявил мне грозную бумагу с требованием оказать полное содействие.
–Ты мне прямо скажи, что от флота надо – говорю я ему – если в пределах наших возможностей, какие вопросы?
–Воздушная разведка в район Харбина – отвечает – и срочно. Возможно, потребуется уточнение. Но кровь из носу, через три дня, самое позднее, мы должны иметь всю информацию. Со мной штаб, ребята от Маргелова, вы их не знаете, Михаил Петрович. Непосредственную поддержку нам Дальняя авиация окажет, но нужно точно все цели расписать.
Пытаюсь вспомнить, что там возле Харбина было. Неужели?
–Юр, так ты что водопроводчиком решил поработать?
–Ага, номер 731 – усмехается он – эту лавочку взять, чтобы живыми и с бумагами. Но я вам ничего не говорил! (прим. – под вывеской «управления водоснабжения Квантунской армии» был «отряд 731», по изготовлению и применению бактериологического оружия – В.С.). Важно лишь, чтобы разведчика самураи за В-29 приняли, не встревожились – оттого и надо, чтобы летел курсом отсюда, а не с севера. Ну а мы туда пойдем – поскольку нас обучали в полной химзащите работать, в отличие от местных. Еще из наших Шварц будет, и Андрюха, который «чечен», и команда с СФ, кого мы успели натаскать. И батальон десантуры в прикрытие.
Звоню Ракову, ставлю задачу. Поскольку эта цель бесспорно, более приоритетна, чем какой-нибудь укрепрайон на Сахалине. Как в вооруженных силах принято – надо! Измените график, или найдите подмену. Но чтобы срочно был сфотографирован район – диктую координаты.
Как водится, нашли еще время посидеть, поболтать с полчаса. Юрка обмолвился, что успел во Франции побывать, "а Де Голль сука". Передал мне привет от моей Анюты и своей Лючии, вот повезло человеку, два месяца назад в Москве был, обеих видел. Анюта с Владиком здоровы, ждут и скучают – а Лючия в январе сразу двойню родила, мальчика и девочку, назвали Петром и Аней. И скорее бы эту войну закончить – надеюсь, управимся так же быстро, как там, в августе.






