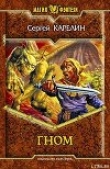Текст книги "Страна Гонгури"
Автор книги: Владислав Савин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 7 страниц)
Он сделал знак ефрейтору, тот подтолкнул Гелия. Юный боец бросил жадный взгляд на автомат, лежащий рядом на церковном крыльце.
– Даже не думай – заметил горелый – не успеешь. Не убью, но руки-ноги переломаю. К тебе это тоже относится, старшой. Не надо на меня кидаться – будет только хуже. Сядь, поэт, вот на те бревна, и слушай внимательно. Может – после в книжку свою вставишь.
Сержант и ефрейтор также отошли и встали у дальнего конца бревен, сложенных у стены. Закурили – поглядывая на Гелия с Итиным, как обученные псы, пока смирные, но по первому слову хозяина готовые разорвать.
Итин молчал. Гелий тоже.
– Отец с матерью как? – спросил горелый – это хоть можешь сказать мне? Я им однажды даже написал, просто пару слов – что жив, не забыл. А когда в тылу вашем был – сумел подбросить в вашу полевую почту, указав обратный номер – какой-то вашей дивизии. На Шадре это было – интересно, получил ли он?
– Умер отец – ответил Итин – в первую зиму. Из-за тебя умер – из-за таких, как ты. Кто войной на народ пошли, не желая свободу ему отдать.
Он вспомнил ту зиму – первую после революции, и самую тяжелую. Чтобы республика труда выстояла – всем приходилось работать до полного истощения; кто не мог дальше трудиться в полную силу, тех безжалостно снимали с довольствия, заменяли новыми людьми. Отец исправно работал – хотя его, как беспартийного, перевели из мастеров в простые слесаря. Затем его отставили в трудовой резерв, без содержания – решив взять на его место другого, из молодых и проверенных.
– Ты уж извини – сказали в завкоме – сейчас кто не тянет на полную, тот тормозит: время такое – видишь сам. А у тебя – и возраст уже, и здоровье не то. И пайки у нас ограничено выделяются, по числу мест рабочих – лишних нет. Весна близко – потерпи как-нибудь. А как мировая революция победит – будет тебе по справедливости заслуженный пенсион. Недолго уже осталось.
Отец все равно приходил со всеми к началу смены. Даже без места – готовый любому подсобить; за это рабочие делились с ним пайком. Но еще через месяц, после наглых вылазок врага, в охрану к воротам встали уже не заводские дружинники, а чухонские морпехи – имевшие строгий приказ не пропускать посторонних. Тогда – все еще жили по домам; казарменное положение на заводах было введено позже. Отец пришел в завком, чтобы выдали пропуск – требовал, просил, умолял.
– Не могу! – кричал председатель, знавший отца двадцать пять лет – тебя на довольствие поставить, значит у кого-то паек отнять придется, лишних нет! Меня же в ревтрибунал, за такое – детей моих пожалей! Не положено, по твоей категории – у тебя же заслуг перед революцией не числится никаких!
Была ранняя весна. Снег уже сходил проталинами. Раньше в это время отец по выходным ходил в поле с ружьем, чтобы подстрелить зайца или куропатку. Но ружье отобрали, и не было уже сил. Отца нашел патруль народной милиции, постучавшийся в сохраненную за ним комнату – чтобы вручить ему повестку о мобилизации на торф.
– Вот черт! – сказал старший патруля – еще одной человеко-единицы не хватает, как же план по рабсиле выполнить? Тьфу!
Он плюнул на пол, растер сапогом, выругался еще раз – и вышел. Но все же прислал после забрать тело – чтобы похоронить по-людски. Вместе со всеми, кто не пережил тяжелую зиму.
– Ну и кто из нас гад? – зло спросил бывший младший брат – ты, наш геройский борец за всеобщее счастье, не мог своей власть паек дать? Я всегда его за батю считал, своего-то не помню почти. Но тебе – он в самом деле родной!
– Нельзя! -ответил Итин – по справедливости, чтобы партия, как все. Мы – сами с голода умирали, но никто сказать не мог: партия жирует, а народ голодает!
– Ты меня за дурака не держи – как такое делается? Тайно бы дал – чтоб не смущать никого!
– Нельзя – упрямо повторил Итин – еще хуже выйдет, если все ж узнают: шептаться по углам будут, подозревая и там, где нет! И кумовство, опять же: если своему дать – выходит, отнять от кого-то более нужного. А кто более для дела ценен – Партия одна лишь решает, не я. Потому что коммунизм – это всех поднять, сразу. Иное будет – не по правде.
– Мать где? Если и она… Ох, не сдержусь – убью тебя, старшой, прям сейчас.
– Не знаю – ответил Итин – еще осенью отец ее домой отослал, где с едой легче. А на письмо предзавкома, когда отца хоронили, ответ был – деревня сожжена при кулацком мятеже, судьба такой-то неизвестна. Может быть, и жива.
Они помолчали чуть. Оба.
– Отец один знал – произнес наконец Младший Брат – что я живой. Не усидел я тогда, как ты уехал, стал ваших искать. Хотел честно – в революцию, как ты. Чтобы, когда ты в другой раз – а я уже с вами. Пришел я, к вашим – а они решили, что я их выслеживаю. И разбираться не стали – хотели прикончить на берегу, и в воду.
Итин знал – так бывало не раз. Полиция работала очень хватко и умело – засылала шпионов, или даже вербовала кого-то из товарищей, имевших несомненные заслуги. И если в самом начале можно было отделаться высылкой или поселением – то очень скоро самым частым приговором стали полярные рудники, откуда обычно не выходили живыми. Много комитетов, в разных городах, погибли до последнего человека – пока партия научилась быть беспощадной при малейшем подозрении. Это было жестоко, но необходимо – потому что позволяло ценой жизни одного обезопасить всех.
– Чутье спасло, вовремя обернуться. Еще – приемы японские, и финский ножик в кармане. И вышло – что это я вашего убил. На фронте после приходилось не раз, гансов – в рукопашной. Или часовых снимать – без шума, штыком. Но тогда греха на мне еще не было: первый убитый мной был – кого я искренне хотел "товарищем" назвать. Так вот и началось. Ваши – искали меня тогда?
– Нет! – ответил Итин – подумали, утоп ты тоже. За все время с тех пор, я у отца один лишь раз был, перед самыми Десятью днями – до того или был далеко, или опаска была, что следят. Тогда лишь – про тебя и узнал. Из тех, кто тогда в организации был – никого почти не осталось. Жаль, конечно, что с тобой вышло так – помянули тебя, вместе с нашими товарищами, погибшими за правое дело – и надо было борьбу продолжать. Отомстить эксплуататорам, которые принудили нас – так со своими.
– Я, как домой пришел, отцу одному лишь все рассказал. Он и присоветовал в юнкерское идти, чтобы ваши не достали – как раз тогда начали и неблагородных брать. Я в ту же ночь – вещи взял, и исчез. Отец письмо дал, земляку своему, прапорщику из училища – тот помог мне, на первых порах. Не так страшно было, как обидно – что без вины. И тебя – рядом нет.
– В тот раз меня взяли через три месяца, в Зурбагане – и на поселение, в Шантарский край. Я бежал, и через год снова попался – в Вильно. На этот меня – на Карские шахты. Снова бежали – в полярную ночь, через ледяной ад. Война уже началась – и теперь мне был бы расстрел без суда, если б поймали. Нас обкладывали умело, как волков – товарищи исчезали, один за другим. И мы знали, что рано или поздно – всех нас. Вождь нас спас – если бы он не приехал, и не началось, я продержался бы на воле полгода-год, не больше. Так вот вышло.
– А я вот на фронте, за отечество – где восемь месяцев жили, по статистике, до ранения, или насмерть. Слова твои я помнил, старшой – себя сделать правильно. Чтобы готовым быть – когда дело правое тебя найдет. За революцию воевать придется – я и старался, на курсе одним из первых. И все ждал, что ты объявишься – с отцом сговорено было о словах особых в письмах, чтобы не понял больше никто. Ждал, что встретимся – и я с вами буду, как прежде. Встретились вот – и против стоим. И ведь никто не заставлял – отрекись. Никому – не продавался. И ни единой вещи не сделал – чтобы, как ты говорил, перед совестью своей после было бы стыдно. А вышло – вот. Ты там – а я тут.
Как война началась, мне еще доучиться осталось – но всех нас подпрапорщиками досрочно, и на фронт. А на фронте, брат, это как щенка в воду – если не утопнешь, то научишься; а я оказался и способным, и везучим. В мирное время чины по выслуге и знатности – а на фронте, когда ротного убьют, проще назначить самого толкового из взводных. И стал в конце – капитан, командир батальона разведки броневой бригады. Все было, за три года – и ползком через фронт за "языком", и солдат вперед поднимал, и танк в атаку водил, гансов положил – не счесть. Морды не бил, кровью солдатской чины не выслуживал – иначе сгорел бы в танке еще тогда, на Карпатской Дуге. Встречный танковый бой под Сандомиром – когда прямое в бензобак, и тридцать секунд лишь, чтобы выскочить, кто сможет: затем машина уже как раскаленная печь. А меня осколками, и люк командирский не открыть – заклинило, или сил уже нет. Как меня водитель с радистом вытащить успели – до сих пор не пойму. Все ж любили меня солдаты, еще и за два "Александра", положенные по статуту "за победу над врагом с меньшими своими потерями" – на фронте таких уважали куда больше тех даже, кто с геройской Звездой. Тогда фронтовикам после ранения десять суток домой – было свято. Домой приехал, железнодорожники бастуют, поезд вместо Варшавского вокзала – на Выборгский. Выхожу – на площади столпотворение. Говорят – Вождь приезжает – так и оказался я в толпе, в тот исторический день…
– Ты там был?! – перебил Итин – врешь! Почему тогда не встретились? Или ты после – наших давил, на баррикадах? Накануне я у отца ночь целую сидел, обо всем говорили, тебя вспоминали – почему отец ничего мне не сказал, если знал?
– Не знал он. Дурак писарь бумаги перепутал – извещение отец получил, что убит я. А я писать не стал – думал, радости больше, когда приеду. Вождя вашего, на танке видел – и тебя с ним. Кстати, танк был не тот, что вы там памятником поставили, видел фото в вашей газете – не новейший "сорок четвертый", а старая бэтешка. Я даже удивился тогда, неужели такие где-то еще остались, на третьем-то году войны? Не нашли, что ли – музейный экспонат?
Итин лишь пожал плечами. Это ж ясно, для воспитания масс – как прежде полководцу положено вести за собой армию, сидя на рослом статном жеребце, а не на тощей малорослой лошаденке.
– И тебя я видел – продолжил Младший брат – ты еще помог Вождю на башню влезть. Я несколько раз тебе крикнул – но шум был, и не протолкаться, хоть близко. Тут Вождь говорить стал – я слушал, и со всеми "ура" кричал, потому как был согласен. К стенке "жирных индюков" – мразь спекулянтскую, всех, кто на войне состояние нажил, а особенно Рыжего Чуба, публично сказавшего что если народ еще не мрет с голода, то значит, он имеет в тайне от казны какие-то доходы, пока не облагаемые налогом; до чего не везло нашей державе на премьеров. Неправедно нажитое – экспроприировать, то есть отобрать, и справедливо поделить. Новую власть выбрать, из своих, чтобы свобода и демократия. Умел ваш Вождь говорить – не отнимешь! Речь его ту, августовские тезисы – я сам после, на фронте, солдатам своим, по газете читал. И мне тоже – "ура" кричали.
Тут кто-то крикнул – на чердаке жандармы! С пулеметом – сейчас стрелять начнут! Я – с теми, кто туда: тут больше задавят, чем пулями положат, ну а воевать мне было привычно. Нашли мы там троих – только без пулемета, просто прятались "сиреневые" от толпы, их и сбросили – прямо в колодец двора, с шести этажей. А когда я снова вниз – не было вас уже. Сам бы охраной Вождя командовал, так же сделал бы – сразу в танк, люки задраить, и ходу. Думал – встретимся еще.
Вот так – я в революцию и попал. Это ведь я – был тем неизвестным солдатом, кто возглавил штурм полицейского участка на набережной, который возле "египетской гробницы". С теми из участка у меня счеты были – еще с пролетарских моих времен. Увидел, как ваши дружинники неумело лезут под огонь – и организовал все, как надо. Знаешь, я не раз видел рукопашную в окопах, когда несколько сот озверевших двуногих режут и рвут друг друга на части – но даже мне тогда противно было, что ваши после сделали со сдавшимися городовыми. Это потом – насмотрелся, привык.
– Справедливый гнев народа – сказал Итин – припомнили им, за прежнее все. За то дело тебя искали тогда, чтобы наградить. Орденов наших еще не было – но что-нибудь придумали бы.
– А я тебя искал. Трижды приходил к вам, в ваш самый главный Комитет – но так выходило, что ты всегда был где-то. Вождь по коридору с чайником шел – меня чуть не ошпарил, задев среди толпы. Где ж ты был, старшой? Ведь встреться мы тогда…
Итин помнил Десять Дней – как сверкающую череду событий. Надо было создавать комитеты, как и отряды рабочей гвардии; надо было печатать воззвания и везти их распространять; надо было принять делегатов из провинции и связаться с товарищами на фронте и в других городах; надо было освободить из тюрьмы товарищей и поместить туда внесенных в списки "подозрительных". Затем еще оказалось, что чтобы город не замер в параличе и голоде, надо поддерживать работу электростанций, водопровода, трамвая, пекарен, почты, пожарных частей. Время вдруг понеслось галопом, и надо было сделать и успеть столь много, что не оставалось минуты даже чтобы умыться и поесть. Ночевать приходилось в самых разных местах – в заводском комитете, в цеху, в казарме, в какой-то квартире; днем же все бежали, кричали, искали кого-то; приходилось думать, как бы оказаться сразу в паре-тройке разных мест.
– Ты бы к любому обратился – сказал Итин – ведь мы же, партия, все заодно. Нашли бы тебе дело…
– Я же никого там не знал! Главное, не знал – может, у вас все еще ко мне счет? За убитого вашего – вдруг, я бы тебя подвел? Потому – только тебя и искал, тебе бы все, как на духу выложил. А вышло – опять. Ходит, спрашивает – подозрительно, документ глянули – узнали, что "благородие". Тут же схватили и куда-то повели, с матюгами и прикладом в спину – а я, после городовых на набережной, вовсе не верил в ваш гуманизм: к стенке без вины не хотелось. И не оставалось ничего – трое ваших было, с красными повязками, но выждал я случай, и положил всех голыми руками, насмерть, без шума – как гансов; после фронтовой разведки, литературный фон Дорн передо мной щенок неумелый. Оружие взял, бумаги свои обратно, для маскировки повязку снятую на рукав нацепил – и вышел спокойно, как вошел.
– Сукин кот, так это был ты? – воскликнул Итин – мы же тогда решили: заговор, трех наших убили прямо в Комитете! Первые бойцы народной милиции, павшие за революцию – с почестями и оркестром хоронили! Ведь хорошие ребята были, из заводских, сознательные, добровольцы – и семьи у них! Зачем – сослался бы на меня, сказал бы…
– Так ведь не знал я: вдруг тебя бы подставил? И привычка с войны – если кто против тебя с оружием, то или его жизнь, или твоя, если успеешь – совесть чиста. Так и вышло вот – второй раз. Сначала один, после сразу трое.
– Тебя искали – сказал Итин – вот уж точно бы к стенке поставили, если б нашли. Как раз после Вождь и приказал: создать особую комиссию, для борьбы с контрой. Первое дело это для нее и было – по всему городу контру ловили, допрашивали – и в расход. Всяких чинов жандармских, и прочих, кого подозревали.. Морда в бинтах – думали, маскируется, вражина!
– Что ж не нашел? Я не прятался – у отца с матерью жил, все эти дни. После такого, в Комитет ваш мне лучше было не являться – но думал я, что к родителям-то ты хоть раз придешь. С соседями говорил, с ребятами с заводов, из дворов соседних, в цеху нашем был не раз, еще в событиях всяких участвовал – только говорил всем, что рядовой солдат. В патрулях красноповязочных на заводской окраине были дядьки из цеха, кто отца хорошо знал, а кто-то и меня еще помнил; да и смотрели те патрули больше, чтобы пьянства и безобразия не было – какая в рабочей слободе контра? Я ж имени своего не скрывал тогда – неужели, тебе после никто ничего?
– Слишком много было всего – ответил Итин – и не такое терялось. А к родителям – так и не смог я тогда, все думал, выберусь, раз здесь я, и каждый раз что-то важное было. А после – спешно отправили меня из Питера, комбеды организовывать. Но где ты в последний день был, когда все решалось? Когда нас там – расстреливали и давили?
– И глупо, что давили: вам повезло, что против вас командовать – не нашлось опытного фронтовика. На месте светлейшего князя, я бы не стал губить технику в узких улочках, где из-за каждого угла граната, а взял бы форты Лебяжьего и Красной Горки – шестнадцатидюймовые береговые батареи, башни развернуть, как раз бы до города достали. Тихо бы взял, и легко – при том бардаке и развале дисциплины. Корректировщиков с рацией на любую пожарную каланчу – и раскатать в пепел и ваш Комитет вместе с Вождем, и еще несколько кварталов вокруг. После – одного верного батальона хватило бы, зачистить тех, кто уцелел. И посмотреть – насколько прав социализм о роли личности в истории.
– Ах ты !! – Итин хотел вскочить. И задохнулся, упав обратно – от резкого тычка под ребра.
– Сидеть! – приказал Младший – успеешь еще помереть, герой ты наш! Жизнь одна, и как сказал не помню кто, но шибко умный – прожить ее надо так, чтобы не скучно было вспомнить.
– Не стыдно вспомнить – поправил Итин, отдышавшись – эх, ты! В казаки-разбойники не наигрался?
– Может быть – согласился Младший – только, тогда я искренне за вас был. Сам себя – вашим считал. И очень может быть, с вами был бы тогда – на баррикадах. Но – не совпал мой отпуск с вашими Десятью днями, на один лишь тот самый, последний день. Войны никто не отменял – в поезде я был, на фронт обратно. И о победе вашей – после уже узнал, как добрался.
На фронте очень скоро тоже началось – братание, штык в землю, все по домам! В бригаде нашей осталось – восемьсот из штатных четырех тысяч. Идиотизм – командиров выбирать, на войне! В бронечастях все ж народ толковый был, больше из пролетариев, чем из землеробов – потому, в командиры выбрали меня: и командовать умею, и солдат берег, и классово близкий – выходит, от вашей власти я командирство получил. И в армию вашу, Рачье-Козлячью, извините, рабочее-крестьянскую, мы перешли, не переформируясь – те же люди, в ротах и взводах, только флаг красный, ленточки красные вместо погон, и товарищи вместо благородиев. Вы теперь – власть, значит ваш указ для нас – закон. Готовы были – подчиняться. И Рыжего с его компашкой – любили не больше вас.
Так и стояли в полной боевой – пока ясно не стало, что гансам тоже не до войны: и у них началось. Тут и нам – приказ о передислокации. В тылу – уже полный развал, и как мы через все это, со всей техникой и имуществом, не бросив даже паршивой полевой кухни – хоть книгу пиши. Но прибыли куда указано – Шадринский округ, откуда "три года до границы скачи" – и ни кормежки, ни жалования. Что ж, мы все понимаем – самим надо обустраиваться, коль никому до нас дела нет! Все ж не фронт – и то хорошо. Даже учения проводили – чтоб боевая подготовка не терялась.
– Если после перемирия, значит ноябрь это был, не раньше – заметил Итин – тогда порядок революционный уже повсюду был! Как же вы после-то – на той стороне оказались?
– Эх, братец, все было б иначе, не сделай ты меня таким… Шило в заднице, очень хотелось революции быть полезным, чтоб рядом с тобой – когда все ж встретимся. Сидели там какие-то, в Совете, под флагом красным – но как-то вышло, что они меня стали слушать, а не я их. Я тогда литературы вашей начитался -местные даже меня поначалу партийным считали, по разговору. После, когда узнали – просто предложили мне билет выписать. А я – отказался, из гордости глупой. Хотелось – чтобы из твоих рук получить, когда увидимся наконец.
– Врешь! – сказал Итин – советы, это ж в самом начале было, еще до комбедов: упразднили их уже к ноябрю. А билет партийный – это ж только Комитет местный выписать мог, никак не Совет!
– А какая разница? – спросил Младший – как они у вас числились: совет, комбед, комитет? Сегодня одно, завтра по-другому называется – ну и я там же, со СВОИМ пониманием текущего момента, как ты меня учил – чтобы, за новую жизнь, и по правде. Как старший воинский начальник – обеспечивал революционный порядок во всей округе. Охрана территории, патрули – все войной отработано было: бандитов, мародеров, уполномоченных всяких, кто грабит – по законам военного времени. Народ – был доволен. Старосты сельские к нам даже рекрутов вели, как в прежнее время – до полного штата бригаду пополнили, обучили как могли; фронтовиков бывших брали охотно – тех, кто поначалу по хатам, а осмотревшись решил, что в смуту спокойнее в строю!
Ты мне скажи, старшой – кто это придумал: гансов пленных за хлебом послать? И не надо мне про интернационализм – всего лишь, желание из-за колючки прочь: у новой власти проблемы с народом – яволь, герр комиссар, усмирим! Представь, как это – где неприятеля с времен наполеона не видели, и вдруг такая орда, что по-нашему лишь "эй, матка, курка, яйки!"! А мужики только с фронта, три года против этих самых гансов, и винтовочки многие с собой прихватили, в смутное-то время! А гансы помнят, что эти славянские недочеловеки не только им не покорились, но еще и крепко морду набили. Знаешь, какой это был интернационализм?
Не знаешь – так расскажу. Отбирали – не долю установленную, а все вчистую, и не только еду, но и вообще, ценное все. Кто слово скажет против – пулю на месте. Баб и девок – толпой насиловали. Скотину, которую с собой увести не могли – резали и жрали. Избы жгли, каждую пятую по улице – просто так, для устрашения. А если сопротивление – штурмом деревню взяв, загоняли выживших в амбар, всех – баб, детей, стариков – и сжигали живыми, как в оккупированном Полесье.
Женщину одну помню – молодая совсем, а уже седая. Рассказывала – когда к ней пришли, она умоляла – хлеб не забирайте, у меня ж дети малые, чем их кормить? Ганс тогда ребенка ее за ножки взял – и головой об печку. И говорит спокойно – видите, фрау, эта проблема решаема. Отдадите спрятанное – или остальных так же?
Ну и мы их – по совести и правде. Как ты меня учил. Боекомплект загружен, баки доверху – к бою готовы. Разведка доложила, где и когда гансы к нам, место выбрали удачно, замаскировались. А они – даже без дозора, как по своей земле.. В головную машину – снаряд, затем в последнюю – чтобы не удрали. Кто успел из колонны в лес – тем еще хуже: как мужики их вылавливали, так гансы те после жалели очень, что не повезло им в машинах своих сгореть! Пленных – не брали. У себя гансов вывели, как клопов – к нам под защиту, из губерний соседних, целыми деревнями бежали! А я доволен был – и верил, что все делаю правильно!
И вдруг, приезжает от вас чрезвычайный комиссар. Фамилия какая-то еврейская – Мех.. или Менж.. – тьфу, не помню уже. Приказал – построиться, бумагу достал, зачитывает. Я слушаю – это ж приговор ревтрибунала, меня – за срыв хлебозаготовок! В рядах ропот, качнулись уже все – комиссар за маузер, хотел меня, как собаку, прям на месте, показательно! Вот когда я пожалел, что билет от Совета-Комитета не взял – был бы партийным, другой бы стал разговор – а так все ясно: как бывшего офицера! Однако, жить хотелось, и умение никуда не ушло – он уже маузер мне в лоб нацелил, а я все ж раньше успел! И мои не оплошали – прежде, чем свита комиссарова опомнилась, ее всю туда же. Однако же, флаг красный не спускали. Думали – разберутся, ведь по правде все!
А нас всех, разом – в мятежники! Без всяких переговоров – надо драться, или погибать, ни за что. И тут к нам – делегаты от белопогонных, на предмет боевого союза. Я ж Верховного прежде еще знал – он надо мной корпусным был, в Карпатах, на той еще войне. И он меня помнил – как второго "Александра" вручал. У нас – выбора нет. Так вот и вышло – что с тех пор, на той я стороне. Солдаты мои – со мной, как с фронта привыкли. Что интересно, партийные местные, из совета-комбеда – тоже! Я никого не неволил – честно сказал: кто хочет!
– Иуда! – бросил Итин – гад! Мало того, что сам, так еще и других, за собой! Кто верил тебе – по несознательности. За одно это – к стенке тебя!
– А вы сами – кто? Не иуды? Я ведь тоже читал – "Государство революции", что Вождь наобещал. Что диктатура пролетариата – это лишь временно, пока народ свою подлинную власть не выберет! И что будет тогда всем – свобода и справедливость! А вы сели – и сразу все Советы разогнали! Диктатура – даже не пролетариата, а Партии! Крестьян в комхозы – подъем, обед, отбой по сигналу, на работу строем, поля колючкой огорожены, чтобы не сбежал никто! Рабочих – на казарменное положение: за ворота нельзя, семьи врозь, и койка с пайком вместо зарплаты. Все как прежде, даже хуже еще – только вместо царя, вы! Может, и свобода ваша – вранье? А просто – из грязи в князи захотелось? Сами сели, а на народ – плевать? Чрезвычайкой кормите, вместо хлеба?
– Плевать? – спросил Итин – ладно, ЧеКа та самая, это понятно. А чрезвычайная комиссия по борьбе с голодом? По борьбе с неграмотностью? По борьбе с сыпным тифом? ВОСЕМЬ чрезвычайных комиссий было, и та самая – лишь одна из них! Это как – плевать? Время сейчас такое – чрезвычайное. Пока не кончится война..
– И наступит всем гонгури! – усмехнулся Младший – читал я тоже, про будущее ваше светлое! Где все, как винтики: работают, где им укажут, и живут, где прикажут! Всегда готовые завтра поворачивать реки, сносить горы, строить мост через Берингов пролив, или осушать Антарктиду. Ехать куда пошлют, без имущества – на новом месте все будет: и койка, и пайка, и вещдовольствие. Домов своих ни у кого нет, едят все в общей столовой, одеваются из общих складов – по единому установленному образцу. Семей тоже нет – все живут со всеми, как в стаде, если нет медицинских противопоказаний – и дети не знают родителей, сразу забираемые в светлые и чистые воспитательные дома, на попечение особого персонала. Все разговоры, и даже мысли – лишь о том, как лучше сделать работу. Усомнившиеся получают особые пилюли – и снова вливаются в ряды, сразу все осознав и раскаясь. Как прочел я, так и решил: не по пути мне, в ТАКОМ будущем жить!
– Эх, ты, дурак! – сказал Итин – герой паленый, как водка в заставском трактире!
– А в рыло? – спросил Младший брат – или, кроме ругани, ответить нечем?
Итин вспомнил – первые дни, после Десяти. Первые указы революции – о начале переговоров к перемирию, о разделе земли между теми, кто обрабатывает, о выборах в новую власть – Мир, Земля, Вся власть Советам. Сначала радость – а после голод, в первые же недели. Хотя урожай в тот год был хорош – не было ни засухи, ни морозов, ни саранчи. Однако, мужики, из крепких хозяев, не везли хлеб в города – ожидая "настоящую" цену. Уполномоченных, пришедших тогда еще с уговорами, не с оружием – даже не били, просто смеялись в лицо:
– А спляши-ка, городской, перед нами – чтоб, в два прихлопа, три притопа! Понравится, может что и дадим. Тит Титыч, кажись, у вас в амбаре зерно подгнило – для хорошего человека из города, такого добра не жалко! А вы кыш отселева, голодрань батрацкая, работать надо – зрелища только для людей!
– Земля, отныне и навечно, общенародная собственность, единая и неделимая! – заявил тогда Вождь – вместе со всем, что на ней растят. Мы не сумеем получить достаточно хлеба от множества малопроизводительных мелких хозяев – и к тому же, общенародное владение имеет громадные преимущества, как с точки зрения воспитания масс, так и более высокой производительности, удобства механизации и организации. Потому – нет растаскиванию земли по наделам, и да здравствуют коммунистические сельские хозяйствования – комхозы!
Народ в ответ схватился за винтовки, обрезы, и вилы с топорами. И побежал в армию белопогонных. Так началась гражданская война…
– Мы верили – сказал Итин – мы сами верили, тогда. Что революция придет, как в цветах: общее счастье, справедливость, всем сразу. Мы верили – что достаточно лишь свергнуть эксплуататоров. Дать народу свободу выбирать – и он, конечно, выберет нас, Партию, свой авангард! Кто, как не мы, лучше знаем его нужды и беды? Кто не жалел крови и самой жизни – ради его блага? Кто лучше может вести его к свету, руководить великой стройкой нового мира?
И вдруг оказалось – мы ошиблись. Что века угнетения – испортили человеческий материал, сделав его совсем не таким, как мы представляли. Что очень во многих, да почти в каждом – внутри сидит маленький буржуй, которому лишь дать волю.. И если ТАКИМ дать свободу – каждый, по мере сил, или станет новым эксплуататором, или затащит в свой угол все, до чего дотянется, и меня не тронь!
Итин вспомнил – надписи мелом, на дверях ячеек: райком закрыт, все убиты! Контрреволюция под лозунгом – вся власть Советам! Кроме Партии, откуда-то взялись еще девятнадцать – и народ, по забитости и темноте, готов был выбрать неизвестно кого. Новоизбранные Советы расстреливали коммунистов – "власть Советам, а не партиям"! Свобода! – и часто власти не было ВООБЩЕ – при разгуле суверенитетов и бандитизма, местные Советы всерьез ВОЕВАЛИ между собой – за спорные территории, всей имеющейся в наличии вооруженной силой. В Киеве в один день сожгли Печорскую лавру и перебили двадцать тысяч евреев; в Риге и Гельсингфорсе вешали на городских фонарях офицеров вместе с коммунистами; повсюду резали инородцев – чеченцев, таджиков и прочих; нельзя было понять, где идея, а где сведение счетов, и просто грабеж! Все воевали со всеми – в Петрограде еще слушали Вождя, но в каждом уезде сидела уже своя власть, чем дальше тем сувереннее, и грабила все, до чего могла дотянуться.
Под вагоном территория
А в вагоне Директория
И сказал тогда Вождь:
Народ пока не готов к свободе. Переходное время железной пролетарской диктатуры продлится до тех пор, пока не возрастет сознательность народа! Мы, авангард, поведем всех за собой – железной рукой, вперед к счастью! Пролетарское принуждение – не ради эксплуатации, а в помощь тому, кто слаб сам: по капле выдавить из себя буржуя!
– Себя без остатка для дела общего отдать! – сказал Итин – сперва по приказу, после привыкнешь, научишься с радостью! Людей меняем, другими делаем – как новую породу выводим. Машину общества собираем – лучшую. Кто-то при этом в отходы, в стружку, в щепки – что поделать, иначе детали не выточить, для машины. Эх, жалко – не научил я тебя главному! Смелым, сильным, умелым, даже честным – не главное это. Мы – сами не знали, тогда. А первое самое: готов ты частью влиться, себя растворив – или по-прежнему, за себя? Вот и остался ты – тот же мальчишка, играющий в индейцев и охотников – но без партийного руководства. Партия наша – это сила, ум, честь общие! А ты – своим умом шел, и в стороне от всего! И как бы ты ни хорош был, сам по себе – если частью общего не хочешь, значит, стружка ты бесполезная: цепляешься пока, а все рано – утиль! Зря я тебя – от дела берег. Убили бы тебя тогда – и то для тебя лучше бы вышло: человеком бы остался. Нас в будущем, светлом и неизбежном, добром помянут – а тебя и не вспомнит никто: сдохнешь впустую, или жить будешь впустую! Вот и поговорили – теперь можешь меня кончать. Только мальчишку пожалей – если убьешь, так сразу. Прощай.