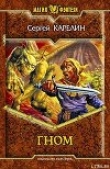Текст книги "Страна Гонгури"
Автор книги: Владислав Савин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 7 страниц)
Шкура медленно скинул ремень, задрал гимнастерку. На груди его Гелий увидел шрамы, как клеймо – пятиконечную звезду.
– Шомполом каленым выжигали – сказал он – тут же, нагрели на огне быстро, и в пять ударов. Как знак, что отпущен под слово больше не воевать. Свое слово, по доброй воле данное. Поймают если теперь, сразу в расход: это не билет красный, не зароешь. А я вот – с вами. И винтовка со мной.
– Вот и посмотрим – ответил Итин – сознательность в тебе это заговорила, или страх, чтобы презрения товарищей избежать. До конца похода посмотрим – а сейчас иди!
Боец молча встал и ушел в темноту. Ночи пока не были холодными, и ему можно было спать где-нибудь на куче соломы. Так и было – с начала похода. А до морозов отряд вернется.
– Оно и верно – заметил перевязанный – на фронте, если себя жалеть, из окопа не встанешь. Сама жизнь тебе там – как на время даденная: в любой час могут свыше позвать и назад взять. Иди, куда старшой велит, и благодари судьбу за лишний день – вот и вся премудрость, уж шестой год с ней…
– Сказал про таких Вождь: с нами, а не наш! – сплюнул матрос – если товарищ свой, так я за него жизнь отдам, если враг или шкура какая – тоже все ясно: в расход! А такие вот, кто вроде и за нас, и воюет честно, и даже геройское что может совершить – а все одно, не за идею нашу, а за пользу собственную, за интерес? По мне, такие самые опасные – потому как не распознаешь сразу! А как прижмет – предадут!
– Ты это полегче, флотский! – неодобрительно ответил кто-то – а как же социальная справедливость, как Вождь сам обещал?
– Это какая ж справедливость? – сразу вмешался товарищ Итин – как прежде, за сколько подлостей, сколько милостей? Вот ты, товарищ, недоволен, что жену на торф – чем, по заслуге, к морю на отдых, как прежде господа гуляли! А чем топить зимой будем? Заняты все, кто на фронте, кто в тылу, от нетрудового элемента, интеллегентов всяких, проку мало – мрут лишь без пользы, как мухи. Значит, или снова мерзнуть, или мобилизовать семьи! И не торгуясь – что голод, холод, нормы непосильные: не по найму – на себя, на республику трудовую! Справедливость коммунистическая – это когда нет слова такого "я", а лишь "мы", всегда и везде. Мы – а ты лишь часть его малая. И что для нас всех хорошо – тебе больше и не надо. И это – самое трудное: за души людские биться, врага внутреннего в себе огнем выжигать. Почему крестьянин пролетариату – лишь союзник? Потому что рабочий привык, что один он лишь винтик малый, а вместе со всеми – деталь могучей машины. А крестьянин – о своем мечтает: хоть клочок земли, да мой. После победы – легко будет заводы построить, фермы и трактора…
– Построим! – сказал матрос – помню, как под Июль-Коранью мост взорванный строили, по горло в ледяной воде, чтобы эшелоны к фронту. И ведь сладили – за трое суток всего, а инженера говорили, по науке – три недели!
– Построим – сказал Итин – но главное, людей надо будет построить по-новому. Чтобы и в деревне все были вместе, как на заводах – коммунистические хозяйства общие, комхозы. Сумеем сделать так – и мужики все эти душой все за нас будут, искренне хлеб нам понесут, последний – от себя отрывая. Сейчас у нас пролетариата от общего населения – сколько-то процентов, а будет – все сто. Тогда – вперед легко и без остановки пойдем, как поезд по рельсам. И те, кто сегодня живы, коммунизм увидят – не через тысячу лет, а через двадцать, тридцать, пятьдесят. Тогда – простятся нам все жертвы наши сейчас.
Все молчали. Закат уже погас, и звезды горели в небе, как золотые яблоки. Высокое небо казалось совсем близким. От нагретой за день земли шло приятное тепло. Переливалась река. Костер отбрасывал мечущиеся тени. Все молчали – потому что после таких слов уже нечего было сказать.
– Смотрите, там еще костер – вдруг сказал кто-то – там, за рекой вдали.
Все всмотрелись: в далекой степи упавшей наземь звездой мерцала красная точка. Несколько бойцов, взяв винтовки, скрылись в темноте – разведать. Разговор отчего-то угас; все поглядывали на ставшую вдруг чужой степь, придвинув ближе оружие и занявшись обычными делами – ужином, починкой снаряжения. Кто-то торопливо доедал обед, кто-то, придвинувшись для света к костру, писал письмо, надеясь отослать завтра на станцию с обозом. Товарищ Итин сидел у костра и смотрел в пламя, о чем-то задумавшись. Гелий был рядом; впервые за поход вышло, что он с товарищем Итиным остался будто наедине.
– Товарищ комиссар! – решился наконец Гелий – я все думаю, как становятся такими, как вы. Может быть, вы как у Гонгури, из времени другого, из будущего нашего светлого – чтобы нам дорогу указать? Вы даже писем не пишете – будто нет у вас здесь никого…
– Вы у меня есть! – усмехнулся товарищ Итин – целая сотня, за кого я сейчас в ответе. А вернусь, так будет еще побольше! Потому как если прежде было, выше чин, больше благ – то сейчас, чем выше тебя поставили, тем за большее ты отвечаешь, и тяжелее цена, если выйдет ошибка!
– А все ж, товарищ комиссар! – не отставал Гелий, сам удивляясь своей смелости – как коммунизму научиться, чтобы таким как вы стать? Чтобы в тебе все правильно было, чтобы без сомнений – в новую жизнь?
– Не научишься! – решительно ответил комиссар – потому как любая учеба, это лишь для ума. Конечно, дураком быть не надо, и ум очень даже вещь полезная – да только при совести и сознательности он должен быть, как военспец штабной. Ты жизнь правильно проживи – тогда настоящим человеком станешь. Когда вспоминать будешь – каждым днем прожитым гордясь. Ты вообще откуда, родился где?
– Из Зурбагана – ответил Гелий – да только переехали мы оттуда, как война началась…
– Бывал я там, не раз – сказал Итин – литературу нелегальную мы возили, от товарищей из порта. Хороший город, красивый – жаль, что пока под врагом, но ничего, недолго уже. А я из питерских.
– Не бывал – огорчился Гелий – читал много, все посмотреть хотел. Отец мне про Питер рассказывал…
– Посмотреть хотел? – усмехнулся товарищ Итин – музеи, театры, фонтаны и прочие золотые купола? Эх, малый, из Питера я, да не из того. И набережной с мостами – считай, и не видел. В те времена прежние, в местах всяких, написано было, "рабочим и с собаками вход воспрещен" – как неграм американским! А на Невский, где дворцы и фонтаны, рабочему парню даже в праздник было нельзя – чистые все, сразу нос кривят, хамским духом запахло! И городовой тебя – в кутузку! Или "сиреневые" из охранного – им даже на улице попасться, это хуже, чем волкам в лесу! Заводы все – по окраинам стояли, вроде как и не город совсем. Наш был – за южной заставой, между железной дорогой и царскосельским трактом – рядом еще вагонный завод, электромашинный, обувной, авторемонтный, и еще несколько фабрик поменьше. Если по тракту вперед с версту – там за каналом обводным уже сам город, кварталы доходных домов, а дальше были все эти проспекты и театры – да только не для нас: это господа лишь катили мимо на загородные дачи.
Отец говорил – в деревне жить лучше. Воздух свежий, простор, дома с огородами по холмам раскинулись, лес рядом. Любил отец рассказывать, как мальцом коней гонял в ночное на луг: кони пасутся, а он окуней рыбалил. А у нас – все в тесноте, и по гудку. Казармы рабочие снаружи громадные, в два этажа – а внутрь зайдешь, теснота хуже, чем в третьеклассном вагоне. Нары в четыре яруса до самого потолка, проход между ними, только протиснуться, печка железная в углу, сундучки рядами – вот и вся меблировка, здесь же портянки сохнут, вонь, духота, лампа еле коптит. Кто семейные – те лишь занавеской огородясь. Бывало и порознь – он с вагонного, она с обувной, в своих казармах живут, лишь по воскресеньям встречаясь – но если с детьми, то обычно дозволялось вместе. Я с мамкой спал – а как подрос чуть, так на полу, под нарами родительскими. Отец приходил поздно, усталый. А мать все кашляла, болела, пыли у станков наглотавшись. Я – с десяти лет уже в цеху, подсобничал и ремеслу учился. С шести утра до восьми вечера, четырнадцать часов, только уснешь – уже гудок фабричный ревет. Первый – вставать, второй – выходить, третий – на месте всем быть. Опоздал – штраф, с мастером поспорил – штраф, без дела стоишь – штраф, прежде вечернего гудка работу бросил – штраф. Если второй за неделю – в двойном размере, третий – в тройном; бывало и вовсе, человек ничего не заработал, а должен остался – весь заработок так уходил. Хотя, без дисциплины нельзя – когда машину сложную делаем, один дурень или ротозей запросто может весь труд общий, в брак пустить!
И трубы над нами заводские. И дым из них тучей – солнца не видать. Даже травы зеленой у дома не было – от копоти сохла. Трактир у заставы – вот и все развлечение. В день воскресный – сон до обеда, затем гитара в руки, брюки клеш, штиблеты парадные начистить, и туда – песни петь, водку пить, с девчатами плясать, или морды чужим бить, с вагоннозаводскими мы часто дрались на кулачки, стенка на стенку. И щеголям городским к нам лучше не заходить – карманы вывернем и морду разобьем; однако не до смерти, не звери же мы, просто не любили чистеньких; и не было у нас никакой банды тайной и всесильной, "Черной руки", что за всем стоит, как в романах про сыщика фон дорна – продавал книжки лоточник у трактира, по гривеннику за штуку, парни наши охотно про сыщика брали, а девчата про любовь.
Хотя историю одну знаю – как в книжке, сам видел. Работала на фабрике ткацкой девушка одна, Настя, с мамой моей в одном цеху. Красивая, и добрая, душевная очень: всем малым в слободе она как сестра старшая была. И полюбил ее один, из благородных – как познакомились они, бог весть: не говорила о том Настя никому. Не просто так, погулять – по-настоящему, замуж звал, ходил каждое воскресенье; и били его наши парни, и часы с кошельком отбирали – а ему все равно. А она – отказала. Нам, мальцам, говорила, смеясь – ну какая из меня дама, среди благородных? И куда я от вас уйду, как вы без меня будете? Так и ушел тот, напоследок Насте платье подарил красивое, и денег – так она на деньги те всем мальцам сладостей и конфет накупила, а платье и не надевала вовсе – у нас, по осени и весне, по колено в грязи утопаешь. Весной следующей ее и зарезал из ревности Степка-хулиган, в воскресенье у трактира – а после и самому ему там голову проломили в пьяной драке.
Так вот и жили. После легче стало: выбился отец мой в мастера, и начальство в пример его ставило – глядите! Кто работящ и честен, тому повышение – а кто лентяй, пьянь и ворье, так тем так и надо! Жилище стало отдельное – с виду такой же дом, как общая казарма, а всего восемь квартир: два этажа, две лестницы. Только противно было, что отец, сильный и большой, боялся до одури, что отберут, если уволят: квартира казенная была, при должности. Оттого мне, при встрече с дружками прежними, кто под нарами, хотелось – чтобы отец шапку оземь, и обратно в казарму, как все. Только отец мой, хоть и руки золотые, бойцовства вовсе не имел – обустроиться лишь хотел, себе и семье.
Все ж хорошо было, что он с лет малых к лесу, к охоте меня приучил. За слободой поле, версты три вдоль дороги железной, мост, и уже лесок за речкой: не тайга, но зайцев и уток можно было пострелять, ружье у отца было, грибы опять же, рыбалка. И в воскресенье, когда все в трактир – мы с отцом в лес, до вечера. Сгодилось это после – особенно, как из каторги бежал, по тайге. И к пьянству и безобразию он меня не приучил – тоже хорошо!
По воскресеньям – хлеб белый ели, даже с колбасой, и не кипяток уже, а чай с сахаром. Только мать недолго в доме новом жила: умерла она, когда мне пятнадцать было – у нас редко до старости доживали: в сорок лет считался уже старик. Отец погоревал, затем съездил на неделю к себе в деревню, привез вдовушку с двумя малыми. Он с ней в одной комнатке, я с малыми в другой, малыши на кровати железной, я на матрасе на полу.
Отец все хотел – меня, по колее своей покатить. Работать трезво и честно – хозяин оценит; так в мастера и выходят, лет через двадцать будешь так же в воскресенье со стариками у трактира в домино играть или в шашки, а парни заводские – с почтением по отчеству здороваться, мимо проходя. А то и на чертежника выучишься, или на помощника бухгалтера – предел это был в те времена для рабочего человека. Да только не по мне была жизнь такая, покойная и бесцветная: яркого и чистого хотелось. И чтобы по правде – для всех, и не в раю небесном, а здесь, сразу. Потому, как услышал я, что люди настоящие есть, которые за справедливость сейчас – так к Вождю и пришел, пареньком рабочим, чуть старше тебя; поначалу поручения лишь исполнял, после совсем в революцию ушел, из дома – в Партию. И с пути того – уже не сворачивал.
– Вы с Вождем вместе Партию создавали? – с восторгом спросил Гелий – как все это было? Теперь ведь можно уже рассказать – не в секрет.
– Не умею рассказывать – ответил Итин – вот на митинге речь говорить, чтоб зажигало… А романы писать – не Гонгури я! Был среди нас товарищ один – хорошо у него получалось сказки и истории разные складывать. Одна мне запомнилась. Про такой край далекий, где никогда не вставало солнце. Люди жили там в болоте, среди грязи, в холоде и темноте, не видя света и огня. Туман над болотом скрывал небо, лишь изредка были видны звезды, дающие слабый и далекий свет.
И вот нашелся среди людей – одни, кто захотел дойти до звезд и принести свет всем. Сначала он предложил идти вместе – но одни отмахнулись, занятые своими делами, другие рассмеялись, сочтя чудаком, третьи испугались далекого и опасного пути. И человек отправился один; все уже забыли про него, что он жил среди них – когда он вернулся.
Сначала все увидели приближающийся свет. Не зная, что это, все в страхе упали наземь – ожидая смерти. Когда все подняли головы – перед ними стоял давно ушедший, держа в руке звезду. Свет звезды озарил землю до самого последнего темного угла – и люди со стыдом увидели, как убога их жизнь.
Слабые духом и устрашившись перемен, они решили утопить звезду в болоте – чтобы вернулась тьма, вместе с привычным покоем. А человека – изгнать или убить, если он не захочет стать как все. Но когда подступили они, поднял человек руку – и вспыхнула звезда, спалив лучами устрашившихся. И сказал он – пойдем туда, где светит солнце, текут чистые реки и растут леса. Но не двинулся никто, боясь трудного пути. Принесший свет мог идти один – но любил он свой народ.
И приказал он – следуйте за мной. Пришлось ему покарать еще нескольких – во имя счастья всех. Пошли люди через горы и леса, терпя бедствия и отбиваясь от диких зверей, и роптали они – но горела звезда в руке впереди идущего, указывая путь. Пришли наконец они в благую землю, где светило солнце и рос хлеб. И тогда идущий впереди упал и умер, и увидели вдруг все, что звезда сожгла ему руку дочерна – но не бросал он светило, потому что любил свой народ. Тогда лишь поняли люди, что сделал для них этот человек – и поставили они ему каменный памятник, стоять которому века, и на котором золотом начертано имя его.
А может быть, не было и памятника – забыли его, или вовсе бранили, жалея павших в пути; но жил отныне его народ в той благой земле – и не нужна была герою иная награда.
Э, да ты что, записываешь? Слова мои – зачем? Ну-ка, покажи!
Гелий смутился. Тетрадь была его личным секретом. Но он знал, что у революционера от товарищей не должно быть тайн.
– Я тут с начала похода записываю… – сказал он – как дневник, и вообще… Гонгури про будущее писал – а я про наше, что видел и слышал.
– Зачем?
– Чтобы вспомнить. Когда коммунизм настанет, и спросят те, живущие в светлых городах, как все начиналось… Прочтут – а на страницах мы. Я, вы, ребята – все, кто заслужил. И будет – как если хоть малая частичка нас еще жива. И будет жить – пока нас помнят.
Втайне Гелий мечтал увидеть сам. Хотя бы самое начало. Как сидит он, пусть уже старый и пораненный, совсем заслуженный, в зале Дворца Свободы, а вокруг него – красивые, молодые, совсем другие люди, как в романе Гонгури. Он рассказывает им о революции, о славных боях и походах – как сейчас товарищ комиссар – и его слушают, так же восторженно затаив дыхание. Но об этой мечте он не говорил никому – боясь, что ее тоже признают "ячеством".
– Ладно! – сказал товарищ Итин – а сказку дарю. Жаль, не вышел товарищ тот с каторги Карской – вместе бежали, но не все дошли. Одно утешение всем нам было – в бараке после отбоя истории его слушать. Пусть хоть что-то не только в памяти – и на бумаге останется: красившее запишешь, не моими корявыми словами. Хотя без идеи правильной – кому красивость нужна?
Вернулись посланные на разведку.
– Мальчишки! – доложил старший – жгли костер на вершине холма. Как нас увидели – так в поле все, как зайцы; мы кричали вслед, что не тронем – да куда там! А холмы здесь странные – ровные и одинаковые, как куличи.
– Это курганы – сказал Гелий – здесь граница была. Дикая Степь это место называлось, отсюда веками татары набегали. На вершинах курганов всегда стояли дозоры, даже в мир – чтобы, увидев вдали орду, зажечь огонь. На соседнем кургане, заметив свет или дым, тоже зажигали костер – и так по всей степи. Князья выступали с дружиной, мужчины брали оружие, а женщины, дети и негодные к бою укрывались в городищах за стенами.
– Те князья тоже эксплуататоры были – сказал Итин – феодалы, сами народ грабили, не хуже татар. А кто тебе это рассказал?
– Отец – ответил Гелий – по вечерам вместо сказок он рассказывал мне что-то полезное – из истории, географии, или как делаются вещи. Старался научить меня всему – что сам знал.
– А кто он?
– Профессор университета – ответил Гелий – но он наш, за революцию всей душой. Из старых наших интеллегентов – всегда говорил о долге перед народом, и служении ему.
– А сейчас с ним что?
– Не знаю.
– Это как же? – спросил Итин – глянь, ребята все пишут, чтобы завтра с обозом отправить – на войне вести из дома, первое дело. Это ничего даже, что профессор – если за народ.
– Он мой отец – ответил Гелий – очень хороший и правильный. Всегда был прав, уча как надо. На деле прав – что после подтверждалось. Но выходило – я должен был слушаться, а не решать сам. Вот почему я ушел – чтобы вернуться, уже с ним наравне. С маузером на боку и звездой на фуражке. А до того – пусть он лучше не знает.
– Что ж, дело – сказал Итин – но все же напиши. Просто – чтобы знал, что ты жив. А то – война. Когда никто не ждет, плохо – но когда ждет и не знает, еще хуже.
Костер догорал. Закончил еду, бойцы расходились – пора было подумать о ночлеге, завтра надо было подняться с рассветом – и тем ценен был каждый час сна. Кто-то спускался к реке вымыть котелок, кто-то шел уже в сарай устраиваться спать. Завтра ожидался еще один день похода, такой же как и все. День – для дела революции, без лишних красивых слов.
Взяв гитару и мешок, Гелий ушел в сарай, со всеми. Итин взглянул ему вслед.
– Это хорошо, когда кто-то ждет, там – сказал он, обращаясь сам к себе – если есть, кому ждать.
Он вспомнил, как встретил Ее, в далекие годы подполья. Затем Итин сам попросил Комитет перевести его в другую ячейку – потому что жестокая реальность борьбы была такой, что дом и дети неизбежно вывели бы из строя обоих. Они встретились снова уже на съезде, том самом, перед Июль-Коранью, сидели рядом в президиуме, а после подошли друг к другу – и будто не было многих пройденных лет. Под утро, в холодном гостиничном номере, он предложил оформиться в орготделе, поставив в бумаги штамп.
– Зачем? – спросила она – исторически, семья была нужна лишь для передачи собственности; какое наследство у революционеров? Мы не успеем узнать своих детей – хотя может, так и лучше: как бы воспитывали их мы, не имеющие дома? Довольно, что мы есть, что мы можем встретиться, как сейчас – и пусть нам будет хорошо!
А наутро – был путь на Июль-Корань. Они вместе ехали в поезде – но по прибытии получили направления в разные полки; в приготовлении к битве видеться почти не удавалось. Когда они встретились в последний раз, в ночь перед штурмом, она сказала:
– Не верь, что меня нет, пока не увидишь сам – и я не поверю, пока не увижу тебя убитым. Если мы потеряем друг друга – обещай, что будешь ждать и искать, пока не встретимся снова.
Их было пятьсот двадцать семь – делегатов съезда, лучших а Партии. Они шли впереди строя, с красными знаменами – чтобы вести и воодушевлять. Чтобы враг не мог оставить бойцов в беспорядке – снайперами выбивая командиров. После штурма их осталось восемнадцать. И Ее не было – но не нашли ее и среди павших, кого удалось опознать, и никто из живых не видел, что с ней стало – с женщиной, идущей впереди всех, со знаменем вместо винтовки. На войне случалось всякое – бывало, что в строй возвращались те, кого считали погибшим. И Итин ждал – хотя прошло уже почти полгода. Когда он был в Петрограде, то приходил к строящемуся Дворцу Свободы – где они договорились встретиться, если потеряют друг друга. И надежда теплилась еще – как угли этого, почти уже потухшего костра.
– Поберегись, товарищ комиссар! – сказал подошедший матрос, выливая в костер ведро воды – все ж нехорошо, если пожар пойдет! После победы нашей – будет и в этой деревне комхоз!
Итин поднялся и отправился искать ночлег. Для него бойцы выбрали дом получше, в середине деревни. Разбуженные хозяин с хозяйкой стояли у печки, окруженные детишками. На столе горела свеча.
– Это кто? – спросил Итин, увидев на стене фотографию, на которой был изображен молодой парень в мундире старой армии.
– Старший мой – объяснил хозяин – с довоенных еще лет, как он срочную служил.
– И где он теперь? У нас, или у них?
– Убили его. Прошлой еще весной.
– Наши? Или – с погонами?
– А бог весть! – бросил крестьянин – пришли какие-то, как вы сейчас, с мобилизацией то ли с реквизицией. Он им слово поперек сказал – его насмерть и убили. Работящий был. Думали уж – женится, дом поправит.
– К нашим надо было идти, а не дома отсиживаться – сказал Итин – погиб бы, так за правое дело, счастье общее приблизив. Газеты возьми – правду нашу прочтешь. Грамотный?
– Мы люди темные – развел руками крестьянин – вы идейные, а нам – лишь бы прожить. При любой власти – пахать надо. Помирать собирайся – а хлеб сей. Так еще дед мой говорил – и я скажу…
Вставай, проклятьем заклейменный,
Весь мир голодных и рабов.
Кипит наш разум возмущенный
И в смертный бой идти готов
Товарищу Итину снились красные знамена. Над огромной толпой, на площади у красной зубчатой стены с островерхими башнями. На башнях горели рубиновые звезды. Только что завершился парад – по площади прошли танки, мощные, низкие и широкие, с длинными пушками, и восьмиколесные броневики, и артиллерия, и какие-то непонятные машины с антеннами и короткими стволами, задранными вверх, и ракеты огромных размеров, на буксире у многоосных тягачей. В небе пролетели самолеты – стремительные, похожие на стрелы, эскадрилья за эскадрильей, оставляя белые следы. А мимо стены, мимо трибуны черного гранита, уже двигались ряды и колонны с флагами и плакатами, под грохот марша. Партии – слава! Коммунизму – слава! Дело Ленина – живет и побеждает! Ура!!!
Сегодня мы не на параде –
А к коммунизму на пути.
В коммунистической бригаде –
С нами Ленин впереди!
Картинка снова сменилась – будто Итин смотрел через стекло ящика, в котором менялось изображение, с цветом и звуком – как через иллюминатор воздушного корабля. Цеха и трубы заводов, плотины гидроэлектростанций, нефтяные вышки, сияние огней, блеск электросварки – где вчера были лишь лес и степи. Новые города, белые, светлые и чистые – среди тайги и пустыни. Рельсы стальной магистрали, от Байкала до Амура. Трактора и комбайны на бескрайних полях освоенной целины. Дома, машины – нового, незнакомого Итину вида.
Мы везде, где трудно –
Дорог каждый час!
Трудовые будни –
Праздники для нас!
– Трудфронт! – подумал Итин – значит, не осталось уже эксплуататоров, на всей земле! Но мы не успокоимся, после нашей полной победы – а пойдем вперед еще быстрей! И нас – никому не остановить!
Будет людям счастье –
Счастье на века!
У советской власти –
Твердая рука!
– При чем тут Советы? – подумал вдруг Итин, пытаясь поймать что-то ускользающее, но очень важное – И КТО ТАКОЙ ЛЕНИН ??
Гелий проснулся под утро. Выйдя из сарая, где спал вместе с половиной отряда, он запоздало вспомнил, что забыл совет товарища Итина – написать отцу. Хотя бы пару слов – жив, здоров, ждите. Застегивая ремень, он торопливо вернулся в сарай. Было темно, снаружи едва различались ограды и избы деревни. У входа внутри тускло горела керосиновая лампа, реквизированная в каком-то из домов. Гелий подгреб ворох соломы и хотел устроиться с блокнотом и карандашом. Подошел часовой, до того топтавшийся у двери.
– С огнем осторожнее – сказал он – нарочно здесь сено гребли, чтоб от огня подальше.
– Я смотрю – ответил Гелий – после уберу, как закончу. Утром обоз собрать – не до писем будет.
– Ну смотри – сказал часовой – мое дело, предупредить.
Он не уходил, переминаясь с ноги на ногу рядом. Ему было скучно ходить вокруг сарая, вглядываясь во тьму – потому что так было положено, хотя врага рядом не было и не ожидалось. Когда завтра повезут хлеб, тогда придется быть настороже – особенно если банды из леса узнают про груз. А пока – можно было поболтать с товарищем, опершись на винтовку как на посох.
– Слушай, а как тебя зовут? – спросил часовой – по настоящему. Меня – Павел.
– Гелий – упрямо ответил Гелий – я и в бумагах так выправил. Чтобы по-новому. Как в отряд вступил.
– И в билете тоже? – усмехнулся часовой – или ты не "сокол"? Как же тогда тебя взяли?
– В апреле вступил – поспешно ответил Гелий – вот.
Он достал заветную красную книжечку. Часовой привычно открыл ее – как всегда проверяют документы – прочел, и снова усмехнулся.
– Что ж ты партию в заблуждение вводишь? – сказал он – я слышал, говорил ты товарищу комиссару, что профессор твой отец, а записано – "из пролетариата".
Вступая, Гелий указал в анкете об отце – "служащий народу". Так всегда говорил отец об интеллегенции – однако всего за день до того сам Вождь в одной речи сказал "служащий всему народу класс пролетариат". Писарь в ячейке счел строку анкеты за красивую фразу, и вписал как привычно. Гелий заметил это, лишь когда получил билет – но поправлять не стал, считая даже более почетным.
– Пролетарии без испытательного срока вступают, интеллегентам же полгода положено – сказал часовой – нехорошо получилось, будто ты примазался. Может, и наш ты – а все нехорошо.
– Как из похода вернемся, как раз срок пройдет – твердо сказал Гелий – все выйдет правильно.
– Ну, смотри – заметил часовой – получается, мы с тобой в один почти день "соколами" стали. Я чуть не срезался – на вопросе, почему Союз Коммунистической молодежи, а не Коммунистический союз молодежи, как раз тогда дискуссия об этом была. Я по простоте и ответил, что звучит красиво и гордо – сокомол, "соколы", а не какая-то комса. А оказалось, как председатель наш объяснил – коммунистический союз для всех, кому коммунизм цель конечная; а если нет и не может быть у нас целей других – что же тогда, всех по возрасту годных писать? А вот если "соколы", то это уже наши – кто за партию и революцию уже сейчас хоть на смерть. А товарищу комиссару ты все же про ошибку в билете скажи – а то выйдет, что ты от партии тайну имеешь.
Он затянулся последний раз, и огляделся – ища, куда бросить окурок. В сарае все же не стал, повернулся, и вышел наружу. Гелий достал тетрадь, но пока не писал ничего, задумавшись над словами Павла. К тому же, трудно было решиться вырвать из тетради даже чистый один лист.
– Я – "сокол" – произнес он про себя – а комиссару скажу. Он поймет.
Павел не возвращался. Гелий опустил глаза и перелистнул тетрадь. Нацелился было на лист, следующий за исписанным – и стал писать прямо на нем, решив вырвать после.
– Отец, я жив и здоров. Мы идем, добывая хлеб для голодающих. Вчера был бой, один наш товарищ геройски погиб – но мы победили. Если бы ты знал, какие люди сидят сейчас рядом со мной у походного костра – как герои из романа Гонгури. Мы с радостью пойдем на фронт – добивать последнего врага. Я вернусь – после победы, теперь уже близкой, потому что с такими товарищами нельзя не победить. Жаль только времени, потраченного на войну со всякой сволочью – времени, отнятого от постройки светлого будущего, как в том романе. Но это ничего – тем быстрее мы пойдем вперед, когда враг будет разбит окончательно. Уже скоро я вернусь – перед тем, как ехать на какую-нибудь великую стройку, куда пошлет нас партия.
Он хотел вспомнить, что еще говорил Итин – потому что эти слова стали теперь и его мыслью, его верой. Еле слышный шорох заставил его отвлечься – это наружу открылась дверь. Решив, что это возвращается Павел, Гелий поднял глаза.
В дверях стоял чужой. Весь в каком-то зелено-пятнистом, лохматом. Даже лицо было замотано чем-то, чтобы не белело в темноте – виднелись только глаза в щели под низко надвинутым стальным шлемом с маскировочной сеткой. Нацелив автомат – с длинным изогнутым магазином внизу, и штыком на конце ствола – штык был не привычный четырехгранный, а клинком. Гелий глядел в остолбенении, а чужак быстро запустил руку в висящую на боку сумку такого же зелено-пятнистого цвета, достал какой-то тускло блеснувший предмет, похожий на обычную бутылку, пальцами ловко что-то с ним сделал – и бросил в глубину сарая, где в сене спали товарищи.
Ослепительно полыхнуло, хлестнув светом по глазам. Ударило обжигающим жаром. Гелий зажмурился – всего на миг. Когда же он открыл глаза – чужака нигде не было, зато совсем рядом стеной бушевало пламя.
Гелий завозился с мешком – потеряв пару мгновений, чтобы сунуть тетрадь. Схватив мешок, хотел взять винтовку – но пламя уже отрезало путь. Гелий сделал шаг назад – и вывалился наружу, спиной распахнув дверь. Пламя вырвалось вслед за ним, сарай пылал уже со всех сторон – и кто-то страшно кричал внутри, но слов нельзя было разобрать. Гелий повернулся – и оказался лицом к лицу с чужаком, тем самым, или уже другим. Гелий хотел было броситься в сторону – но чужак взмахнул прикладом, и Гелий полетел с ног; в следующий миг он уже лежал лицом в землю – чувствуя, как ему крутят за спину и вяжут руки, быстро и умело. Затем его схватили – и потащили в темноту.
Враги напали перед самым рассветом. Часовые погибли на постах, не успев поднять тревогу. Разбуженный стрельбой, товарищ Итин выбежал из дома с маузером в руке. Ночь разрывалась выстрелами, беспорядочно, со всех сторон – сухо щелкали винтовки, в ответ раздавались короткие автоматные очереди, по уставу на два-три патрона, идущие точно в цель. И это было очень плохо, потому что прошедшие фронт бойцы, даже застигнутые врасплох, должны были собираться вместе, организуя рубежи и очаги обороны – значит, враг уже ворвался в деревню. Сарай с сеном ярко пылал, и кто-то кричал внутри – однако из-под уже занявшейся огнем крыши вдоль улицы бил отрядный пулемет, длинными очередями, не жалея патронов. Врага нигде не было видно – и это давало надежду отбиться. Банды, каких много было на ничейной территории, не отличались упорством в бою – обычно же целью их было скорее уйти с захваченной добычей.