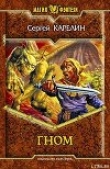Текст книги "Страна Гонгури"
Автор книги: Владислав Савин
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
– За мной! – крикнул комиссар двоим полуодетым бойцам, выскочившим следом – помирать, так с музыкой! Айда, ребята – вперед!
Он хотел собрать людей и идти на помощь тем, кто отстреливался в горящем сарае. Затем – занять оборону у амбара с продуктами, не дав его захватить. Кто бы ни были, бандиты уйдут с рассветом; казалось несложным продержаться лишь остаток ночи до уже близкого утра.
– Ко мне, товарищи! – кричал Итин, наугад стреляя из маузера в мечущиеся по сторонам тени – врешь, гады, не возьмете!
В ответ из темноты летели пули. Один из бойцов вдруг упал, раскинув руки. Впереди рванула граната – и пулемет замолчал. Затем рухнула крыша, подняв к небу сноп искр. Стрельба в деревне тоже почти прекратилась – бой затихал. Второй боец куда-то исчез. Итин остался среди улицы один. Увидев у амбара людей, он бросился туда – но это оказались не его бойцы, а крестьяне; они пытались сломать замок и открыть дверь.
– Не сметь! – крикнул Итин, размахивая маузером – хлеб народный, не дам! Чего стали – ведра берите, поливайте стену, чтобы не занялось!
Выполнять приказ мужики не спешили. Они двинулись навстречу, к Итину, кто-то пытался зайти сбоку; в руках у многих были колья и топоры.
– А ну не балуй! – крикнул Итин, наводя маузер – именем революции! Кто тут хочет – во враги трудового народа?
Крестьяне остановились. В отблесках пожара было не разглядеть их лиц; все вокруг казалось черно-красным. Итин прикинул, сколько патронов осталось в обойме – если что, так хватит на всех, по крайней мере – тех, кто в первом ряду. С трех шагов – не пропадет ни один.
– Живьем! – вдруг рявкнул кто-то рядом – это главарь!
Кто-то внезапно возник из темноты за спиной, навалился, сбил с ног, придавил к земле. Затем все брызнуло и раскололось искрами от страшного удара по голове, проваливаясь в ночь.
– Товарищ Итин! Товарищ комиссар!
Голос Гелия дрожал. Только что – был костер, песни под звездным небом, мечты о прекрасном будущем. И вдруг – враги и плен. Такого быть не должно – сейчас что-то случится, и все станет по справедливости. Но рядом был сам товарищ Итин, старший и опытный – и он должен был найти какой-то выход.
– Живой я! – ответил Итин, приподнимаясь – где мы?
Было совершенно темно, пахло сыростью и гнилью, как в склепе. Они были закрыты в погребе под картошку, в поперечнике не большем трех-четырех шагов. Руки были свободны, но из карманов все забрали, поясной ремень также пропал. Итин нашел Гелия – тот лежал у стены, лицом вниз, со связанными за спиной руками.
– Я бы убежал – спешил сказать Гелий – но никак. Меня на землю бросили – сами здесь же лежат, стреляют, и наши в ответ из сарая, я боялся – от своих пулю, поверху так и свистят. Наши вдаль целились – а эти рядом совсем были. Матрос у пулемета был – я голос его слышал, сначала песню, затем ругался, потом просто кричал страшно – как он там был, не знаю: жар такой, что за двадцать шагов едва вынести можно! А когда кончилось, эти всех наших, раненых, и кто выскочить успел – штыками добивали! Как мы – собак вчера.
– Кто они? – спросил Итин – на обычную банду не похожи: уж больно напористые и умелые. Опять же, нас сюда кинули – значит, сами удрать не спешат.
– "Лешаки" – ответил Гелий – как вчера говорили: все в пятнисто-мохнатом, даже лица прикрыты – ночью в двух шагах не увидишь. Автоматы у всех, не винтовки.
– Может быть, все же банда? – произнес Итин – не должно здесь быть "лешаков": после Июль-Корани про них не слыхать. И фронт уж больно далеко.
– Я главного их мельком видел – сказал Гелий – морда вся обгорелая. Как танкист бывший.
Тут даже Итину на миг стало не по себе. Потому что, по слухам, это был самый удачливый, дерзкий, и жестокий из командиров врага. На его совести было бесчисленно бойцов революции, комиссаров, добровольцев, активистов, коммунистов и "соколов" – расстрелянных, замученных, убитых самыми жестокими способами; впрочем, офицеров старой армии, пошедших на службу народу, он также не щадил. Иногда его считали фигурой, вымышленной врагом – чтобы разом списать на него собственные злодеяния. Никто не мог ни подтвердить это, ни опровергнуть – потому что еще никто из попавших к нему не возвращался живым.
– Убежим – ободряюще сказал Итин, освободив наконец юного товарища от пут – давай, поэт, глянем, как легче отсюда выбираться. А там – как выйдет.
Они тщательно обследовали свою тюрьму. Но доски, хотя и подгнившие, были еще прочны, и без инструмента Гелий с Итиным лишь в кровь ободрали ногти, пытаясь пробиться наружу голыми руками. В щели под дверью показался тусклый утренний свет; в любую минуту за ними могли прийти.
– Раз нас сразу в расход не вывели, значит, допрашивать будут – сказал Итин, присев на земляной пол – так ты молчи, что бы с тобой ни делали, и что бы ни обещали. Не соглашайся – ни на что. Даже если сам не спасешься – товарищей за собой не тяни. Потому как любые сведения, даже самая мелочь – может после стать нашей кровью. И – духом не падай. Может, еще случай будет – я пять раз бежал, два раза с ссылки, два с этапа, и один – с самой каторги Карской. Ты лишь зорче смотри, и чуть слабину увидишь – не зевай.
– Нас пытать и бить будут? – спросил Гелий – как барабанщика, в цепи закуют?
В голосе его звучало любопытство. Происходящее все еще казалось ему приключением – которое следует запомнить и пережить, чтобы после вспоминая, не пропустить ничего.
– Башни и цепей в походно-полевых условиях не будет – ответил Итин – в завершение нас просто выведут и пустят в расход. Так же, как мы их, будь наш верх. А до того шомполами – запросто могут, или железом каленым, так же как мы – контрреволюционных заговорщиков. "Сиреневые" прежде очень бить любили – и кулаками, и ногами, и дубинкой резиновой, в зубы, под ребра, по хребту. Но ты все равно – молчи. Потому что жить предателем – куда как хуже.
– Нас в без вести пропавшие запишут? – спросил Гелий, все еще будто не веря – и никто не вспомнит, что мы были?
– Не забудут – ответил Итин – пусть не нас персонально, но всех, кто за революцию. А значит – и тебя, и меня. Ты себя не жалей – потому как, все беды от жалости. Трусость – это жалость к себе, жадность – жалость к своей мошне, а предательство – оно или от того, или от другого. Верно вчера было сказано, что на войне жизнь своя – как барахло лишнее: сегодня есть – хорошо, завтра нету – что делать. Главное – чтобы стыдно не было; ну а чему быть, того не миновать.
Они помолчали немного, сидя на голой земле напротив друг друга, перед запертой дверью. В мыслях возникали планы побега – тотчас же рассеивающиеся, как дым. Стены были крепки, выйти не удавалось. Торопиться было уже некуда.
– Нас не будет, а коммунизм останется – сказал Итин – построят скоро дворец Свободы, где на стене памятной – будут имена, кто за революцию погиб. Чтобы – помнили вечно, не забыли никогда. И наши имена – тоже. Потомки наши, через века, будут читать – и славе нашей завидовать, счастью нашему – в великое время жить.
Свет сквозь щели стал ярче – наверное, солнце уже взошло. Сейчас за ними должны были прийти.
– Оружия нет – сказал Итин – даже палки, или камня. Лучше уж так – чем как барану…
– Есть! – вдруг выкрикнул Гелий – есть оружие, товарищ комиссар!
Этот маленький, похожий на игрушку револьверчик с перламутровой рукояткой подарил Гелию сам Итин; револьвер был взят у какого-то студента на базаре в уездном городе, во время облавы на контрреволюционные элементы. Подражая литературному сыщику барону фон Дорну, Гелий носил револьвер примотанным шнурком к ноге под штаниной, все мечтая научиться выхватывать его так же молниеносно как тот сыщик, поражая своих противников. Заряженный на все шесть патронов, револьвер оказался на месте – враги его не нашли.
– У тебя такой красавец, а мы духом упали? – повеселел Итин – ну-ка дай сюда, поэт!
Сразу стало легче. Мысли уступили место событиям; появилась надежда. Ушла беспомощность перед врагом – их могли убить, но теперь и они могли ответить тем же. А может быть, и уйти – если очень повезет.
– Как дверь откроют, сразу пулю в того, кто на пороге – и скорее выскакиваем, пока не опомнятся. А там – как получится.
Передать револьвер комиссару Гелий не успел. Пока он пытался развязать туго затянутый шнурок – снаружи послышались шаги. Заскрежетал навешенный снаружи замок – и дверь распахнулась, отброшенная внутрь ударом сапога или приклада.
– Эй, рачья-козлячья! – раздался голос – выходи! Оба!
Перед дверью однако, на виду никого не было: не в кого было стрелять. Итин дал Гелию знак – спрятать револьвер, как прежде. И первым шагнул к выходу, спиной заслоняя молодого товарища.
У самой двери справа, невидимый изнутри, стоял солдат – самое обычное, курносое и веснушчатое лицо под низко надвинутым стальным шлемом, и какой-то странный, бесформенный черно-зеленый балахон поверх мундира, весь в пятнах и полосах. Второй солдат, длинный и белобрысый, обнаружился поодаль слева; он был в таком же черно-пятнистом, с закатанными по локоть рукавами, в лихо заломленном набок черном берете. Оба держали наготове десантные "штурмгеверы" с рожком на сорок патронов. У белобрысого был виден сержантский шеврон, у курносого – две полоски обер-ефрейтора.
– Обученные, гады – подумал комиссар – ничего: и не таких били! С осторожностью – ведь боятся нас, даже безоружных!
– Не бойсь! – сказал ефрейтор – сперва вас спросят: коммунисты вы, или как? Мы не звери, лишнего греха не берем. Если не партийцы – может быть, еще поживете.
– Не поживут – сказал сержант – у обоих билеты нашли. У того партийный, у меньшого "сокола". Языки развяжут – в конце просто по пуле. А будут долго упорствовать – долго и помирать!
На месте сарая было пепелище. Сгорели еще две избы, забросанные гранатами вместе с защитниками; однако видимых следов ночного боя было на удивление мало. Скрытый яблонями, стоял восьмиколесный броневик, направив на дорогу ствол крупнокалиберного пулемета; двое солдат в пятнистом сидели и курили, свесив ноги в десантный люк. Еще один броневик перегородил улицу с другого конца деревни; солдаты сноровисто таскали канистры с бензином; кажется, какая-то техника стояла еще и за домами – видно было плохо. Занятые делом, пятнистые солдаты с автоматами мелькали по деревне то здесь, то там, заходили и выходили из домов, стояли у колодца, о чем-то говорили с мужиками. Амбар, куда сложили вчера собранное, был открыт, и там толпились мужики и бабы, волоча припасы по домам; стоял шум, вспыхивали споры, кто-то кого-то брал за грудки, замахивался кулаком. Бесчинства и разбоя не было видно – хотя солдатам армии эксплуататоров-буржуев полагалось грабить, насиловать, жечь и убивать, а трудовому народу – бросаться на врагов с вилами и топорами, или хотя бы сверкать ненавидящими взглядами, сжав кулаки.
– Товарищи, что же вы! – крикнул вдруг Гелий толкущимся мужикам – бейте белопогонную сволочь, чем можете: лучше умереть, чем жить в рабстве!
Никто не ответил – кто-то отвернулся, а кто-то усмехнулся злорадно. Гелий ждал за свои слова удара – или даже пули. Но ефрейтор лишь сказал лениво:
– Глотку не рви! На допросе сгодится. Еще орать будешь – горло сорвешь. Или просить – чтобы добили.
– Командир наш сначала всегда вежливо – усмехнулся сержант – будто интересно ему, совесть у вас еще осталась? "Вы в самом деле коммунист – или вас оговорили?" Послушает – а затем такое прикажет, что даже нам, грешным и все повидавшим, иногда не по себе. Не звери мы – бывает, честно предлагаем: отречешься, в подтверждение тайну какую выдав, или своего в расход – отпустим под слово больше против нас не идти. А коль уж сам выбрал иное – наша совесть чиста. Сам знал, на что шел.
Их подвели к церкви – тому же месту, где вчера крестьяне слушали речь. На ступенях церковного крыльца сидел человек в таком же пятнистом, как все солдаты – лишь с висящим на поясе парабеллумом и офицерским планшетом. Лицо его было страшным – похожим на оскаленный череп.
– В танке горел: жаль, что до конца не сгорел, сволочь! – подумал Итин – раз нас вместе привели, значит будут друг перед другом бить, как жандармы любили делать.
Против ожидания, первым вперед вытолкнули Гелия. А комиссар остался поодаль под охраной сержанта. Главарь оглядел Гелия с ног до головы, и приказал:
– Говори. Разрешаю. Сразу не убью – не бойся.
Гелию было страшно. Еще и потому что он не мог видеть старшего товарища, оставшегося за спиной. Зная, как подобает вести себя бойцу революции, Гелий хотел прокричать в лицо врагу что-нибудь вроде:
– Вставай в надежде мир проклятых,
Бездомных, нищих и рабов.
Весь гневом праведным объятый,
На смертный бой идти готов.
Но голос подвел его, в первый же миг сорвавшись на кашель. Враг усмехнулся и сказал:
– Бодришься, герой – это хорошо. Потому что чем больше гонору снаружи – тем больше страха внутри. Честно отвечай – боишься? Ну?
Гелий не мог говорить – язык будто свело. И кивок головой вышел совершенно непроизвольно.
– И правильно боишься – сказал горелый главарь – это ведь все правда, про отрезание ушей, пальцев, и всего прочего, а также каленое железо и шомпола. Такие уж мы мерзавцы и палачи. И очень любим ставить научные эксперименты, как например – живот тебе разрежем, без всякого наркоза, чтобы глянуть: там высокие идеи, или такое же дерьмо, как у всех? Или полведра бензина – определить, кто ты есть: человек, который звучит гордо, или топливо живое для костра? После твой труп в канаве будут жрать бродячие псы – а мы уйдем дальше, жить и творить свои грязные дела. Сколько передо мной стояло – ваших.
Он взял лежащую рядом полевую сумку. Она была доверху набита красными книжечками – теми самыми, какие носят у сердца.
– Моя коллекция – пояснил враг – сюда я помещаю не просто уничтоженных мной лично, но лишь всяких так комиссаров, политруков, председателей с секретарями, ну и на худой конец, не ниже ротных – тех, о ком ваша партия и власть будет искренне горевать. Интересный процесс – превращение героев в мясо. Даже любопытно – попадется мне хоть кто-то, кто выстоит до конца, как на плакате вашем? Нет, в итоге все – лишь голая физиология без разума и воли. Так что, тебе очень повезло, что я не буду выпытывать у тебя ваших военных тайн – что ты можешь сказать, неизвестного мне? Впрочем, если ты знаешь что-то – тебе зачтется.
Гелию вдруг стало спокойно. Будто он стоял перед врагом – и в то же время отстраненно смотрел откуда-то. Он шагнул вперед, как в воду. Ефрейтор дернулся было следом – но главарь сделал еле заметный жест, и враг остался на месте. Делая шаг, Гелий больше всего боялся, что револьвер выпадет, или окажется слишком крепко привязанным к ноге. Даже перед зеркалом у него никогда не получался так слаженно этот знаменитый прием сыщика фон Дорна – при шаге левой нога чуть выше, правая рука бьет изнутри по лодыжке – чтобы, ступая на ногу, одним встречным движением задрать штанину, обхватить рукоятку и вскинуть руку вверх.
Главарь что-то почуял, начал было подниматься – но у него не было уже ни времени, ни расстояния. Ефрейтор вскинул автомат – но стрелять не мог, потому что Гелий и главарь оказались перед ним почти на одной линии, и очередь свалила бы обоих. Итин не успел пошевелиться, как сержант одним движением сбил его наземь, придавил ногой и упер в затылок ствол – все же эти битые фронтовые волки были на удивление опытны и быстры. А главарь был лучше всех – но не настолько, чтобы обогнать пулю с трех оставшихся шагов.
Все застыли. Солдаты и крестьяне в отдалении – тоже. Замер и Гелий – держа врага на мушке.
– Ну? – первым спросил горелый главарь – что дальше?
Он смотрел без страха – с любопытством, даже веселым интересом. Будто не его отделял от смерти один миг короткого движения пальца.
– Стреляй! – прохрипел Итин, глотая пыль – стреляй!
Он еле повернул голову – сморщившись от жестокого тычка стволом. Однако теперь мог хоть как-то видеть происходящее.
– Машину нам и оружие! – звенящим голосом выкрикнул Гелий, совсем как в читанных им романах о приключениях фон Дорна – прикажи своим! Ты – поедешь с нами!
Он уже видел себя героем. Все становилось, как должно – орден из рук самого Вождя за спасение товарища Итина и захват злейшего из врагов революции. Затем Гелий представлял, как он, в хрустящей новой кожанке и с маузером в руке ведет свой отряд на штурм последнего вражеского оплота. После он возвращается к отцу – молодым комиссаром, и отныне говорит с ним, как равный. Затем он работает на трудфронте, строя заводы и города – а по вечерам пишет книгу об этом прекрасном времени.
– Дурак – лениво сказал главарь – стреляй.
И враг встал и тоже шагнул вперед – не спеша, совсем мирно. Теперь их разделяло всего два шага. Лицо врага оставалось недвижной маской. А глаза были – умные, оценивающие, живые.
– Мне терять нечего – сказал главарь – ваши же меня сразу к стенке. Хочешь – стреляй. Попробуй. Только – вас же потом живыми на ремни порежут. Очень погано будете помирать, и долго.
– Стреляй! – сипел Итин – стреляй, черт!
Гелий крепче сжал револьвер. Ладонь вдруг вспотела. Раньше он много раз пытался представить – первого своего убитого врага. Перед отправкой отряда, он как и все стрелял в тире, представляя живых врагов вместо фанерных мишеней. Но сейчас что-то мешало ему – палец на спуске будто одеревенел, не повинуясь.
– Трудно в первый самый раз, в живого человека – сказал враг, сделав еще шаг – по себе знаю. И не успеешь.
Он только что был перед дулом – и вдруг оказался сбоку и рядом, так стремительно, что даже неуловимо для глаза. Гелий вдруг почувствовал, как рука его уходит вверх и больно заворачивается назад, так что все еще зажатый в ней револьвер смотрит ему же в лоб – а сам он оседает вниз, подкашивая колени.
– Бабская штучка, без самовзвода – сказал главарь, небрежно вертя в пальцах отобранный револьвер – и курок спущенный хорошо виден. Надо было сначала сделать – вот так. Ты бы не сумел выстрелить – даже если бы решился. Надо знать свое оружие – поэт! Ты хоть раз из него стрелял?
Он небрежно бросил револьвер – в траву. Гелий не успел обернуться – а Итин все ж заметил место, всего в шести шагах в сторону. Только сейчас к Гелию подскочил ефрейтор, занес было приклад.
– Отставить! – приказал горелый, снова садясь – всякая тварь, даже коммунистическая, жить хочет. А потому – обороняться право имеет. Сам виноват: плохо обыскал. Как вернемся, накажу за раззявость.
Ефрейтор вернулся на место. Сержант убрал ногу, позволяя комиссару встать. А главарь спросил, будто ничего не было – достав заветную тетрадь:
– Твоя?
Гелий кивнул. Он наизусть помнил каждую страницу, по памяти мог воспроизвести любую строку – даже те из них, что были зачеркнуты и заменены. Это был не просто дневник, а мечта, о которой вчера говорил товарищу комиссару – книга о времени, о товарищах, о себе. Как Гонгури – только начать с этих дней. И – продолжить, в то самое будущее, где люди объединенного, коммунистического человечества, будут осушать моря, засеивать пустыни, поворачивать вспять реки и летать к другим планетам; где вместо дремучих лесов поднимутся заводские трубы, а умные машины возьмут на себя всю тяжелую работу. Гелий делал даже первые, еще робкие и неудачные наметки того романа – зачеркивал, сочинял снова. И среди людей того мира были – он сам, его товарищи по отряду, и конечно, товарищ комиссар Итин – вернее, люди с их чертами, только через тридцать, сорок, пятьдесят лет.
– Из-за нее ты живой – заметил главарь – мы подумали: ординарец штабной бумаги спасает – если их схватил прежде оружия. А то бы как всех – чтобы не возиться. Сам сочинял – или переписывал?
Гелий промолчал.
– Сам – отметил главарь – чужое так не хватают. И стихи… Знаешь – а ведь мне понравилось, я все прочел. Ты талантлив, мальчишка – так какого черта тебе быть расходным материалом в чужой драке? Оставь войну бездарям, вроде меня. А твое – вот это, его и держись. Хочешь – отпущу?
Гелий молчал.
– Ты ведь не щенок пролетарский, кому жизнь – копейка, и из грязи в герои, хоть посмертные. Одним рывком под танк, и вся цена его головы – минус одна боевая единица противника. Тебя – папа с мамой любят и ждут. Как им будет – узнать, что ты погиб? Без геройства – не надейся. Просто сгинешь – как не был вовсе. Сам выберешь, жить или умирать – или мне за тебя решить?
Гелий молчал. Только сейчас он вдруг понял, что это не приключение – что весь его мир, память, мечты – все, что составляет его "я", погаснет и исчезнет. Что никогда он не увидит прекрасной страны Гонгури, светлого будущего – до которого он мог бы дожить. Не просто страх – ледяной холод, ощущение щепки в летящем в бездну потоке. Это было несправедливо и неправильно – и разум бешено крутился, ища выход. И не находил.
– Отпущу – сказал главарь – слова своего я не нарушал никогда. Даже если давал слово – вашим. Только ты тоже сделаешь для меня – кое-что.
Гелий кивнул. Он сам не мог сказать, как это вышло. Просто ему очень хотелось жить – даже не ради себя, ради светлого будущего. Если для того не надо было выдавать военных тайн.
– Не смей! – крикнул Итин – лучше уж…
Он знал, что лучше было сделать это молча. Чтобы враги не успели помешать. Но он не мог заставить себя поступить так с Гелием – не предупредив. К тому же сержант стоял чуть в стороне – и Итин надеялся, что тот не успеет.
Они еще оборачивались – а Итин уже летел, в падении-прыжке. Надеясь, что не ошибся, и револьвер упал именно там. Понимая, что второго выстрела не будет.
Револьвер оказался на месте. Схватив, уже не было времени вставать – Итин поднялся на локтях, большим пальцем взводя курок, трава мешала прицелиться. Палец лег на спуск – тут Гелий обернулся, и Итин увидел его глаза.
Он потерял самый короткий миг – не больше, чем полсекунды. Но этого хватило, чтобы сержант успел. Вышиб ногой револьвер, взлетевший куда-то высоко и далеко, и с размаху ударил прикладом. Странно, но Итин не потерял сознания. Подскочил и ефрейтор, враги владели боевой рукопашной – и Итин понял, что сейчас его просто забьют насмерть, ногами, даже не тратя пулю.
– Прекратить! – крикнул главарь, вскакивая.
Враги были обучены и дисциплинированы. Ефрейтор тотчас же передвинулся к Гелию – а главарь подошел не спеша, и когда Итин встал, спросил:
– Его хотел? Почему – не меня? Я – отправил ваших на тот свет столько, что хватило бы на десяток кладбищ. Наверное, стою первым номером в ваших списках "заклятых врагов трудового народа", подлежащих немедленному расстрелу. Мое уничтожение для вас гораздо более важно. Любопытно, почему же – он, а не я?
Итин хотел плюнуть врагу в лицо – но плевок с кровью не долетел. Горелый главарь повторил:
– Почему? В меня много плевали – я привык. Отвечай. Или это тоже – военная тайна?
– Все умрем – сказал Итин, отдышавшись – все умрем, раньше или позже. И каждый должен будет спросить себя – прожил он пескарем в норе, для себя одного, ни к чему не касаясь – или оставил в жизни след. Не в том дело, чтобы прожить лишний год – в том, чтобы не было стыдно, что сделал мало; время важно лишь тем, что можно успеть за него. Я – сделал уже довольно. А он – чем коптить небо предателем, лучше остаться навсегда юнцом восторженным, кто песни нам пел. Ну а ты, гад – после скорой нашей победы, куда денешься от справедливого суда народа? Больше говорить не буду – убивай. Об одном лишь прошу, если хоть что-то осталось от совести – не ломай мальца. Как сын он мне – или младший брат. Хочешь убить – так убей его сразу, но не гни! А со мной – что хочешь делай: ничего тебе больше не скажу.
И товарищ Итин замолчал. Слышны были голоса от амбара вдали: там все еще разбирали хлеб. Во дворах лаяли собаки. Шла обычная деревенская жизнь.
– Ты все такой же – сказал главарь – за революцию праведную и справедливую. Чтобы каждый получил, что заслужил. Уже близко буря, которая очистит спертый воздух и унесет прочь никчемный сор. Вот и встретились мы наконец снова, старшой. А ведь я тебе – больше, чем отцу, верил.
Товарищ Итин давно отвык удивляться. С первой минуты голос врага показался ему смутно знакомым – но этого просто не могло быть. Однако все же – оказалось правдой.
– Ты!? – спросил он, еще не веря – живой? И– с ними? Да как же это…
– Я – кивнул горелый – ну, здравствуй, брат. Вот и встретились, наконец.
Итин вспоминал вихрастого и голенастого мальчишку – старшего из мачехиных отпрысков. Обычно ушедшие в революцию вынужденно рвали и с прежней семьей – после первого ареста, уйдя на нелегальное, чтобы скрыться от надзора. Но Итин был опытен и везуч – и потому, время от времени, появлялся у отца. Тем более, что старая столица с ее обилием заводов и массой рабочих была центром не только промышленности, но и революции; и трудно не поддерживать связь, по делам подполья часто бывая на той самой рабочей окраине – особенно, если большинство этих дел проходят там же. В самом начале, пока Итин еще не был известен полиции, у отца несколько раз даже проходили собрания комитета, маскированные под гулянки и именины; там прятали литературу. А смышленый мальчишка всегда вертелся возле взрослых – с восторгом выполняя поручения, как принести что-то, или покараулить.
Он всегда называл Итина братом – хотя и не был ему родным. Работал уже в цеху – учеником слесаря. Отец относился к увлечению сыновей социализмом сдержанно, не приветствовал открыто – но и не мешал. После той, первой стачки – когда те, кто позже стали Партией, в первый раз вступились за рабочих и против гнета хозяев. Все они тогда были совсем еще молоды – но рабочие им поверили и за ними пошли – тому, кто против, не стало бы житья. Но младший брат всегда с особым восторгом встречал товарища Итина – когда тот появлялся дома. И однажды – попросил его взять с собой. Так и сказал – в революцию.
– Это тебе не книжки про индейцев – ответил Итин, потрепав младшего по вихрам – чтобы делу нашему полезным быть, а не погибнуть просто так, сильным стань, телом и духом, многому научись и многое умей. Смелым стань – страх в себе изживи, чтобы не мешал поступать как надо. Умным стань – не верь господам, обывателям, пошлому опыту глупцов: сам думай, дорогу ищи. А самое главное – стань честным: никогда не иди против своей совести. Тогда – дело праведное тебя найдет. А мечтатели пустые – никому не нужны.
Он никогда не признался, даже себе, что поступил так – как в деревне бывает, берегут любимых детей от изнурительного труда, стараясь хоть чуть продлить им беззаботность. Суровые законы подполья заставляли смотреть на новичков, как на расходный материал; проверенных товарищей ценили больше – и редко кому удавалось избежать тюрьмы и каторги, где молодые и неопытные гибли первыми.
Самым страшным в тюрьме был даже не карцер и не побои жандармов – а общая камера с уголовными: те не любили "политиков" и всегда старались опустить их на самое дно. Однажды Итин видел сам – как среди товарищей был один гимназист; все ждали, что он пройдет закалку первым своим арестом, никого не выдав, и не сломавшись. Тогда бы он стал "наш", за которого идут стенкой, разбивая кулаки о чужие морды – пока же товарищи лишь смотрели, как держится новичок; и в первую ночь гимназист повесился на рукаве собственной рубашки, привязав к верхним нарам. Если бы он сдался на допросе, то мог бы по первости и малолетству уйти домой под подписку, а на суде получить условно.
– Интеллегент! – сказал тогда старший среди товарищей – сам признавался мне, что два раза к дому своему бывшему приходил тайком, на окна смотрел, где свет горит и папа с мамой. Взвешивал, значит, не вернуться ли? Слабость интеллегентская, в отличие от нас, пролетариев: им ЕСТЬ куда обратно, как прижмет!
Тогда они бежали группой, с этапа. Старший погиб через год, зарубленный на митинге конным жандармом; двое были повешены полевым судом; двое умерли от чахотки, трое – от тифа; кто-то погиб уже после победы, на фронте, или при подавлении кулацких мятежей. Из тех, кто основывал Партию, сейчас в живых остались лишь Вождь, и Итин. Жизнь революционера была короткой – и все знали это, стараясь лишь успеть больше за отпущенный срок. И на каждого из тех, чьими именами сейчас называли города, заводы, корабли – было по нескольку безвестных, погибших в самом начале. Кто мог бы сделать не меньше – но кому просто не повезло, успеть что-то совершить.
– Успеешь еще – сказал Итин – себя пока воспитай, укрепи и закали. А дела – на всех нас хватит!
Мальчишка оказался упорным. После рабочей смены, он убегал в лес за шесть верст, или зимой на лыжах в поле. По купленным на скопленные гроши книгам изучал гимнастику и бокс, упражняясь на подвешенном мешке с опилками. Обливал себя ледяной водой. Бегал по полю за зайцами с отцовским ружьем. Был бит отцом за порчу двери, в которую по-индейски метал ножи и топор. Сначала дрался до крови с соседскими ребятами, даже старше себя – затем, став их признанным вожаком, махал с ними руками и ногами по добытой где-то книге о японской борьбе. При этом никогда не был замечен в пьянстве и хулиганстве, обычных среди рабочей молодежи. Вовсе не пил водки, и даже не курил – зато много читал. Сначала -детективы про сыщика фон Дорна, а также Жюль Верна, Стивенсона, Майн Рида. Затем, все чаще – и запретную литературу. Хотя сам Итин однажды, чтобы побаловать мальца, подарил ему Грина – "Дьявол Оранжевых Вод": индейцы, ковбои, путешествия, на обложке суровый герой с двумя кольтами, и скачущие мустанги.
В последний раз они виделись восемь лет назад. Еще до войны, не гражданской, а той – предшествующей. Итин тогда уже был в партии видной фигурой. Они шли вдвоем по лесу, собирая грибы. Небо было серым, но без дождя. Шуршали под ногами опавшие листья. Из кустов выскочил заяц – и напуганный, метнулся прочь.
– Возьми меня с собой – снова просил его младший брат – я буду делать все, что ты скажешь. Как ординарец, или вестовой. Честно.
Итин снова отказал. Так вышло, что в деле, по которому он приехал, второй был бы помехой. Обещав брату забрать его с собой в следующий раз, и выполнив задание партии – опасное и очень трудное, он уехал. Больше они не встречались – до сегодняшнего дня.
– Поговорим, брат – сказал горелый главарь – искал я тебя. Все эти годы – и думал все, что скажу, когда увидимся. Поговорим, брат – раз уж так вышло, в самый последний раз.
Итин лишь презрительно сплюнул. Себя лишь марать – с гадом болтать.
– Вот этого не надо – сказал бывший младший брат – никого я не предавал. Все делал по твоему уроку -жил по совести, своим умом дорогу искал, ничего и никого не боялся. И воевал умело – если на фронте шесть лет, и живой. Искренне хотел – с вами. А вышло вот – командир полка особого назначения, кого вы называете "лешаками", ваших положил без счета. Самому любопытно – как же так случилось? Потому – ты выслушаешь меня, братец. Уши заткнешь – руки прикажу связать.