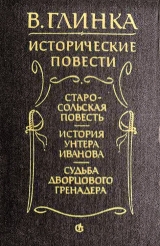
Текст книги "Старосольская повесть"
Автор книги: Владислав Глинка
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 17 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
4
Поздней осенью 1811 года, в одном из уездных городов Тверской губернии, были сданы по набору два молодых рекрута. Одного звали Яков Подтягин, другого – Егор Жаркий.
Когда лбы были обриты, квитанции владельцам выписаны, писаря составили реестр людям и офицер-приемщик на славу угостился в трактире с дворянами-сдатчиками, настало время новым служивым выступать в Москву – в рекрутское депо. На рассвете холодного серого дня партию окружили конвойными и вывели на большую дорогу. Заскрипели телеги с рекрутской поклажей; завыли, причитая, старухи и молодки, провожавшие близких, заругались, отгоняя их, солдаты. Партия тронулась в путь.
Трудно представить себе, что переживал тогдашний новобранец. Навеки отрывали его от жизни, в которой все было хоть и бедно и темно, проникнуто подневольным трудом и произволом, однако же родное, привычное, знакомое с детства. И разом переносили в новый мир, чуждый, непонятный и еще более жестокий.
Солдаты, которых видывал парень до службы, представлялись ему странными существами с наголо обритыми бородами, в чудном куцем платьишке, с избитым капральской палкой, по команде дергающимся телом. И таким-то надо стать самому.
Уж на что крестьянская жизнь была неказиста, а эта, особенно издали, казалась еще страшнее.
И хоть впереди где-то только маячила еще первая муштра, а сейчас всего и надо было, что исправно идти куда приказывают, но именно эти первые дни рекрутчины с ожиданием подлинного солдатского житья и были самые тяжкие. Все оставшееся позади подернулось сладкой тоской, а будущее мрачно и неумолимо приближалось.
На первом своем марше рекруты приглядывались друг к другу, выбирали подходящего человека, чтобы перекинуться словом, поделиться тем, что особенно рвалось наружу.
В такие-то дни, на дороге к Москве, сдружились Яков Подтягин и Егор Жаркий. А казалось, трудно сыскать более несхожих людей. Яков был крестьянин, Егор – дворовый человек. Яков сам выпросился у бурмистра в солдаты в замену младшего, только что женившегося брата; Егора сдали господа за провинность. Яков, тихий и смирный парень, ничего дальше своего прихода не видывал; Егор – говорун, задира и грамотей – езжал с господами в губернию и в Питер. Оба они были красивы, но совсем по-разному. Яков – русый, белолицый, сероглазый, с доброй улыбкой, а Егор – смуглый, похожий на цыгана, в ухе золоченая серьга, с недоверчивым, насмешливым взглядом далеко расставленных карих глаз из-под широкого, выпуклого лба. Сближало их то, что шли они в набор из одной волости, из соседних деревень, сдали их в один день, в ранжир поставили рядом по хорошему росту. И, идя плечо к плечу, видели они, как бежали за партией их голосящие матери. А на походе обнаружилось еще, что оба любили петь.
И когда захрустела под лаптями утренняя осенняя изморозь и с каждым шагом стали уходить из глаз родные места, Яков затянул вполголоса что-то заунывное чистым тенором, Егор подтянул густо и мягко, и пошла у них песня за песней, печаля или веселя соседей. А между песнями разговор про себя да про оставшихся сзади в морозном тумане короткого дня. Только всегда, когда заводил песню Яков, была она не громкая, не быстрая, не плясовая, хотя порой и веселая. А когда запевал Егор, так и рвались из него удалые переборы, с уханьем, присвистом, дерзкими разгульными словечками, а коли уж грустное, то с тоской, хватающей за сердце. Да и в разговоре у Якова было все гладко, спокойно, миролюбиво, а у Егора – со страстью, со злобой, с напором и молодечеством. И в солдаты-то сдали его за то, что, будучи барским егерем, загорячась на охоте, вкатил половину картечного заряда в любимую барскую суку, другой половиной ранив медведя, которого она рвала. А на господскую ругань отвечал, что благодарите, мол, бога, сами не подвернулись…
Случилось так, что в Москве при разбивке по полкам – рост решил судьбу молодцов – обоих назначили в Киевский гренадерский полк, стоявший тут же, близ Белокаменной.
Когда-то, лет за сто до того, гренадерами назывались отважные солдаты, метавшие во врага ручные гранаты, а потом этим именем стали именовать части, формированные из рослых и сильных людей, назначение которых составлял прежде всего штыковой удар в сомкнутом строю.
Киевские гренадеры были из самых старых и заслуженных, вели свою историю с петровского времени и еще за взятие Берлина в Семилетнюю войну награждены серебряными трубами. Люди в полку подбирались рослые и видные.
Новые приятели попали в один батальон, в одну роту, только в разные капральства, по-теперешнему – взводы. Яков – в гренадерское, где требовались бравость, внушительность, плавность поступи, а Егор – в стрелковое, – сюда брали самых ловких, смышленых, подвижных солдат.
Началось ученье. А было оно в те времена сложное и мучительное. Во-первых, одежда самая неудобная. Мундир короткий, только до пояса, с узкими фалдочками сзади на отлет, очень везде тесный, как облитый, да с высоченным воротником о трех крючках. Штаны в обтяжку, от земли до колена на пуговках, так что и ногу согнуть трудно. Сапоги тоже узки – на одну холодную подвертку. А на голове высоченный кожаный кивер вроде опрокинутого ведра, с прямым волосяным султаном на железном длинном пруте, который при каждом шаге крепко встряхивает голову. Шинель позволяли надевать, когда мороз больше десяти градусов, а то носи в скатке. Амуниция тоже сложная и тяжелая. Сума на ремне через плечо, через другое – тесак, за спиной ранец до пуда весом, с разным солдатским добром, а в руках ружье, тоже не перышко – больше двенадцати фунтов. Повернись-ка проворно в этаком виде!
А вертеться приходилось много. Всех ружейных приемов было до тридцати, и чтоб они делались ясно, четко, у всех единообразно, исполнение разделялось на темпы, а то еще на подтемпы. И сотни раз проделывали каждый подтемп, пока не достигали нужной быстроты, точности и лихости движений. Кроме приемов учили еще шагу, которого различалось несколько родов по быстроте и по ширине, да еще общему строю, где требовалось совершенное совпадение движений десятков и сотен людей, штыков, султанов, при полном равнении. А после этого чистка амуниции, отбелка всех ее ремней, ежедневное бритье подбородка и усов с подравнением, фабрением и подкраской бакенов. И много еще разнообразных дел – от варки ваксы до уборки казарм. И все при скудном пайке и коротком сне.
Но при всем том многосложная премудрость военной выучки давалась нашим приятелям сравнительно легко. Оба они были парни молодые, очень здоровые, сильные и ни о чем, кроме службы, не думавшие. Однако и тут почти тотчас обнаружилась разница характеров. Подтягин учился всему старательно, без дальних расчетов, просто по врожденной честности. Раз пришлось, мол, в солдаты попасть, значит, что велят, все постичь надо, – вот и стараюсь. А Жаркий, как маленько огляделся да понял полковые порядки, твердо решил не оставаться долго рядовым, а выслужиться во что бы то ни стало. И все способности, чувства и мысли сосредоточил на стойке, ружейных приемах, ровности шага, вытяжке носков и прочем. И добился того, что через три месяца его в пример ставили служившим два и три года, а весной 1812-го начали на ученьях высылать перед строем за флигельмана. Такое звание носил самый ловкий в ружейных приемах унтер-офицер. Стоя перед фронтом, он отчетливо и точно отделывал все движения приема, а глядя на него, то же выполняли все в обучаемом взводе или роте. Начальство его отличало и сулило нашить ефрейторские галуны на рукава. Зато товарищи не больно жаловали. Никому не помог Жаркий в ученье по своей воле, не сказал веселого слова, а в свободные минуты, став в стороне от людей, без конца отделывал «артикулы» ружьем – «полировался», по выражению ротного командира.
К одному только Якову подсаживался он иногда вечером на нары, да и то не для разговора, а чтобы прокашляться и сказать: «Ну, Яш, споем, что ли?» И, не дождавшись, чтобы тот запел свое, затянет какую-нибудь «Лучинушку», от которой еще темнее и горше станет в солдатских душах.
Зато Под тяги на в роте любили. Этот и другого послушает, и сам расскажет, охотно научит тому, что постиг, и амуницию почистит соседу, коли больно замаялся или ему неможется. Одно слово – человек как человек.
Яков замечал, что приятель его не в чести у гренадер, и не раз говорил ему:
– Что ты, брат, как волк какой, ни с кем не водишься? Гляди, с народом надо ладно жить…
А Егор усмехался:
– Чего мне с ними лясы точить? Тут, видишь, порядки каки – за лясы на ученье-то бьют, а за молчок сладкий хрящик дают…
Но раз как-то, должно быть, и сам почувствовал правду в укорах Якова и сказал:
– Что же, тебе, вестимо, легше с народом… А меня в дворне-то с самого начала били да колотили, как белье баба вальком бьет. Только тем и выжил, что волком стал. Теперь в телята не переделаешь…
В апреле месяце размеренной казарменной жизни пришел конец: гренадерская дивизия, в которую входил Киевский полк, получила приказ выступить к западной границе. О войне с французом заговорили как о деле решенном. На походе во время дневок не учились больше шагу и ружейным приемам, а занялись стрельбой. Старослужащие гренадеры, отдыхавшие на походе от постылой муштры, охотно поминали былые кампании.
Но только дошли к месту назначения да отдохнули недели две близ Волковыска, как французы перешли Неман и началось отступление в глубь России. За полтора месяца движения до Смоленска, когда Багратион искусно уходил от гнавшихся по пятам за его маленькой армией корпусов Даву, Понятовского, Мюрата и Жерома Бонапарта, и после, до самого Бородина, гренадерская дивизия не бывала в больших делах. Люди, истомленные непрерывными маршами, видом выжженных поселений и затоптанных полей, роптали на отступление, мечтали и молились, чтобы скорее досталось им схватиться с врагом не в арьергардной стычке, а в генеральном сражении. И либо умереть, либо остановить француза.
Одним из первых молодых солдат Киевского полка Егор Жаркий получил кровавое крещение. Но отделался легко. В стрелковой цепи, под Слонимом, ему французской пулей сорвало мочку уха, вместе с серьгой, да ободрало скулу и шею. Рану присыпали порохом, и она в две недели начисто зажила. Сильно похудевший, еще более черный от загара и пыли, мрачный и злой, Егор даже с Яковом не заговаривал, не пел и только норовил, коли случалась хоть малейшая возможность, выпроситься в огонь, в стрелки.
– У Егорки-то вместе с бабьей красой, видно, и язык отстрелило, – говорили солдаты. – Чисто волк стал лобастый.
Наконец наступил день Бородинского боя. Сначала гренадеры были в резерве за селом Семеновским. Неподвижно стоя в батальонных колоннах, слышали грохот артиллерии, перекаты ружейных залпов да смотрели, сколько ковыляет раненых из дымной пелены, застлавшей местность перед ними, сколько несут оттуда ополченцы тяжких носилок. Но вот, около восьми часов утра, когда защищавшие земляные укрепления у Семеновского дивизии Воронцова и Неверовского были почти начисто уничтожены натиском французов, Багратион двинул гренадер в атаку.
Скорым шагом, а потом бегом, устремились вперед все шесть отборных полков. Молодец к молодцу, красавец к красавцу, одетые в полную парадную форму, шли они в бой, одушевленные и стремительные. Страшен был их дружный штыковой удар, и французы, выбитые в поле с только что было занятых насыпей, начали отступление. Гренадеры преследовали врага, кололи, брали в плен. Потом их сменила посланная Багратионом конница, сошедшаяся в поле с французской, скакавшей на выручку пехоте.
Спеша вернуться к своим, Егор Жаркий, далеко зарвавшийся вперед, набежал в поле на прапорщика своей роты Акличеева. Весь залитый кровью от шести штыковых ран, лежал он без памяти в куче русских и неприятельских тел. Офицер этот, доводившийся сродни батальонному, прибыл в полк уже на походе, прямо из кадетского корпуса. Было ему не больше как лет шестнадцать, но отважно вел он на французов свой взвод. Егор, еще по прежнему охотницкому делу знавший, как важно не дать истечь кровью раненому животному, тут же наскоро перетянул раненые руку и ногу прапорщика кусками его же длинного офицерского кушака, туго повязал платком голову, поднял, как дитя, на руки и донес до ближних ополченцев с носилками. Но в этот день никому ничего не сказал, и Акличеева считали убитым.
Прошло полчаса, и французы снова выбили наших из Семеновских укреплений. Уже сильно поредели полки гренадер, многих старослужащих и молодых не досчитались соседи. Но, отойдя и перестроившись, они снова рванулись вперед, и, как в прошлый раз, солдаты Нея и Даву не выдержали натиска. Опять гнала их по полю наша пехота, пока не вырвались вперед кирасиры, чтобы рубить и преследовать бегущего врага.
И еще через час опять было то же. Только теперь гренадер подкрепляла свежая дивизия, присланная Кутузовым из резерва.
Возвращаясь из этой, третьей по счету, атаки, Яков Подтягин увидел лежавшего вниз лицом Егора. Кивер его был сбит набок, султан на нем сломан, около головы на примятой траве – лужа крови.
– Эх, земляк! – сказал Яков, приостановившись. – Дай хоть глаза-то закрою… – и, наклонясь, перевернул Жаркого на бок. Тут стало видно, что земляк еще жив, и хоть крепко раскроены у него скула и висок, должно быть французским прикладом, но глаза очумело ворочаются и хлопают веками, а язык что-то бормочет, – не то стонет, не то ругается.
Отстегнул Подтягин приятелю кивер, взялся под мышки, взвалил на плечо и потащил к своим, а потом, спросившись у ротного, отнес до ближнего перевязочного. Там сложил на землю среди других раненых, отдышался и побежал обратно к своему месту.
Какой это был день – рассказывать нечего. Не посрамили русские родины и своих знамен. Устлали французскими синими мундирами широкое поле, щедро облили его вражеской кровью. Но и сами густо ложились вперемешку с врагом на сырую землю.
В этот день Россия потеряла Багратиона и еще многих славных. 8-й пехотный корпус, в котором была 2-я гренадерская дивизия, поредел едва ли не более всех русских корпусов. К сумеркам, когда начали разбираться по полкам, в редкой роте насчитали тридцать человек.
Среди уцелевших был Яков Подтягин. Шесть раз ходил он в штыки, немало французов узнали, какая тяжелая у него рука, весь будто прокоптился кислым пороховым дымом, но ни одной царапины не было на богатырском теле. И когда уже через месяц, в Тарутинском лагере, ротный командир спросил солдат, кто за Бородино заслужил знак отличия военного ордена, то один из старых гренадер сказал:
– Подтягину б первому следовало, ваше благородие…
– Подтягин-то никак впереди всех «на ура» бёг, а последним назад шел, – добавил другой.
– Он Жаркого с поля вытащил, – напомнил третий.
И вскоре грудь Якова украсил серебряный крестик на оранжевой с черным ленточке.
Тут же, под Тарутином, в полк вернулся Егор. Крепкий был парень, – совсем выправился, только широкий и свежий красный шрам со скулы протянулся на висок и уходил в курчавые волосы. Но и помимо этого в лице появилось что-то новое. Нет-нет да и улыбнется без насмешки, в глаза глянет без вызова, и хоть по-прежнему на разговоры был скуп, но отвечать товарищам стал по-человечески.
«Жаркий-то наш ровно тепленький стал», – говорили солдаты.
«Не одним господам кровь пущать помогает», – посмеивались шутники.
Через день-другой после возвращения Егор вызвал Якова из шалаша, где тот жил со своим капральством, отвел в нелюдное место и, расстегивая шинель (на походе ее часто вместо мундира носили), сказал:
– Ну, давай, что ли, крестами сменяемся… Небось, каб не ты, не жить мне… Сам бы не помер, конница б затоптала…
Так они побратались, связались по старому русскому обычаю на живот и на смерть.
За пять недель стоянки под Тарутином войска отдохнули, пополнились свежими людьми, обмундировались заново. Все только и ждали, когда же поведут их опять на французов.
А тут Наполеон вышел из сгоревшей Москвы и двинулся на Калугу, но у Малоярославца путь ему преградил Дохтуров с корпусом, потом подоспел Раевский, а там сам Кутузов с главной армией. Вечером этого дня киевские гренадеры два раза ходили в атаку, и Яков с Егором, оказавшиеся рядом, вывели из жаркой свалки на окраине горевшего городка пленного офицера итальянской гвардии, как оказалось при опросе, полковника. За это оба они вскоре получили по кресту, присланному от самого Кутузова.
– А все не догнать, – говорил Жаркий, тыча пальцем в грудь приятеля, – у тебя-то уж пара заслужена…
– Ничего, твои впереди, – отвечал Подтягин уверенно, – парень грамотный, далече пойдешь, мной ужо командовать станешь…
И точно, через неделю, за убылью старослужащих, Егора произвели в ефрейторы, а еще через месяц в младшие унтер-офицеры. Только галуны пришивать на мундир было некогда. Французская армия, напрягая последние силы, спешила уйти из России, и Кутузов преследовал ее по пятам. Полчища, перед которыми так недавно рабски сгибала спины вся Европа, таяли под ударами русских.
Много тяжелого испытали в это время и наши войска. Обозы не поспевали за полками, а шли по местности, разоренной еще французским наступлением. Жили впроголодь, обносились до лохмотьев, обросли грязью, болели тифом, и чесоткой, и жестокими поносами. Но Яков с Егором вынесли все лишения и труды и, перевалив через границу, весной 1813 года стали с полком на квартиры в Пруссии.
Радостное это было время. Всякий понимал, что сделано великое дело, врагов начисто вымели, отстояли Россию. И кто в этом участвовал, тот заслужил и отдых, и крепкий сон на сухой соломе, и котелок каши с салом… Армия, стоя на широких спокойных квартирах, опять обмундировалась, получала новую амуницию, вбирала в себя пришедших из тыла людей, обучала их и готовилась к новому походу.
А потом двинулась навстречу Наполеону, шедшему из Франции с новыми войсками. И, глядя на русские полки, трудно было поверить, что это те же части, что меньше года назад мрачно и молчаливо шли по Смоленскому большаку к Москве. Смех, прибаутки, молодцеватая поступь. Хоры песенников заливаются чуть не перед каждым батальоном.
Тогдашняя солдатская песня совсем не то, что нынешняя, общая. Пел ее именно хор из отборных голосов, с лучшими свистунами и плясунами.
Полковые оркестры того времени были очень малы и слабы по звуку – всего по два гобоя, фагота, флейты, трубы-валторны и по одному барабану. Оркестр этот берегли для смотров, парадов и других торжеств, шел он на походе с полковым штабом. Правда, была еще сильная полковая барабанная команда в двадцать человек и в каждой роте, сверх того, по четыре барабанщика и столько же флейтщиков. Они на марше отбивали ритмическую дробь и свистали несложные шаговые мотивы. Но когда уставали, на смены им приходил хор. Он сам подбирался на биваках, у вечерних костров. И когда ротные командовали: «Песельники вперед!»– то из разных взводов, с веселым напутствием соседей, выскакивали за строй и бежали к голове колонны голосистые усачи. Разровнявшись в две шеренги за конем батальонного командира, они по знаку запевали, разом хватали какую-нибудь родную, российскую, залихватскую песню, вроде: «Выйду ль я на реченьку», «Дуня» или «Ах вы сени, мои сени»… А впереди хора уже вертелся, притопывая и откидывая коленца, бойкий плясун, прищелкивая пальцами, а то и рассыпая сухую дробь деревянных ложек.
Запевалой первого батальона киевских гренадер был Яков Подтягин, лучшим плясуном Егор Жаркий.
Занятно и весело было смотреть, как рослый и широкоплечий унтер-офицер, подоткнув спереди за пояс полы шинели, с пудовым ранцем на спине, в высоченном кивере, с ружьем в откинутой руке, пускался откалывать на радость товарищам лихую присядку по неровным камням дороги. И в то же время, ухитряясь идти шага на три перед хором, так забористо ухает и присвистывает, что встречные пруссаки и саксонцы только рты разевают, глаза таращат да толкают друг друга под зажиревшие бока.
– Ух, эти русские!.. Такие могли и Наполеона побить…
Проявленное Егором на походе мастерство в пляске и то еще, что, став унтером, не заважничал – по-прежнему дружил с Яковом, – много улучшило отношение к нему гренадер.
– Отошел, видать, парень, приручился малость волк-то… – говорили в роте.
А вскоре подошло событие, еще больше расположившее всех к Жаркому.
Незадолго до Лейпцигского сражения полк догнал прапорщик Акличеев, которого давно уже включили в список убитых под Бородином, потому что солдаты видели в схватке у Семеновского, как кололи его французы.
Тотчас по приезде прапорщик отнес полковому командиру ранее заготовленный рапорт, в котором кроме сообщения о прибытии в полк писал еще, что из боя его вынес и перевязал, спасши от смертельного кровоистечения, стрелок Егор Жаркий, какового он просит за то наградить, буде еще жив.
А узнал об этом прапорщик так. Когда ополченцы принесли раненого на перевязочный пункт и стали снимать с носилок, он очнулся и начал благодарить, что вынесли из огня и остановили кровь. Но ополченцы отозвались, что принес к ним раненого на руках высоченный солдат, у которого будто что уха нет и собой черен. Акличеев понял, что это Жаркий, которого он знал в лицо.
Отнеся рапорт полковнику, юноша тотчас отыскал Егора, благодарил его, обнимал, подарил пятьдесят рублей и золотой крестик на такой же цепочке.
– Это матушка моя просила тебя носить, – сказал он. – Только дай-ка я сам на тебя надену, так она непременно наказывала.
Егор стал было расстегиваться, но вдруг приостановился. Ведь у него висел уже крест, которым он поменялся с Яковом и которого потому снимать не хотел. Помявшись, он должен был, однако, объяснить все как было, чтобы прапорщик не обиделся.
– Ну так что ж, – решил Акличеев. – Носи на здоровье два.
А на первой же дневке батальон построили, Жаркого вызвали перед строем, и полковой адъютант громко прочел приказ о подвиге. Потом полковник прицепил Жаркому на грудь крест из тех, что были недавно присланы в полк от нового союзника – австрийского императора, произвел в старшие унтера и хвалил за молодецкую службу.
Оглядев ладную стать вытянувшегося в струнку Егора, полковник спросил:
– Какого звания до набора?
– Дворовый человек господ Полторацких, ваше высокоблагородие…
– Грамотный?
– Так точно…
– Хорошо, я тебя не забуду… – сказал полковник и скомандовал распустить роты для отдыха.
– Что ж ты молчал-то? – укорил в тот же день Егора один из стариков гренадер. – Прапора без малого год за упокой поминали – грех ведь…
– А чего зря звонить, я и сам за верное его не иначе как в земле числил, – усмехнулся Жаркий.
– Вот скольки вперед меня выслужили, господин старший унтер-офицер, – сказал Яков приятелю.
– Ты теперь важней генерала будешь, – острили солдаты, – сверху два креста геройских висят да споднизу еще два божеских…
А между собой говорили: «Не козырился, что барчонка спас, не для наград, выходит, в пекле-то с ним копался… Лоб-то волчий, а душа вроде как человечья».
После сражения под Лейпцигом разбитый Наполеон отступил к границе Франции. Наша армия неотступно двигалась за ним. Настала новая зима, но ни морозу, ни снегу настоящего, – одно название…
В сражении под Ларотьером убили в Киевском полку батальонного знаменщика, и на эту почетную должность полковник выбрал Егора. Произведенного за тот же бой в ефрейторы Якова назначили в ассистенты к знамени. Теперь всегда рядом шли они по французской земле. Бок о бок в атаку, к котлу и на отдых. И хоть не могли больше выбегать с песенниками вперед, но зато согласно подтягивали со своего места в самой голове колонны.
Все ближе и ближе грозная туча русского войска подвигалась к столице Франции. Один за другим проваливались задуманные Наполеоном планы ее защиты. И 17 марта в утреннем тумане открылись нашему авангарду опушенные первой нежной зеленью сады за каменными оградами, домики, церкви и мощеные дороги предместий. То там, то сям маячили всадники, блестели штыки, на возвышенностях виднелись пушки.
– Дожили и мы до праздничка! Придется нонче дядюшке Парижу расплачиваться за матушку Москву, – говорили солдаты, ожидая приказа об атаке.
И вот заговорили орудия. Наступающие армии широким полукругом от Сены до Марны сжимали с северо-востока предместья Парижа. Тысячи барабанов ударили поход, и колонны двинулись на назначенные места.
Гренадерам 2-й дивизии довелось штурмовать высоты Бельвиля. Ядра, картечь и ружейный огонь вырывали целые шеренги из строя. Французы с мужеством отчаяния старались задержать стремительную атаку. Но через два часа холмы были взяты, французские батареи смолкли, и у ног победителей развернулся Париж, залитый весенним солнцем, – башни, деревья, крыши домов.
Видя невозможность защищаться долее, маршалы Мармон и Мортье – тот самый Мортье, что в 1812 году был с месяц комендантом Москвы и, уходя, взрывал Кремль, – прислали просить о перемирии. А на другой день подписали капитуляцию Парижа.
Вскоре стало известно, что утром 19-го состоится торжественное вступление победителей в столицу Франции. В эту ночь мало кто спал в русском лагере. Все думали о пережитых двух годах великой борьбы, потерь, страданий, пролитой крови, которым пришел теперь достойный и желанный конец.
Толпы парижан выходили смотреть на тысячи костров, горевших на высотах вокруг города, и слушать доносившиеся оттуда чужие напевы.
А наутро, облекшись в полную парадную форму, полки в строгом порядке двинулись к Монмартрскому предместью.
Свежий утренний ветерок шевелил полотнища знамен, развевал флюгера кавалерийских пик и перья султанов на генеральских шляпах. Яркое солнце горело на стройных иглах штыков, на клинках обнаженных сабель. Теплыми бликами ложилось оно на жерла бронзовых пушек и отчищенные крупы коней. Несметные толпы горожан встречали победителей. Разодетые в лучшие платья, оживленные и крикливые, парижане непритворно радовались, что опасность штурма, еще вчера угрожавшая городу, миновала. И, запрудив улицы, высовываясь из окон многоэтажных домов, стоя на балконах и примостившись на кровлях, они бросали русским цветы, махали платками и шляпами, оглашая воздух приветственными криками.
«Так вот каковы они, победители «непобедимого»…» – думали французы, вглядываясь в шедших мимо русских героев.
Твердо и мерно звучал солдатский шаг по камням парижской мостовой. Тот самый молодецкий шаг, которым прошли они от Тарутина до Монмартра.
«Да, мы те самые русские, которые сожгли свою столицу, чтобы не отдать ее вам…»– говорили мужественные, обветренные и оживленные лица.
Киевские гренадеры были первым полком своей дивизии и двигались во главе ее, а в первой строевой шеренге первого батальона киевцев, под мерно колебавшимся георгиевским знаменем, шли Егор и Яков.
Как и все участники этого великого торжества, они навсегда запомнили незнакомые и, казалось, бесконечные, залитые солнцем улицы, ветки свежей зелени, украшавшие кивера и каски победителей, шумливую и пеструю, глазевшую на них толпу, а главное, чувства гордости и радости, наполнявшие их души.
На интервале в пять шагов перед ними перебойно цокали по булыжнику копыта лошадей батальонного командира и его адъютанта. А еще дальше впереди двигались красные султаны и черные спины музыкантов. Их густо расшитые белой тесьмой рукава видны были только от плеча до локтя, а невидимые гренадерам пальцы бойко перебирали клапаны инструментов.
В этот день во всей русской пехоте играли один и тот же Преображенский марш. Его четкий и простой мотив несся над стройными рядами. Сколько раз под эти знакомые звуки, то бодро-подъемные, то певуче-грустные, ходили в бой гренадеры, видели смерть товарищей и врагов, чувствовали и свою, казалось, близкую смерть, и победа осеняла их трепещущими крыльями. И не одни губы, шевелясь под нафабренными усами, подпевали в этот день знакомые слова старого марша:
Славны были наши деды,
Во врага вселяли страх,
Их парил орел победы
На полтавских на полях!..
Над Яковом и Егором ласково шелестело доверенное их защите боевое, не раз простреленное, знамя, за ними и перед ними грозным потоком шло русское войско, лучшее войско мира, освободившее от поработителей не только свою родину, но и Европу.
Парад на Елисейских полях кончился только часов в пять дня. Войска разошлись по казармам и бивачным местам. И когда наступила ночь, первая ночь русских в Париже, когда померкли костры и, утомленные трудами и впечатлениями, люди заснули, а кони медленно пережевывали золотистый овес с полей Шампани и сонно переступали копытами, – тогда по затихшим улицам послышались громкие шаги русских патрулей, их оклик встречным: «Кто идет?» И отзыв, отданный приказом на эту ночь: «Москва!»
Немало диковин видели солдаты в прославленном городе. Как и в строю, плечом к плечу, всегда вместе, обошли Егор с Яковом, гуляючи, аллеи Тюильрийского сада, набережные Сены, галереи Пале-Ройяля и пестрые многолюдные рынки. Вместе, наблюдая беззаботную парижскую толпу, сиживали в кабачках и пили сладкий лимонад у говорливых уличных торговок. От спокойной, сытой жизни приятели раздались, разрумянились, отдохнули после двухлетнего похода. Не одна парижанка заглядывалась на рослых красавцев, увешанных крестами и медалями, не зная, которого предпочесть – русого или черноволосого.
Но это были последние недели их солдатского товарищества. Однажды Якова кликнули к полковому адъютанту.
– Вот что, Подтягин, – сказал он, внимательно оглядывая застывшую у дверей канцелярии богатырскую фигуру, – полковник велел тебя сделать нашим тамбурмажором. Слыхал ли когда про такую должность?
– Никак нет, ваше благородие, – отвечал Яков.
И тогда адъютант рассказал ему, что в гвардейских частях впереди строя барабанщиков марширует особый чин – тамбурмажор, все дело которого состоит в том, чтобы подавать знаки, когда начинать и кончать барабанить «поход», «встречу» или другой «бой». Но командует тамбурмажор не голосом, а особой разукрашенной палкой – жезлом. Да притом одет в одному ему присвоенный мундир, весь в нашивках. В прочее же время состоит начальником команды барабанщиков, ведет их обучение и списки, распределяет по нарядам, и жалование ему положено как ротному фельдфебелю. А теперь вышло приказание завести таких же тамбурмажоров и в армейских полках…
– Ваше благородие, явите милость, – осмелился сказать Яков. – Я ведь барабанной музыки вовсе не разумею… То есть на слух-то знаю, который бой что обозначает, да руками-то где же этакое?.. Годами ведь обучаются…
– Знаю, братец, – отвечал адъютант. – То же и я докладывал полковнику, но их высокоблагородие так рассудили, что всего, мол, важнее, чтоб парень был из полка самый видный и чтоб в такт всегда попадал отменно, с шагу не сбивался, как по нему строй весь ногу берет… Ну а ты-то, сам генерал не раз хвалил, – лучший у нас запевала, – значит, суметь должен… Так что через час пойдем со мной в Семеновский полк, будут там всех вас, молодых тамбурмажоров, делу обучать.








