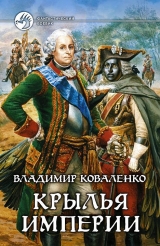
Текст книги "Крылья империи"
Автор книги: Владислав Кузнецов
Жанр:
Альтернативная история
сообщить о нарушении
Текущая страница: 19 (всего у книги 29 страниц)
В центре дела у русской армии шли не столь хорошо. Центральный карей турецкая кавалерия прорвала, и резерв, развернувшись в колонны, рванулся на выручку. Видно было, как сам Румянцев впереди размахивает треуголкой: «Вперед, вперед!».
Навстречу им уже торопились толпы турецкой пехоты. Четко выделялись упорядоченностью янычарские части, вокруг клубились легкие пехотинцы. Вообще-то турки готовились к обороне. Немудрено. С самого начала войны они порывались наступать. Вот только почему-то каждое нападение на смешных размеров русскую армию оканчивалось легким конфузом. Десятикратно уступающий в силах противник пропускал удар в пустоту, а потом плавно переводил турецкое безудержное наступление в безудержное же бегство. Спустя несколько дней турецкая армия приводила себя в порядок, недоумевая – почему так вышло. И почему сражение завершилось еще чуточку глубже на их территории. Поэтому на этот раз турки настроились на жесткую оборону.
Но – не использовать такой шанс никак не могли, бросив основные силы, засевшие на укрепленной линии, против русского центра.
Вот на головы наступающей турецкой пехоты стали падать первые гранаты из единорогов Мировича. Издали зрелище жестоким не казалось. Примерно как муравьев давить. Взрыв гранаты, неплотное облачко, отороченное стоячим воротничком жирной молдавской земли – и плотные ряды людей оседают вниз. А на проплешину набегают новые. И все-таки идут вперед.
– Давай секретные снаряды! – крикнул Мирович на батарею.
Те самые, с дистанционной трубкой. Только еще и цилиндрической формы, и набитые большим количеством картечи с порохом вперемешку.
На этот раз облачка были круглые, и бренной земли они не касались. Зато неприятели падали на землю сотнями.
Залп, второй. И турки откатились назад. Зато в зеленые бока древнего укрепления стали тыкаться ядра и гранаты турецких пушек. Пусть пушкари у турок за последние пару столетий сильно сдали – зато их командиры вполне понимали важность противобатарейной борьбы. В отличие от европейцев, изо всех сил боровшихся с пагубной привычкой артиллеристов прежде всего выяснить отношения промеж собой, а уж потом, задавив супостата, перенести огонь на менее опасные цели. Даже крепости ухитрялись осаждать, концентрируя пушки против стен, а не против батарей.
На валу стало неуютно. Вспучился огненным шаром не успевший убраться с огневых позиций зарядный ящик. Заряды и снаряды стали подносить на руках. Потом подносчики снарядов заменили убитых товарищей в орудийных расчетах, а на их место встали карабинеры и егеря. Огонь и дым… Откуда-то выскочил посыльный. От начарта генерала Бороздина. Тот требовал уводить гаубицы назад. На закрытые позиции…
– Куда?! – проорал Мирович, отирая с лица пороховую копоть, – С откоса, что ли, сбросить? Да, мы тут как на ладони. Но мы уже здесь – здесь мы и останемся.
Он оглох, глаза ели дым и уксус. Теперь он стал понимать пушкарскую доблесть – оставаться на месте и делать свою работу, невзирая на прочие мелочи.
Зато его батареи нельзя было взять на штык или ятаган. А турецкие замолкали одна за другой. И в центре – сквозь дым было видно – турецкую кавалерию в горячке схватки зажали и перетерли между собой гренадерские колонны. А мимо них уже мчались казаки и егеря. Турецкие командиры пытались остановить свои бегущие войска, защитить подготовленную на случай неудачи линию обороны. Хорошую линию. В человеческий рост глубиной – ров, за ним той же высоты вал. Справа – лес. Слева – круча. Только с кручи в спину защитникам вала хлещут ядра и бомбы Мировича, а из леса просверкивают выстрелы егерских винтовок.
Сила позиции обернулась слабостью.
Слабость же у турецкой позиции имелась изначально – позади у них была река Кагул. Да, летом, в межень, она была не слишком полноводна. Да, позади были мосты. Целых три. Два из них возвели на всякий случай. И именно эти два вдруг поднялись на дыбы! Потом вдруг вспомнили, что Кагул не Нева, а они – не разводные, и плюхнулись обратно. На дно.
Мирович сразу вспомнил ехидную рожу кирасира-ротмистра, сообщившего ему поутру, что твердо рассчитывает к вечеру на Андреевский крест, как минимум, второй степени. И еще подумал, что орден у храбреца накрылся – взорвал-то только два моста из трех. Мало он еще служил при Румянцеве.
Разумеется, фельдмаршал велел взорвать именно два моста. Отчаявшаяся и готовая биться насмерть армия, все еще превосходящая русскую по численности раз в восемь, ему была совсем не нужна. Зато бегущая по единственному мосту под ядрами Бороздина и Кужелева его вполне устраивала. Когда Мирович увидел Кужелева во главе шести конных батарей, лихо развернувшихся в двухстах саженях от моста, он понял – сражение окончено. Как вообще мобильная война в Молдавии. Теперь русской армии предстояло самое неприятное, если верить князю Тембенчинскому, занятие. Впереди была линия турецких приграничных крепостей…
Миних определил кампанию 1767 года как свой последний бой. Восемьдесят четыре года, несмотря на полный набор зубов и успех у придворных красавиц, давали себя знать. Фельдмаршал понимал – если не со дня на день, то с года на год – свалится. А уйти доброй волей в отставку или на синекуру было не в его характере. Тем более что записки свои он уже завершил. Осталась одна, последняя глава. И, если повезет, он не напишет ее сам!
Поначалу, когда он вернулся из ссылки, казалось, двадцать лет упали с плеч. Но – лучшие места были заняты молодыми полководцами, славными победами не над турками и татарами, но – битьем весьма недурной европейской армии. И он вернулся к тому, с чего когда-то начинал – к строительству крепостей. И тут стало твориться неладное. Некто Сипягин притащил ворох чертежей, с пеной у рта доказывал, что крепостям стены не нужны. Миних с ним вежливо не согласился. А потом пришел приказ Петра с контрассигнацией – строить по тенальной системе. Рвы, капониры. И никаких бастионов! Даже прекрасных многоярусных башен, как у некоторых европейских радикалов наподобие Монталамбера, не было. Земля и сталь! А вместо камня – бетон. Миних прикидывал так и этак – получалось очевидное уродство. Однако уродство эффективное. Фельдмаршал строил укрепления по новой системе. Удовольствия же от созерцания новых крепостей уже не получал. И понемногу начинал этой службой тяготиться.
Поэтому когда около года назад к нему с обыкновенной застенчивой бесцеремонностью явился его сибирский знакомец князь Тембенчинский, и рассказал о планируемой операции против Турции – причем в подчеркнуто сдержанном тоне, фельдмаршал сердцем прочитал недоговоренности. И дернул за все веревочки наверх, которые у него еще оставались. В том числе – за самого Тембенчинского. А заодно лично явился к царю и честно выложил свои солдатские мысли.
– Десант в Босфор дело рискованное, – сказал он, – а потому, государь, негоже отправлять туда молодого, растущего генерала. Или того, кто уже достиг вершины, но еще много лет может водить полки. Солдат можно обучить новых. Хороший же полководец – дар божий. Если неудача – кем заменить, скажем, Румянцева? Послать кого не жалко – загубит операцию. В таких делах все висит на командире. А я, хоть и старик, еще одну кампанию вынесу. Да и – хочется уйти со славой. Много я людей за свою карьеру отправил на смерть. Не повел, это ладно бы – а именно послал. Мне скоро отправляться туда. Вверх или вниз – неважно, солдаты есть везде. И я подозреваю, что полководцев, умерших в своей постели, они не слишком уважают…
Так он стал командующим десантным корпусом при Черноморском флоте. Корпус предстояло обучить, а флот построить. Потом были боевые испытания под Очаковым, стычки с турецким флотом в Керченском проливе и на Кинбурнской косе. Турецкий флот действовал избыточно осторожно из уважения к русским, уже сорвавшим план войны на суше. Русский – из-за крайне малой численности. Днепровский канал, в обход порогов, Донской канал, в обход мелей, были уже выкопаны и по ним непрерывно сплавлялись баржи с припасами. Вниз по течению не требовались ни бурлаки, ни паруса, ни весла. В устье их хватали на буксир галеры и волокли по соленым хлябям туда, куда Миних показывал пальцем. На месте их прикапывали на мелководье, в качестве пристаней, или вытаскивали на берег и использовали под жилье и склады. Рядом насыпался вал, откапывался ров, ставилась стволами в море тяжелая батарея – форт готов, место занято, турецкий флот тут больше не пристанет. Новые города называли, согласно традиции, немецкими именами.
Лейтштадт пристроился на Южном Буге, Шиффенбург – на выходе из Днепровского канала. Миних мотался между ними, как моль вокруг лампы. Там – встречал новые полки, тут – инспектировал транспорты.
Вот и новый полк топает по сходням. Тяжело топает, потому как тяжелая пехота. Спешенные для десанта карабинеры. Полковой командир вскидывает руку в приветствии.
Какай-какой полк? И, маслом по сердцу:
– Фельдмаршала Миниха карабинерный!
Когда-то он был фельдмаршала Миниха кирасирским. Назван за заслуги, в честь полководца – как корабль. Потом, при Елизавете, именовался сначала бывшим Миниховским, а потом не то Воронежским, не то Астраханским. А вот теперь полку вернули имя.
– И, разумеется, мы настояли на отправке к вам, хоть мы и не пехота, – объяснял полковник, крутя уставный кавалерийский ус, – полк укомплектован хитро – половина русских, половина остзейских немцев. За вами все пойдут в любое пекло…
Остров Тенедос был занят на всякий случай. Чтобы было место для отступления при неудаче. И для снабжения. Баглир, наверное, был первым флотоводцем, рискнувшим применить на море методу Валленштейна. Флот на подножном корму. Источником снабжения русского флота в Эгейском море должны были стать, согласно плану, закупки в Италии. После марсельского скандала все родственники и союзники французского королевского дома закрыли для эскадры свои порты, дружественные же находились исключительно сверху голенища итальянского сапога, а бегать туда-сюда вокруг Греции не хотелось. Вот Баглир и решил – снабжаться при помощи крейсерских операций. Но увидел лучший вариант, и радостно за него уцепился.
Изначально планировалось вести крейсерские операции своими кораблями, вплоть до линейных фрегатов. Но – на остров собралось изрядное количество греческих пиратов, готовых за каперский патент обязаться продавать все призы русским. По сходной цене, конечно.
Если капитан разбойничает на море сам по себе, это называется пиратством, если с благословения какой-нибудь державы, это называется каперством, а если он военный – то крейсерством. По сути – то же самое. Еще, конечно, разнится степень зверства. Военные берут пленных. Даже турки. Каперы тоже изредка благородничали, но чаще просто оставляют экипажу захваченного судна – приза – шлюпку. Мол, живы – радуйтесь. И гребите, гребите. Пираты же обычно предпочитали устроить резню, если только не подторговывали рабами и не нуждались в гребцах, как алжирцы.
Греки, явившиеся на собственных суденышках, относились к последнему сорту. Но – русский флот получал в лице эллинских пиратов отличную разведку. И высвободил легкие силы для более веселого занятия – набеговых операций. А пираты обрели острове Тенедос – хоть в Тортугу переименовывай – хорошо защищенную базу и гарантированного скупщика награбленного. Скупщика щедрого. Туркам же всяко выходило разорение, что от русских крейсеров, что от греческих пиратов.
Целью набеговых операций были небольшие турецкие гарнизоны, расположенные вблизи берега. Основной добычей – военные припасы и провиант.
Шли дни, и однажды князь Тембенчинский заявил скучающему Грейгу, что пора начинать настоящее дело. В конце концов, подходит уговоренный срок.
Первое дело было разбить турецкий флот, после нескольких перестрелок, провозглашенных победами, проникшийся к русскому флоту уважением, и никак не желавший из Дарданелл выходить на решительную битву.
Для этого пришлось организовать провокацию. Русский флот торжественно вышел в море. Все знали – он идет разорять побережье и бунтовать греков.
И точно – скоро русские линкоры были замечены у греческих берегов.
Капитан Кэмпбэлл получил приказ на своем «Гае Дуилии» в компании трех малых фрегатов навестить город Салоники, и содрать с него контрибуцию под угрозой обстрела брандскугелями. Фрегаты поддержки маячили у него за спиной так, чтобы с берега видно было только верхушки мачт. И можно было предположить, что здоровенный семидесятипушечник послан от большой эскадры мимоходом собрать дань, как самый мелкий и быстрый. И правда, быстрый. Как только деньги были доставлены на борт, «Дуилий», несмотря на очень свежий ветер, поставил все паруса, вплоть до лунных и триселей, захлопнул орудийные порты и лихо рванул в море, едва не чертя реями по воде. Что Кэмпбэлл делал внутри с пушками и балластом, относилось к области редкого искусства балансировки – линкор же не швертбот. Знающие люди на берегу восхищенно присвистывали. То, что на верхних палубах орудий нет, а на нижнем деке они только с одной стороны, на берегу не знали. Как и того, что на линкоре вместо восьмисот человек экипажа – двести, и те палубная команда. «Дуилий» временно из боевого корабля был превращен в пугач. Задач у него было две. Главная – убедить турок, что основные силы русского флота фланируют вдоль греческого побережья, удаляясь от своей базы к югу и западу. И второстепенная – сохранить корабль в том случае, если Тембенчинский и Грейг неправильно оценили характер противника. Для обеих целей скорость была куда важнее вооружения. Одни же фрегаты послать было нельзя. Вот и пришлось делать настоящий линкор фальшивым.
Кэмпбэлл рисковал, изображая гоночную яхту, напрасно – но ясно это стало только потом, когда снятые с «Дуилия» орудия открыли огонь по турецкому десанту, всей мощью навалившемуся на гарнизон Тенедоса.
Первыми – по кораблям – стали стрелять старые турецкие орудия, захваченные вместе с островом. Эти батареи были демонстративными и скоро замолчали. Турки еще не поняли, что игра идет не в шашки, а в поддавки, и всерьез перестреливаться из двадцати орудий с полутора тысячами русские не собираются. О, если бы у них была конная артиллерия, десант ждал бы при высадке хороший, безнаказанный картечный залп. Но дарить врагу хорошие морские пушки ради одного выстрела Суворов не счел нужным. Ненавидевший ретирады, от увел корпус к ретраншементам внутри острова.
– Ходить по хлябям мы не умеем, – говорил он, – значит, надо дать турку высадиться, прийти к нам – тут мы их и приветим по-свойски. А от пассивной обороны упаси Бог – та же ретирада, только отложенная…
Тембенчинский кивал хохлатой головой, соглашаясь. Действовать надо решительно. И разбить турок внезапной атакой при поддержке снятых с «Дуилия» орудий. Учитывая, что приходилось защищать базу, и пороха было более, чем достаточно, а великолепной турецкой конницы в десанте, разумеется, не было, Суворов нарушил собственные правила, гласившие, что с турками надо сражаться в каре, и развернул корпус трехшереножным строем. Но – не классическим прусским, перечеркивающим все поле боя одной или двумя линиями, а рваным, побригадно.
Русские вообще встали парадоксально – в центре, на холме – егеря россыпью. На флангах – нормальные линии бригад. Принято было наоборот. Если бы десант имел опытного командира, тот бы задумался – отчего и почему гяуры действуют не как обычно? Возможно, он поставил бы себя на место противника. И воспроизвел то, до чего додумались неделю назад Суворов с Тембенчинским.
То, что бой надо решить наступательно, Суворов даже не обсуждал. Для него это была аксиома. Если у вас хорошие войска, то отчего не наступать? А если у вас плохие войска, то отступать с ними вообще невозможно! Побегут.
Тембенчинский с этим согласился. Но заметил, что если загнать неприятеля в воду, можно попасть под обстрел большой турецкой эскадры. А солдаты люди хоть и казенные, но очень по свободным временам дорогие. Да и негде подкрепление взять. Удалось мобилизовать немного греков. Но их еще учить и учить. В этом бою греки должны были стоять в резерве – но под обстрелом. Для закалки, не больше того. О том, что эту сырую толпу при случае придется использовать, Суворов старался не думать. Не может быть у него такого случая! Не может!
А коли так, бой надо решить в глубине острова. То есть, не оставить врагу возможности отступить.
– Значит, – объявил Тембенчинский, – надо делать Канны.
Легко сказать. Ганнибал пользовался конницей. И – отступал центром. Суворов же отступать не хотел принципиально. Это означало – обходящим турок с флангов бригадам придется почти бежать. А если закрывать и тыл, создавая каре, обращенное внутрь, бригада, которая будет перекрывать последний выход, слишком устанет и расстроится, чтобы толком выполнить свою задачу. Оставить бригаду в засаде тоже не получалось. Турки – вояки, покорившие куда большие земли, чем пресловутый древний Рим, без разведки не ходили. Особенно по чужой земле. А греческий остров, занятый русскими, превращался для турок в чужую землю мгновенно. Да, на этот раз впереди пойдут не татары, башибузуки или спаги, а легкая пехота.
Поэтому был нужен маневр – а главного средства для маневра, конницы, не было. Тембенчинский, как чуточку артиллерист, предложил использовать гаубицы. Сами они были малоподвижны. Зато легко могли пристрелять сразу несколько точек. Прием множественной пристрелки не то чтобы был неизвестен – просто почти не использовался.
Суть его была проста – угол возвышения и поворот ствола единорога остаются неизменными, то есть перенацеливание не требуется. Но единорог может поражать цели на разном удалении – в зависимости от того, сколько пороха подложить под снаряд. Да и снаряд может быть разным по весу – например, картечью, ядром или гранатой. Пороховые заряды к единорогам обычно содержались в небольших картузах, и их можно было заряжать от одного до пяти. Более точной настройки обычно не требовалось – перелеты и недолеты корректировались изменением угла возвышения. Но если надо – можно ведь и пороховой заряд отмерить. И нестандартного размера заряды подготовить заранее.
До этого понятие маневра огнем принадлежало пушкам – повернул, вот и сманеврировал. Но теперь…
Теперь снятые с верхних деков «Гая Дуилия» единороги выполнили три функции. Первая – приманки. Когда турки увидели многочисленные русские пушки, прикрытые только россыпью егерей, у командира десанта сработал выработанный столетием существования полевой артиллерии инстинкт – захватить! Увы – дульнозарядные винтовки проредили турок, а бомбы из гаубиц сломали атаку.
Да, бомбы было жалко – турки таких не делали, а значит, на трофеи рассчитывать не приходилось.
Турки, все еще опасливо косясь на беспечно стоящие русские фланги, повторили атаку большими силами – снова неудача. Тут надо заметить, что османская военная школа всегда учила приноровляться к местности, и возводила рельеф едва ли не в абсолют. Это было хорошо при строительстве крепостей – но иногда подводило в полевом бою. Так вышло и тут. Турецкий командир решил, что ключ к русской позиции находится на холме с пушками. И решил – рискнуть, ударить всей массой, захватить батарею. А фланги – так вон как спокойно стоят.
На этот раз турки дошли почти до самых орудий, сквозь картечь. Но когда первые из них уже отведали егерских штыков и артиллерийских банников, фланги русской армии пришли в движение. А поскольку линия была рваной, шли быстро. Бригады повернулись углом и стали расстреливать атакующие батареи таборы с обоих сторон. Потом двинулись навстречу друг другу. Сзади, из-за холма, сам Александр Васильевич вывел на помощь артиллеристам и егерям резервную бригаду, ударившую в штыки. Неприятель побежал, теперь надо было не выпустить.
Часть единорогов турки смогли вывести из строя. Нет, не заклепать. Всего лишь подвинуть. Но вся тонкая настройка от Тембенчинского пошла бы прахом. Если бы расчеты не помнили точно, где и как должна стоять гаубица. И на какие ориентиры должен смотреть ствол. Единороги подтащили, довернули. Это было хуже, чем если бы они стояли неподвижно, прикованные цепями к вбитым в землю якорям, и могущие откатиться ровно столько, сколько надо, чтобы не перевернуться от отдачи. Но все-таки они имели шанс попасть в бегущих турок.
Турки только оторвались от русских штыков – как перед ними выросла стена из земли – Тембенчинский дал залп сразу из трети орудий, и те, кто бежал впереди полегли, расплачиваясь за трусость или длинные ноги. Но сзади шли русские, и турки предпочли дым разрывов зловещему блеску штыков.
– Три картуза, – приказал Баглир отстрелявшимся орудиям, – Вторая батарея! Пали! Орудия пробанить. Четыре картуза. Третья батарея! Пали! Орудия пробанить. Пять картузов…
Последние заряды не понадобились. Остатки турецкого десанта, отчаявшись прорваться сквозь раз за разом встающий у них на пути огонь, остановились и стали бросать оружие.
– Ну вот, Александр Васильевич, – проворчал Баглир себе под нос, – вам победа, а мне теперь кормить ораву пленных за казенный счет. Рыбаки в море не ходят, там же турки!
Он ошибался. Грейг выполнил свою часть плана блестяще. Турок в море не было. Разве что трупы на волнах…
За такой маневр в английском флоте контр-адмирала повесили бы. За шею, на рею. На расстрел рассчитывать не приходилось бы. Потому как линия кордебаталии была не просто разорвана или искажена. Она просто прекратила существование!
Нет, поначалу все было достойно, совершенно в духе владычицы морей. Русский флот, спрятавшийся за островом, выжидая сначала турок, а потом ветра. Двенадцать часов ветер дул строго на зюйд, и русские корабли со спущенными парусами грустно ждали погоды. В эти часы Самуил Карлович по-черному завидовал Суворову и Тембенчинскому, которые в своем сухопутном сражении никак от зефировых дуновений не зависели. Но – ветер пришел, и линия, окруженная дозорными корветами, двинулась на север. Перехватывать турецкий флот. И вот две линии кораблей оказались на расстоянии, на палец превышающем пушечный выстрел. Обнаружилось – турецкие корабли равного размера быстрее при попутном ветре. И – выше бортом. Значит, не могут резко поворачивать, не могут быстро идти под боковым ветром. Иначе – вверх килем.
Эскадры маневрировали, пытаясь выиграть ветер. Наконец, что-то пристойное забилось в паруса. И вот тут Грейг и отдал свой подсудный приказ.
Если бы не система флажных кодов, отдать столько распоряжений оказалось бы невозможно. А так – каждому русскому кораблю была назначена цель. И делай с ней, что хошь! И – напарник для уничтожения цели. Больше половины турецких судов в цели не попали – с ними позволялось разобраться позже!
Все цели относились к голове и середине линии.
Скоро от обеих линий не осталось и следа. Образовалась свалка, напоминающая времена де Рейтера. На пистолетной дистанции высота бортов подвела турок, создав у пушек верхнего ряда мертвую зону. Туда и подкатывались русские линейные фрегаты.
Верхний ряд русских пушек – легких, ядра которых могли и не пробить толстых вражеских бортов, бил вверх – по парусам и снастям. Это были все те же единороги – только на других лафетах, да герб на них изображался иной, ибо фельдцехмейстер переменился. Идея – ствол тот же, лафеты разные – была доведена до ума Кужелевым. На море столь легкие орудия годились только для повреждения парусов, метания зажигательных снарядов и картечи – зато били часто. Турок ввязывался в огневую дуэль, и по частоте русских выстрелов туркам начинало казаться, что они проигрывают. В это время другой русский фрегат пересекал курс, бил продольно. Настоящие линкоры итальянской постройки задерживали турецкий арьергард. Наконец, пушечный дым сделал флажное управление боем невозможным. Суда возникали из едкого тумана, обменивались залпами. У более мощных турецких кораблей были неплохие шансы для боя в этой дымовой завесе, но к такому их никто не готовил. Они стали выходить из боя – по одному, забивались в близлежащие бухты.
У Грейга возникло недолгое колебание – а не вернуться ли к острову, помочь его защитникам? Но тут он вспомнил, что каждый уцелевший турецкий корабль встретит его в Дарданеллах, а каждый выбросившийся на берег обратился в несколько береговых батарей. И занялся преследованием.
Русские корабли битва тоже разметала. Но – назначенными парами и четверками. Вокруг флагмана, «Апостола Андрея», собралось аж пять линейных фрегатов. С такими силами отчего и не преследовать. На деле, если бы турки, потерявшие в свалке всего один корабль, оставались эскадрой, никакой погони у Грейга бы не вышло. Все четыре нормальных линкора, имевшихся в русском флоте, два о шестидесяти пушках и два о семидесяти, были просто не в состоянии догнать уходящих с попутным северным ветром турок. Не из-за повреждений – а из-за европейской манеры постройки. Днища всех русских кораблей, что построенных в Петербурге и Киле, что купленных в Италии – были обшиты медными листами. От обрастания. При последнем кренговании Тембенчинского осенило еще набить на медные листы железных заклепок. При этом князь горячился и нес антинаучную алхимическую ахинею о разности потенциалов между металлами и о том, что моллюски этого, кажется, не любят. Если бы это говорил обычный сухопутный генерал, без крыльев и когтей, адмирал отправил бы его по морской матери. И если бы сам Самуил Карлович не был масоном и главой своей собственной, морской, ложи. А так – мистические объяснения заставили его махнуть рукой. Хуже, мол, точно не будет.
Турки поступали проще – мазали корабли снизу какой-то дрянью, то ли от запаха, то ли от вкуса которой любой корабельный червь грустнел, и плыл вдаль от османского днища, гонимый течением. Смазка была куда легче медных листов. И не имела швов. Поэтому при равном размере и равной загруженности турецкое судно было ходче.
Зато линейный фрегат изначально делался гончим судном. От обычного фрегата он отличался несколько большим размером и третьим рядом орудий, который составляли необычные на море, но исключительно легкие единороги, которые могли стрелять и как пушки, и как гаубицы. Последнее в битвах на море значения не имело – зато могло пригодиться против берега. Зато такой фрегат мог себе позволить больший, чем линкор, крен, более высокие мачты – а значит, и больше парусов.
За линиями кордебаталии прятались малые фрегаты, шебеки и совсем мелочь. У турок – свои, у русских по преимуществу греки. В бою они почти не участвовали. Зато сохранили организацию. И теперь искали поврежденные вражеские линкоры, чтобы добить. Или сторожили их.
Поэтому на полное уничтожение неприятеля Грейг времени не тратил. Сбить к чертям очередному супостату оснастку, спалить зажигалками паруса – и вперед, к новой жертве.
«Мессудие», султан морей, потерял две мачты в бою с четверкой престолов небесных – «Гавриилом», «Михаилом», «Уриилом» и «Рафаилом». Подбадриваемые капудан-пашой, турки держались удивительно стойко. Даже знамя прибили к остаткам бизань-мачты гвоздями. Чтобы спустить было нельзя. Поэтому четверка пошла дальше. Через полчаса турецкий флагман был обнаружен корветом «Новгород». Его командир, капитан-лейтенант Сухотин, искренне полагал, что засиделся на мелкой посуде, и, решив, что утопление столь избитого корабля принесет ему разве благодарность в приказе, решил взять Гассана в плен. У турецкого адмирала было другое мнение, но кто ж его спрашивал?
Экипажа для абордажной схватки Сухотину явно не хватало. Обстреливать же палубу флагмана картечью означало почти наверняка убить капудан-пашу. Так что оставалось заскочить под корму турку и схватиться – пять бортовых пушек против четырех кормовых. Но – высоко сидящих, а потому дырявящих паруса. «Новгород» стрелял ниже, стараясь разбить руль. А когда тот брызнул щепой, продолжал бить ядрами вдоль корпуса. Причем, стараясь не делать дырок ниже ватерлинии. Пока кормовая батарея отстреливалась, турки держались. Но когда замолчало последнее из четырех орудий, разбитое русским ядром, бухнулись в ноги адмиралу.
– Тебя и так умертвят за поражение, – уверяли его, – а нам жить хочется… Сдавай корабль.
Гассан был непреклонен три часа. Измочаленная корма уже не чинила никакого препятствия снарядам. С внутренних палуб неслись вопли гибнущих людей.
– Флаг прибит, – сказал, наконец, адмирал, – как же быть?
Но флаг от мачты оторвали.
Турки всегда любили большие пушки. И Дарданеллы сторожили самые большие. По калибру вдвое превосходящие царь-пушку. А большие пушки дороги. И новые льются редко. Потому что – незачем. Какая разница, чугунное ядро вылетает из жерла или каменное, если и то, и другое при таком калибре просто вырвет кораблю днище. Или вомнет один борт в другой. А то и просто расшибет корабль пополам.
Барон де Тотт уныло разглядывал эти произведения искусства. И все больше подозревал – эти чудища турки как привезли при осаде Константинополя триста лет назад, так и оставили стеречь проливы. Чтобы не тащить куда-то еще. Нет, пугалочки хороши. Еще бы – сорок дюймов! Внутри можно очень удобно поспать. Темное и прохладное местечко на галлипольском солнцепеке поистине бесценно. Жар же солнечных лучей достигнет жерла только к прохладной приморской ночи. Уж не в такую ли и занесло как-то позевывающего барона Мюнхгаузена?
Барон вздохнул. С каждым днем его миссия нравилась ему все меньше и меньше. А ведь идея-то была вовсе недурна! Отплатить косолапым русским за марсельский погром. За измену в Семилетней войне. За излишнюю славу в ней же. За свежезадертые носы, за новые таможенные тарифы на щепетильный товар. В конце концов, если взять две любые великие державы, каждой найдется за что обидеть другую. А уж если выпадает возможность сделать это чужими руками – как тут устоять?
Получив задание – усилить оборону турецких крепостей, барон Тотт поначалу был очень доволен, и выскочил от графа Брольи едва не вприпрыжку. Экзотическое путешествие, интересная практика. Возможная слава, если усовершенствованные им фортеции устоят перед русскими осадами. Но именно там, в Париже, его посетили первые сомнения – а все ли так хорошо? И посеял их не кто иной, как граф Сен-Жермен. Граф, против обыкновения, рассуждал в салоне не о Генрихе Наваррском и других героях религиозных войн, а о вполне свежей семилетней войне.
– Русские умеют брать хорошие европейские крепости, – говорил он, – так что слегка поправленные турецкие станут им слабой преградой. Турецкие артиллеристы слабы, поскольку совсем не тренируются. Материально их орудийный парк слаб и стар, крепостные припасы не обновляются десятилетиями. Во время последней войны с Персией шах легко взял несколько турецких укреплений. Я осмотрел их сам. Они хорошо вписаны в рельеф местности, и в каком-то смысле даже лучше наших, французских. По крайней мере, турки строят крепости на реальной земле, а не на листе чистой бумаги, как наши теоретики вроде Вобана и всех его последователей. Так что вопрос не в том, что защищать, а чем и кто это будет делать. Если посадить в тот же Очаков пару полков прусских ветеранов, эта крепость была бы почти неприступна. Заметьте, я говорю это, помня, что Кюстрин русские взяли легко.








