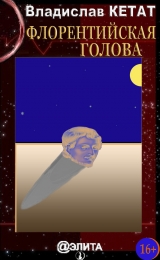
Текст книги "Флорентийская голова (сборник)"
Автор книги: Владислав Кетат
Жанр:
Прочая фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 15 страниц) [доступный отрывок для чтения: 6 страниц]
11. Мы будем жить с тобой в маленькой студии
Я поняла, где нахожусь, как только открыла высокую и очень тяжёлую деревянную дверь, весьма древнюю на вид. Дверь подалась нехотя, но почти бесшумно. В помещении было темно, но я точно знала, где я. Запах, понимаете. Такой может быть только в художественной мастерской, причём в той, куда давно уже никто не заходил. Формулу этого запаха составляли масляные краски, пыль, мольберты и подрамники, гипсы (да, гипсы пахнут), ватманы, холсты и всё то, что ещё обычно водится в художественных мастерских. Бог мой, как же прекрасен был этот запах!
Ошалев от знакомых ароматов, я оставила переноску с головой внутри у дверей и бесстрашно вошла в благоухающую темноту.
– Выключатель слева, на уровне груди, – подсказала голова и добавила: – кажется.
– Когда кажется, креститься надо, – пробурчала я себе под нос и малюсенькими шажочками почапала по этой тьме египетской налево, выставив вперёд руки, как слепая. Нащупала рукой чей-то лысый череп (гипсовый, разумеется), налетела на стул, пнула ногой что-то мягкое и, наконец, нащупала выключатель – такой же допотопный, как и дверь – повернула его на пол оборота по часовой стрелке, и в помещении зажёгся яркий свет.
Проморгавшись после темноты, я непроизвольно ахнула – то, что я увидела, практически полностью повторяло интерьер изостудии дома пионеров, куда я ходила в школе, с поправкой на масштаб, разумеется. Вокруг всё было почти, как там: гипсы на полках (Вольтер, Александр Македонский, Сократ, Аполлон) мольберты, подрамники, софиты… даже шкаф со стеклянными дверями с гипсовыми ушами и глазами внутри, и тот показался мне знакомым. От усталости и переполнивших меня чувств я опустилась на стул, который чуть не опрокинула несколько секунд назад. Закрыла глаза, втянула ноздрями воздух, и вспомнилась мне наша изостудия, весёлый старик с серебряной шевелюрой, Иосиф Аронович Фердман, моя подружка Ленка Козак по кличке «Ёжик», единственные мальчики в нашей группе – маленький Лёша и длинный Саня, которых мы с девчонками постоянно подкалывали, а сами тайком по ним вздыхали, особенно по длинному Сане…
– Что, дежа вю? – подала голос голова.
Я нехотя открыла глаза.
– Вроде того. Так, ради интереса, а где мы находимся?
– Это мастерская одного моего… э… приятеля. Его сейчас нет в городе, и, думаю, не будет до весны.
– Улетел в тёплые края?
– Вроде того. Он сейчас в а…а…а… – вместо продолжения голова пронзительно чихнула. Вместе с чихом из переноски вылетело облачко пыли и некоторое количество, вероятно кошачьих, волос.
– Будьте здоровы, – сказала я сквозь смех, – так, где ваш приятель сейчас?
– В Алжире. Вы бы не могли достать меня из этой клетки для вонючих животных. Голова чихнула ещё, на этот раз громче.
Я встала со стула и извлекла голову из переноски, затем водрузила её на вращающуюся подставку для бюстов, предварительно свергнув оттуда Вольтера.
– Надеюсь, мсье Гудон будет не против.
Голова хмыкнула.
– Судя по блеску в ваших глазах, Саша, – сказала она, – вы учились живописи.
– Училась, да не выучилась. Бросила. Теперь жалею.
– А кто вы по профессии?
– Инженер-металлург, – ответила я, чувствуя, что овладевшая мной минуту назад эйфория постепенно уходит, – я окончила московский институт стали и сплавов. Даже по специальности успела поработать в НИИ редких металлов.
– А теперь вы где работаете? – не унималась голова.
Эйфория улетучилась окончательно.
– В банке, – сказала я, – в одном паршивеньком московском банчке.
– И вам это нравится?
– Смеётесь? Я ненавижу свою работу.
– Тогда почему бы вам ни попробовать себя в изобразительном искусстве? – с непосредственностью в голосе спросила голова.
Я усмехнулась.
– Боюсь, это невозможно.
Голова сделала большие глаза.
– Что вы сказали, невозможно? Саша, милая, посмотрите на меня, невозможно – это я! А всё остальное очень даже возможно!
И тут у меня случился приступ самого неукротимого в моей жизни – безусловно, нервного – хохота. Как дурочка я, держась за живот, минуты две дрыгала ногами, а в голове раз за разом повторялась фраза: «Невозможно – это я! Невозможно – это я!», которая казалась мне необычайно смешной. Когда я поняла, что это истерика, то вогнала ногти в ладони с такой силой, что к глазам подступили слёзы.
– Саша, вам срочно надо выпить, – сказала голова, когда я немного успокоилась, – да и мне тоже не помешает, я высох весь. Сходите за вином, только переоденьтесь и на голову что-нибудь наденьте.
Я сделала пару глубоких вдохов и подумала, что выпить – это отличная идея, тем более что деньги у меня теперь были (спонсор мероприятия – наш гость с солнечного Дальнего Востока), но перед употреблением мне захотелось осмотреть студию повнимательнее.
– Сейчас, – сказала я, поднимаясь, – только посмотрю чего тут и как.
И я, не спеша, обошла студию по периметру. Разумеется, теперь она выглядела иначе, совсем непохожей на изостудию моего детства. Это, должно быть, радость спасения сыграла со мной такую шутку, когда я вошла сюда.
При ближайшем рассмотрении многое здесь оказалось чужим, не таким, как там: стулья, шкафы, плафоны, софиты, вращающиеся подставки, полки на стенах… короче, всё кроме гипсов, которые, я подозреваю, во всех изостудиях мира одинаковы. Единственное, что точно было оттуда – это запах, но он, вероятно, также интернационален, как и гипсы.
– А где я буду спать? – спросила я у головы, – на стульях?
– Пройдите в тот угол, – голова показала глазами в сторону окна, – там диван и столик, где можно есть.
Я пошла указанным направлением и за софитами обнаружила проход в малюсенькую комнатушку, где действительно стоял уютный на вид диванчик, а подле него небольшой столик. Стены комнаты были оклеены афишами на итальянском, а пол заселён старыми ватманами, на которых, среди отпечатков ботинок просматривались карандашные наброски. Заканчивалось комната непрезентабельной низкой дощатой дверью, почти калиткой.
– А там что? – крикнула я голове, – за дверью?
– Удобства, – отозвалась она. – Может, всё-таки сходите за вином?
– Уже иду. – Я вернулась в студию. – Кстати, вы сказали мне переодеться, но во что?
– Там, откуда вы только что вышли, есть стенной шкаф. В нём вы найдёте всё, что вам нужно, только умоляю вас, не увлекайтесь.
Перспектива сменить трофейный японо-китайский гарнитур на что-то другое придала мне сил, и я козлом рванула обратно в комнату.
Вышла я оттуда где-то через полчаса, одетая в туго обтягивающее моё седалище тёмно-синее платье с вырезом, меховом жакете из неизвестного зверя и огромной чёрной шляпе-абажур.
– Браво, браво, – без энтузиазма сказала голова, – и идите уже, пожалуйста, за вином! Только, это, шляпу снимите…
Так закончился понедельник.
Вернее, он закончился после того, как я «уложила» голову, выпила вина за её здоровье и наелась на ночь panino. Легла на кушетке. В качестве одеяла употребила красную бархатную штору с кистями, которую здесь, похоже, пользовали как драпировку. Уснула мгновенно, кажется, даже до того, как легла.
Утро вторника случилось необычно солнечным, видимо то была долгожданная компенсация за мерзкие дожди. Настроение моё ещё до окончательного пробуждения было прекрасным, благодаря солнечным зайчикам, которые щекотали мне нос, пока я валялась на мягком диванчике.
После потягушенек, посещения «удобств» и завтрака всухомятку я решила привести свои мысли в порядок. Села на кушетке по-турецки и задумалась. Из одежды на мне были трусы и красная штора, под которой спала. Я попыталась восстановить картину вчерашнего дня, и из всего кошмара мне почему-то первым делом вспомнился мой вчерашний ржач по поводу «невозможно». Я посмотрела на спящую голову и подумала: «А почему, собственно, невозможно?», бодро вскочила с кушетки и в одних трусах прошлёпала в студию.
Некоторое время ушло на оборудование рабочего места и расчистку пространства вокруг. От перемещения стульев, гипсов и прочих тяжёлых предметов мне стало жарко, и я решила открыть окно. Рама долго не поддавалась, корчила из себя забитую на зиму, но после миллион первой попытки всё же с недовольным скрипом раскрылась, и в студии посвежело. Я поспешила снова завернуться в штору.
Дальше я взяла первый попавшийся ватман и чистой стороной кверху наколола его на испещрённый уколами от кнопок мольберт. Схватила карандаш… Но не успел грифель прикоснуться к ватману, как мой наступательный порыв иссяк. Нет, я не застыла в нерешительности, не зная что именно изобразить – это-то как раз было очевидно, единственная здесь живая (исключая мою, разумеется) голова просто не оставляла мне выбора – меня испугал белый лист.
Признаюсь, раньше со мной подобного никогда не случалось, не помню я за собой такого, чтобы я боялась белого листа – да никогда. Наоборот, я всегда набрасывалась на белое пространство с целью уничтожить его белизну, похоронить эту никому ненужную девственность под слоем краски, пастели, или ещё чего-нибудь, потому что белые листы создаются для того, чтобы их пачкали… И, тем не менее, теперь я сидела в совершенном ступоре, не в состоянии заставить себя прикоснуться чёрным к белому.
– Бред какой-то, – сказала я вслух, – что же мне делать-то?
Пришлось прибегнуть к неспортивной хитрости – снять с мольберта чистый ватман и наколоть на него уже кем-то пользованный – ближе к левому краю листа виднелись тонкие линии чьего-то наброска. «Надеюсь, это не Караваджо», – подумала я.
Несмотря на это, мне стоило определённых трудов провести первую линию – руки натурально не слушались. Только сделав пару штрихов по линиям глаз, рта и оси симметрии головы, я успокоилась.
Но спокойствие моё длилось недолго. Буквально через несколько минут рисования стало понятно, что делать это я разучилась, и что всё выходит похабнее некуда. С таким трудом сделанный набросок был беспощадно стёрт ластиком. Процесс повторился снова. Затем ещё раз, и ещё, пока ватман в некоторых местах не протёрся почти насквозь.
От отчаяния я развернулась к голове спиной и быстро набросала то, что было перед глазами: вид из окна. Примерно четвёртая часть небольшой piazza [19]19
Площадь (ит.)
[Закрыть], на которую выходило окно, кусок стены дома напротив и обрывочек чистого голубого неба в правом верхнем углу поделили между собой мой ватман. Особенно я не старалась, не следила за пропорциями и прямотой проводимых мной линий; в результате получился эдакий нескладный вид из нескладного окна. Я поставила в правом нижнем углу листа дату и подпись, отколола ватман и аккуратно отложила его в сторону. К обеду к нему добавились ещё два: такой же нескладный интерьер моей студии и эскиз (на большее он не тянул) головы Вольтера, который вышел у меня похожим на актёра Владимира Басова.
После обеда меня одолела странная усталость, и я провалялась под шторой на кушетке до самых сумерек. Голова в тот день так и не проснулась. Мне, правда, показалось, что на самом деле она не спит, а наблюдает за мной сквозь опущенные ресницы, но проверять я не стала.
День закончился как обычно: небольшая вечерняя прогулка, вино и обжорство на ночь.
В среду голова была переименована в бюст. Над горшком теперь возвышались покатые, несомненно, мужские плечи, показалась грудь (так же мужская), и называть всё это головой, уже не поворачивался язык.
Бюст проснулся к обеду, когда я в очередной раз пыталась художественно испачкать белый ватман.
– Что я вижу! – сказал он. – Вы взялись за старое! Разрешите взглянуть?
Я скорчила недовольную гримасу.
– Не хотите – не надо, всё равно потом сами покажете, – бюст зевнул, – желание показать всегда побеждает стыд.
Мысленно я с ним согласилась, но промолчала.
– Знаете, Саша, лучше разверните меня правой щекой к себе, я так лучше получаюсь, – немного подумав, сказал бюст.
– Всему своё время, – ответила я строго, – а пока не вертитесь, пожалуйста.
Бюст мечтательно закатил глаза.
– Если бы вы знали, сколько раз я слышал эту фразу…
– И тем не менее.
Бюст чуть склонил голову на бок и замолчал.
Следующие несколько часов прошли в тишине. Мой натурщик был неподвижен, как окружавшие его гипсы и, даже, кажется, не моргал, так что мне оставалось только наслаждаться моментом и рисовать, рисовать, рисовать… Бюст раскрыл рот лишь когда почувствовал, что работа близится к концу.
– Хотите, я расскажу вам историю в тему, Саша? – спросил он. – Вы любите истории?
– Люблю, – ответила я, – но с некоторых пор в них не верю. Недавно мне тут рассказали одну историю – кстати, про вас – оказалась полной чушью.
Бюст сделал вид, будто он над чем-то сосредоточенно рассуждает.
– Попробую угадать… про богатую флорентийку?
– Именно.
– Ну, так это же сказка для туристов, а я хочу вам поведать трагическую историю живописца Иоахима Торпа. Будете слушать?
– Давайте, – ответила я, – люблю трагедии.
– Тогда слушайте: жил да был в семнадцатом веке во Фландрии счастливый портретист Иоахим Торп. Счастливый, потому что в отличие от большинства своих современников – живописцев ему не нужно было зарабатывать портретами себе на жизнь, напротив, он сам платил своим моделям за позирование. Отец оставил Иоахиму богатое наследство, так что его волновала только живопись.
Иоахим писал свои портреты, стремясь достичь совершенства – добиться абсолютного сходства изображения и модели. В связи с этим была у него одна странность – он никогда и никому не показывал своих работ. Всякий раз, когда Иоахим заканчивал очередной портрет, он обязательно замечал в нём какой-то изъян, срезал с подрамника холст, прятал его у себя в мастерской, и на следующий же день снова отправлялся на штурм «идеального» портрета.
Иоахим всю жизнь посвятил живописи – трудился по много часов в день и добился поразительных высот в искусстве портрета. И вот однажды, будучи уже глубоким стариком, он закончил портрет одной молодой девушки и впервые не заметил разницы между лицом девушки и его копией на холсте. Иоахим решил, что его час настал, и первый раз в своей жизни позволил модели зайти за мольберт.
Девушка посмотрела на холст и так звонко расхохоталась, что бедный Иоахим чуть не оглох.
– Кого вы, уважаемый господин Торп, здесь изобразили? – спросила девица сквозь смех. – Да она больше похожа на торговку рыбой с соседней улицы, чем на меня!
Иоахим разрыдался. Он понял, что так и не достиг идеала, а следующей ночью во дворе своего дома сжёг все свои холсты, включая последний, потом привязал к шее тяжёлый камень и бросился в колодец. Так от великого портретиста не осталось ничего, кроме этой истории.
Бюст склонил голову в небольшом поклоне, давая понять, что рассказ окончен.
– Неужели для него было так важно мнение той девки? – спросила я.
Бюст усмехнулся.
– Вы не поняли, Саша. Иоахим к тому времени был уже стар и очень плохо видел. А мораль такова: не уподобляйтесь несчастному Иоахиму. Покажите работу.
«А, была – не была!» – подумала я, отколола ватман и на вытянутых руках поднесла к бюсту. Тот бросил на мои художества быстрый и цепкий взгляд.
– Так, – сказал он серьёзно, – первое: нарушены пропорции лица – очень большое расстояние от кончика носа для линии бровей; второе: левый глаз должен быть немного меньше правого, поскольку он при повороте головы находится от вас дальше; третье: губы слишком тонкие; четвёртое: белки глаз чересчур высветлены. А в целом… – бюст сделал долгую паузу, – небезнадёжно. Да, ещё: штриховку поувереннее.
Бог мой, как мне стало легко! Мнение близко знакомого с Караваджо товарища чего-то стоило!
На радостях я купила в лавке внизу самого дорогого вина для бюста и чуть подешевле себе. Вернувшись домой, я быстро выдула свою бутылку почти без закуси и уснула прямо за столом.
На следующий день я уже рисовала торс, который оказался очень даже неплохо сложён, совершенно в моём вкусе: разумная середина между худым качком и «суповым набором». Особенно радовали узкая талия и квадратики пресса на животе.
Факту наличия у него рук я поначалу не придала особого значения, но когда торс попросил вымыть его, крепко задумалась. Проблема заключалась в том, что он теперь мог меня схватить, если бы захотел.
– Вы можете их связать, если боитесь, – сказал торс, когда я подошла к нему сзади с намыленной мочалкой в одной руке и тазиком тёплой воды в другой.
– С чего вы решили, что я вас боюсь? – подчёркнуто безразлично спросила я.
– Иначе бы вы подошли спереди.
Я про себя улыбнулась: «Угадал, зараза». Затем прижала мочалку к его спине между лопаток и чуточку надавила. Тонкий мыльный ручеёк заструился по позвоночнику вниз. Торс немного выгнул спину и издал тихий, невнятный звук, вероятно означавший, что ему приятно. Я осторожно повела мочалкой дальше к пояснице.
– О-о-о-х, как хорошо… – застонал торс, – как же мне сейчас хорошо… умоляю, Саша, трите сильнее…
«Балдеешь, плесень», – подумала я и принялась истово драить его спину, плечи и шею сзади, для устойчивости положив левую руку ему на плечо. Оно оказалось на ощупь тёплым и очень нежным, как у ребёнка. Именно в этот момент я впервые призналась себе, что он волнует меня как женщину.
После мытья торс самостоятельно вытерся полотенцем, которое я принесла ему из ванной, и мы приступили к работе. Начали с того, что торс минуты на две замирал в какой-нибудь нелепой позе (в основном хитро заламывая руки и выгибаясь), а я делала стремительные наброски. Каждый такой набросок потом рассматривался и разбирался буквально по косточкам.
Я слушала моего натурщика (и по совместительству учителя) крайне внимательно, а некоторые его фразы записывала на уголок ватмана. Поймите меня правильно, дело было не в какой-то там особой значимости этих фраз, просто с какого-то момента мне стало казаться, что его устами со мной говорит совсем другой человек (сами понимаете кто). Бред, конечно, но мне тогда так казалось.
К обеду упражнения с быстрыми набросками были закончены. Я предложила сделать перерыв, а потом продолжить. Торс согласился. Я спустилась вниз, несколько раз, словно зек, обошла по периметру ту самую piazza, которую рисовала позавчера. Настроение моё от контакта со свежим воздухом значительно улучшилось, и я поспешила назад в мастерскую.
Торс ожидал меня в несколько странной позе. Руки его были сцеплены в замок и лежали на затылке (отчего он стал несколько похож на атланта), глаза прикрыты, а на лице творилось такое глубокомысленное выражение, будто ему только что открылась самая главная на свете истина, и от осознания этого факта его не по-детски прёт. Я заняла своё место у мольберта и поспешила перенести всё это на бумагу.
За три с небольшим часа позирования торс не шелохнулся и не проронил ни слова. Молчал, будто вообще не умел говорить. Я уже заметила эту особенность его поведения, что вспышки разговорчивости у него чередуются с периодами полного безмолвия, и поэтому нисколько не удивилась.
В тишине мне работалось прекрасно. Всё практически с первого раза получалось так, как я задумывала. Единственной проблемой было выгонять из головы эрмитажных атлантов, которые слетались туда при каждом взгляде на торс. Когда работа подходила к концу, я заметила, что добилась уже основательно забытого эффекта, когда картинка на ватмане проявляется, как изображение на фотопластинке в проявителе – неравномерно, но фотографически точно.
Что до моего натурщика, то за всё это время он так и не подал признаков разумной жизни. Примерно к исходу четвёртого часа я поняла, что он спит.
«Видимо, нашёл, где кнопка», – подумала я и не стала его будить, чтобы показать законченную работу.
Причинное место показалось в пятницу. Размеров оно было самых обычных, я бы даже сказала, средних, но взор всё равно притягивало. Пару раз перехватив мой взгляд, теперь уже фигура оторвала от искусственного плюща, увивавшего полку с восковыми фруктами, лист покрупнее, сдула с него пыль и прикрылась.
– Думаю, сегодня стоит попробовать меня сангиной, – сказал она. – Вы найдёте её в шкафу.
Я послушно отыскала в шкафу картонную коробочку с потрескавшимися коричневыми мелками. Мне вспомнился мой недавний страх перед белым листом; я улыбнулась. Белый лист теперь не пугал – дёргал за какие-то ниточки, щекотал нервы, но страха или паники не было. Он снова был окном в другой мир, который можно было от начала до конца создать самой, а потом сохранить, разрушить, сжечь… поверить в него, влюбиться…
Я взяла небольшой кусочек сангины, повертела в ладони и уверенно рассекла белизну ватмана первым штрихом.
Спустя два часа, фигура вертела в руках мой ватман.
– Вы сделали то, что сделали, а сделали вы немало, – нараспев произнесла она, разглядывая собственное изображение. – Воплощённая красота!
– Вы это о себе или о работе? – уточнила я.
– И о том, и о другом, Саша, – снова нараспев сказала фигура, – ноги вот только коротковаты.
Дальше последовал уже знакомый мне приступ хохота.
Когда я ложилась спать, то уже точно знала, что это произойдёт именно сегодня, и что никакого завтра у нас уже не будет.
Я легла на кушетку лицом к стене. Думала, что ни за что не усну, но, разумеется, заснула, как сурок. Мне приснился короткий, но яркий сон, будто я гуляю по какой-то художественной выставке и с ужасом понимаю, что все выставленные картины мои. Последнее, что я запомнила – это висящий на стене среди прочих портрет головы в образе медузы Горгоны, точно такой же, как в Уффици.
Меня разбудили шаги. В первый момент я очень испугалась, но довольно скоро взяла себя в руки. «Бояться нечего, – повторяла я про себя, – он мне ничего плохого не сделает», но это не особенно помогло – меня всю трясло.
Шаги приблизились ко мне (я не нашла в себе сил отвернуться от стены, только ещё крепче зажмурила глаза) и прошлёпали мимо, в ванную. Скрипнула дверь, послышалась длинная фразу на итальянском – видимо, ругательство – и через пару секунд зашумела вода.
Скажу прямо, в тот момент со мной творилось что-то странное. Я как бы состояла из двух, нет, из трёх частей: первая была деревянной и ничего не соображающей от страха; третья – горячей, даже жаркой от (и для) того мужчины, который мылся в ванной; а вторая, та, что в середине – спокойной, как последняя в Союзе потушенная доменная печь. В связи с чем, у меня в голове приключился примерно такой диалог:
– Что же мы делаем? – завопила первая. – Надо бежать отсюда!
– Без него я никуда не уйду! – отозвалась третья.
– Лежим спокойно, бабы, – отрезала вторая. – Пока всё пучком…
Вода шумела ещё минут десять. Наконец, заскрипел кран, и на секунду всё стихло.
К этому моменту третья часть меня окончательно заборола первую. Я перевернулась на спину, немного приподнялась на локтях и в ослепительно-ярком после темноты дверном проёме увидела полностью обнажённого юношу с жирной, переброшенной через плечо чёрной чуть растрёпанной косой.
Юноша был прекрасен настолько, что мне даже было больно на него смотреть. Разумеется, я и раньше понимала, что он красив, как чёрт, но вся глубина этой его красоты стала понятна мне только сейчас, когда он, так скажем, полностью обрёл человеческий облик.
«Вот он, идеал человеческой красоты, – подумала я, – прекрасный юноша с девичьей косой через плечо».
Он не спеша подошёл ко мне. Присел на краешек кушетки. Нащупал в темноте мою ладонь (я вздрогнула) и положил между своих. Его карие, почти чёрные глаза непонятным образом светились.
– У нас осталась одна ночь, Саша, – сказал он, – вы понимаете, о чём я?
В ответ я, кажется, кивнула, но точно утверждать не берусь.








