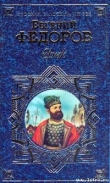Текст книги "Хождение встречь солнцу"
Автор книги: Владислав Бахревский
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 8 (всего у книги 10 страниц)
Анкудинов
Анкудинов заговаривал зубы Попову.
– Федот Алексеев, вот и ты меня зовешь разбойником. Сам знаю, по молодости нашумел лишнего. А ты меня не суди, как все судят. Понять сумей.
– Что ж тебя понимать? Грабил?
– Грабил.
– И сказ весь!
– Не весь. Ты посмотри, Федот Алексеев, что делается-то кругом. Мне тридцати нет, я не дурак. Я в любом месте приказчиком могу хорошо быть. А кто меня по моим годам приказчиком поставит? Дежнев, враг мой, но я о нем так скажу – головастый мужик. Идет он приказчиком, а весь чин его – простой служилый. Ему бы десять лет назад атаманом быть, а теперь бы полковником на Москве… Тянул бы я лямку, как и все, тоже бы своего дождался, и атаманского чина и боярским бы сыном был, ждать тошно. Не могу я ждать, Федот Алексеев. Мне сегодня подавай богатую жизнь, а завтра меня, может, и не будет, завтра меня, может, чукчи убьют или море утопит.
– Не дело говоришь, Герасим. Приказчиком хочешь быть, кричишь – сумеешь, а сумеешь ли? Сумеешь ли, как Дежнев, иноземцев не огнем взять, а миром?
– На мир я чихать хотел. Иноземцы передо мной трепетать должны. Скучно смотреть, как Дежнев обхаживает их. Сказки, говорят, каждый вечер слушает. Он бы еще богу ихнему молился.
– Зазнаешься ты, Герасим, заносишься. Назад нечего смотреть, ты смотри, чей коч последним о камни вдарит.
– Мой, что ли? Я свой коч сам покупал, сам вожу и на Колыму приду на нем же. Попомни мое слово, Федот Алексеев.
– Добро бы, если так…
– За Дежнева ты держишься, Попов. Зря. Со мной бы тебе и веселей жилось и богаче. Потрясли бы мы этих чукчей, сходили бы на острова, зубатых бы людей потрясли. Товаров своих не растратили, а о прибыли нашей сто лет разговаривали бы…
– Прощай, Герасим. К людям своим спешу. Запомни только, богаче земли все равно не будешь, а за богатство на крови кровью платят, на слезах – слезами.
Герасим плюнул в сердцах и пошел прочь.
Федот Алексеев рассказал Дежневу об этом разговоре, и Дежнев не пошел к сказочнику; как стемнело, прокрался к анкудиновскому кочу, втиснулся возле кормы, между бортом и каменистым берегом, и слушал. Вели разбойнички разговоры степенные, и думал Семен, что зря морозил бока, но Герасим кликнул вдруг в казенку Пятко Неронова. Нашептывал ему страшные слова. Велел пробраться ночью на коч Дежнева и зарезать Семена до смерти. Награды Анкудинов давал Неронову сто рублей деньгами да столько же соболями или рыбьим зубом.
– А откажешься, али струсишь, али переметнешься, убью тебя, Пятко, с великими мучениями, – досказал Герасим свою сказку, – рвать велю тебя клещами, а потом в океан брошу.
Пятко поперек и слова не сказал.
Семен выждал, как пошибче загалдят разбойнички, выбрался из укрытия и ушел к своим людям. Спать он отправился на коч, как всегда, в одиночку, только перед этим послал туда тайно Митяя. Леживо приготовил Семен на обычном месте, только не для себя, а для куклы. Сам в другом углу затаился.
Ночью кто-то тихо перелез через борт и пошел по палубе на корму, где стояла казенка для приказных людей и где спал теперь Дежнев. Дверь отворилась бесшумно. Явилось вдруг пятно посветлей, а на нем темное. Мгновение вор постоял, прислушиваясь и привыкая к новой темени. Потом шагнул к лавке, на которой спала кукла. Нащупал тулуп, распахнул, и тут вора, бедного, так старательно двинули по затылку, что рухнул он на колени, а потом боком повалился на пол.
– Ты не железом его? – спросил Дежнев из своего угла.
– Да нет, кулаком.
– Живой?
– Пощупаю сей миг. Теплый.
– Дышит?
– Да как будто не дышит.
– Вот ведь сила-то!
– Ничего, Семен Иванов, бог даст, отойдет. Жалеть-то его вредно. Спящего человека хотел решить жизни. Нехорошо это.
– Нехорошо, Митя.
– Так чего, спать, что ли, будем?
– Можно и соснуть.
– А его куда?
– А его, Митя, отнеси-ка ты тихонько Анкудинову. Ихний ведь он. На своем коче скорей и отдышится.
У Анкудинова не спали. Герасим жег на железном листе большой огонь. Чтоб отвести от себя разговоры, пригласил на свой коч людей Федота Попова и угощал, чем мог. Пел, пил, а сам тревожно прислушивался к ночи. Наконец раздались осторожные, тяжелые шаги. Анкудинов не выдержал и встал. Шаги затихли. Гости посмотрели на Герасима и тоже насторожились.
Вдруг над бортом появилась фигура, бережно положила на палубу Пятко Неронова.
– Кто? – закричал Анкудинов.
– Я это, Митяй!
– Кого принес?
– Пятко вашего. Хотел он Семена спящим зарезать, а я его стукнул кулаком маленько, а он чего-то не дышит.
Казаки вскочили со своих мест, схватились за оружие.
Кто-то окатил Неронова водой, он зашевелился.
– Повесить мало! – разъярился Герасим. – Да я его сам на куски разорву.
Выхватил из-за пояса кинжал.
– Стой! – сказали из темноты. – Не он убивал. Его рукой убивали.
На коч поднялся Дежнев.
– Митя, возьми-ка опять Пятко. Отнеси к нам. Там ему спокойней будет.
Ни слова не возразил Анкудинов.
Море затихало. Все ленивее бросало оно просоленную свою требуху на каменные берега, слизывая все ту же каменную, невкусную еду. Но оно надеялось на добычу и пожирнее и все набегало, набегало.
Чукчи, довольные великой усладительной водой, невиданной красоты одеждами и бусами, вышли всем стойбищем на берег и, завораживая море, начали свою самую древнюю игру в прыжки.
Прыгун становился на шкуру. Шкуру подхватывали несколько человек, раскачивали и подбрасывали на ней прыгуна. А тот должен был устоять.
Ни один мужчина так и не смог удержаться. Все падали. Тогда вышла дочь Эрмэчьына, встала на шкуру и, как бы высоко ни бросали ее, ни разу не упала. Когда люди утомились, девушку опустили на землю. Она сошла со шкуры и, не сводя глаз с Дежнева, подошла к нему и обнюхала.
– Русский косматый человек! – сказала она. – Я не упала ни разу, и, значит, море утихнет. Значит, откроется тебе далекая морская дорога. Пусть будет удача тебе.
Она разрумянилась, черные глаза ее, будто спелая черемуха, блестели.
– Спасибо тебе, девушка, – сказал Семен. – Спасибо, что постаралась для нас. А если впрямь море ты этим успокоила, все перед тобой на колени встанем. Ведь правда? – ища поддержки, повернулся к товарищам, и те, пряча смешки в бороды, сказали:
– Истинно!
Тревожно было Дежневу. Не спалось ночью. И только сомкнул глаза, приснился Пичвучин. Сидит будто Семен на берегу реки. Не здешняя река, не чукотская. Берега зеленые, дно у реки – белый песок. Через всю глубину видно, что делается в рыбьем царстве! И видит вдруг Семен – плывет по реке крошечный Пичвучин. Плывет саженками. Машет, что есть силы, а до берега далеко. А за Пичвучином гонится голавль красноперый. Да был бы голавль, а то так – голавлишко. Плавает, нахал, не торопится, ест Пичвучина по малым частям. Один тор-басок стянул и жует. Пичвучин плывет, плывет, а пятка у него голенькая, посинела от холода, того и гляди судорогой ножку сведет. А голавль уже другой торбасок стягивает.
Забросил Семен удочку промеж голавля и Пичвучина. Червяк на крючке красный, живой, ворохается. Голавль хвать его. А Семен – дерг. Красные перышки на красном солнышке куда раскраснелись!
Бросил Семен голавля в траву. Смотрит, где Пичвучин, а он уже на берегу.
– Спасибо тебе, бородатый человек, – говорит, – ты меня спас, и я тебя не забуду. Спокойного моря ждешь, а море-то уже спокойно.
Вскочил Семен, глаза протер, слушает. Не шумит. Выбрался из казенки – спокойно на океане. Месяц ущербный горит. Посреди неба – кол-звезда, Полярная. Чукчи рассказывают, что под ее жилищем дыра в другой мир. Изба у кол-звезды ледяная, на коньке – фонарь. Виден огонь того фонаря в обоих мирах.
– Ну и сон! – обрадовался Семен и пошел к стойбищу будить людей. – Хватит спать. Целую неделю спали. За ночь и утро можно до островов зубатых людей дойти, поторговать быстро и – на Анадырь-реку.
Идет Семен открыто, не стережется, и вдруг голос дикий – так и сел.
Стоит возле китовой башни голый человек, запрокинул голову к месяцу и шепчет страшным шепотом:
– О луна! Я показываю тебе части своего тела. Прояви сожаление к моим гневным помыслам. Ни одной тайны не скрыл я от тебя! Помоги мне против бородатых людей! Они притворяются добрыми, но они злобны. Они притворяются простаками, но они хитры. Помоги мне, луна!
Это был шаман. Шаман затанцевал свой танец, упал от усталости на землю и опять, подставляя искаженное яростью лицо луне, шептал заклинания.
– Тому, кто подвергнут моему гневу, я говорю: «Ты не человек, ты – тюленья шкура!» Креветку призываю: «Постоянно скреби его и пробей его насквозь. Столь велик мой гнев, столь велик твой гнев! Скоро покончив, скоро истреби, еще до наступления времени бури и снега!»
Шаман пополз на четвереньках вокруг китовой башни. Потом поднялся и, шатаясь, ушел в свою ярангу.
Семен выждал, поднялся с земли. Легкое настроение исчезло.
Отошли перед рассветом. Первым Дежнев, за Дежневым Попов, за Поповым Анкудинов. Провожали кочи всем стойбищем. Эрмэчьын стоял с огромной головешкой в руках и размахивал ею, словно хотел осветить русским путь.
Плыли.
– Что-то я Анкудинова не вижу, – сказал Пуляеву Дежнев.
– А ну его! Опять дурит. Небось решил один на Анадырь идти. Обогнать захотел.
– А если обгонит?
– Не обгонит.
Далеко в море были кочи, когда с Большого Чукотского Носа долетел гром пищалей.
– Анкудинов! – Семен схватился за голову. – Что он наделал, проклятый вор!
А там, где совсем недавно горели дружеские огни, пылали зловещие пожары. Анкудинов грабил и жег яранги.
На Москве
Веселилась Москва. Царь Алексей Михайлович, молодой, сильный, проснулся в то утро в таком легком и ясном счастье, и такое утро выпало синее, морозное, без ветра, такое здоровье лилось от румяного солнца и голубого снега, что невозможно было плохо подумать о чем-то, сделать нехорошее или просто зряшное.
Алексей Михайлович поехал смотреть медведей. Медведи были редкие, белые, их привезли из Мезени, и вся Москва сбежалась глядеть потеху.
Против Кремля, на реке, расчистили от снега лед, оградили место острыми деревянными кольями и пустили трех медведей, а на медведей собак.
Господи! Смеху-то было. Собаки лают, бросаются, а скользко – прыгнет и на всех четырех лапах медведю в пасть катится. Медведь на дыбы, лапой хвать и тоже от размаха-то поехал в другую сторону.
Народ устал от смеха. Кто в снег сел, рукой отмахивается, хоть помирай. Кто икает без остановки. Уж и не на медведей глядят люди, друг на дружку, и только животы поддерживают, чтоб не лопнуть.
Царь тоже посмеялся. Хорошо, когда в царстве смеются. Потом другую потеху глядел.
Алексей Меркульев вышел на бой с бурым. В буром-то было пудов двадцать пять, а Меркульев тоже человек строгий – двадцатый год с медведями бился, потешая царей.
Медведь был голоден и разъярен. Люди, окружившие частокол, улюлюкали, тыкали медведя в бока острыми палками.
Меркульев хорошо поел утром, и теперь, когда прошло время, еда перешла в силу. Он был уверен в себе и расчетлив. Раздевался возле царского места. Сбросил шубу, остался в кумачовом просторном кафтане, в кумачовой шапочке на стриженой голове. Рукавицы снял. За широкий пояс сунул широкий нож, взял рогатину, попробовал ее на излом, поклонился царю, крестом грудь осенил и вошел к медведю.
Медведь косолапо носился по кругу, замахиваясь на обидчиков. Теперь он остановился, ноздрями попробовал воздух и взревел, вытягивая длинную шею и помахивая перед мордой когтистой волосатой лапой. Он понимал, что от него хотели злые люди, укрывшиеся за частоколом, и он развернулся на Меркульева и заревел на него, не грозя, а скорее упрашивая не послушать злого умысла. Но человек мягко стоял на ногах и строго смотрел в черную медвежью пасть, ожидая нападения. Вольно покачивая огромным телом, медведь побежал на Меркульева, остановился перед ним и медленно, вырастая в гору, поднялся на дыбки, чтобы сверху, всей тяжестью рухнуть на человека и кончить стыдное представление. И когда осталось ему подняться самую малость, Меркульев сделал выпад вперед. И когда медведь рухнул, то рухнул сердцем на железную, каленную в жарких печах рогатину и, не в силах удержать свое великое тело, падал до тех пор, пока рогатина не прошла сквозь сердце, разорвав его на части. Медведь напоследок махнул великанской лапою, но Меркульев присел, и только красная шапочка, зацепившись за когти, осталась у медведя, и он все держал ее, лежа на примятом снегу и кося черным глазом на дурацкий помпончик. Может, и сор-вал-то он ее потому, что люди в честь царя стояли без шапок, один боец не как другие.
Все возрадовались, когда медведь умер, а царь сбежал с золоченого своего места и наградил Меркульева двумя рублями и велел поить его допьяна.
Меркульев на радостях бухнулся на колени, а потом пил бесплатно и безмерно в кабаке и на коленях полз домой через Москву и дополз, потому что привык и убивать медведей и без меры пить.
Царь поехал между торговыми рядами. Торговые ряды зимой устраивали на льду Москвы-реки. Царь ехал в длинных санях. Два ближних боярина с шапками в руках стояли на запятках, два стольника у ног на полозьях, по сторонам шли стрельцы с пищалями, позади саней – придворные. И все без шапок, в любой мороз.
По торжищу вели человека. Он был обвешан дохлыми собакой, петухом и кошкой. Палачи рвали время от времени клещами его тело, и человек катался по снегу, кровавя его, тонко и долго выкрикивая стон.
– Что он сделал? – спросил царь.
– Убил мать, – ответил ближний боярин.
– Топить ведут? – опять спросил царь, хотя знал ответ наперед.
– Топить ведут.
Царь перекрестился.
– Я милую его, – сказал он тихо, радуясь своей великой власти и своей доброте. – Велите повесить, бедного. Холодно в воде-то.
Загрустил. Грустно, когда люди режут друг друга, душат. А ведь как хорошо – жить в любви, в согласии, в труде, в помыслах о боге. И услышал вдруг царь пение. Серебряно, будто лето на дворе стояло, пел кто-то молодой, души чистой:
Господи, силою твоею
возвеселится царь
и о спасении твоем
возрадуется зело!
Голосу вторили хрипло, обмороженно.
Царь велел остановиться перед певцами. Пели слепые странники. Одеты они были худо, только старик, закутанный в женский платок, – совсем воробышек – был в новеньких валенках.
Кто знает, как заприметили слепые царя, но запели они молитву, сложенную в его честь.
– Боже единый и премудрый, и страшный и превеликий, превыше небес пребывающий, живущи в свете неприступном в превелицей, велепней и святой славе величества своего! Тобою, господом, Христом избранному и почтенному и превознесенному и возлюбленному и святым елеем помазанному, великому государю нашему царю и великому князю Алексею Михайловичу всея Руси, самодержцу и многих великих государств и земель, на востоце сияющих, и на севере пребывающих, и к югу подлежащих, и к западу касающихся, пребывати ему во святой твоей воле и творити волю твою благу и благоугодну и совершенну.
Опять заливался серебряный голос, но как царь ни всматривался в слепцов, не мог угадать, чей этот голос.
– Кто поет благолепно? – спросил Алексей Михайлович.
Слепцы замешкались, потом разомкнули свое кольцо, и царь увидел горбатенького. Был он молод, пригож лицом и бос.
– Как же голос твой на таком морозе сберегается? – удивился царь.
– Милостью божьей.
Отрок поднял на царя синие глаза, и тот чуть было не вскрикнул.
– Да не Василием ли зовут тебя?
– Васькой.
– А не ты ли коня мне своего отдал?
Василий встал на колени, ткнулся лбом в снег.
– Спасибо, государь, царь и великий князь всея Руси, Алексей Михайлович, что не забыли меня, ничтожного.
– Тебе спасибо! Искал я тебя и знаю то зло, которое учинилось. Отведите его в Кремль, к моим бахарям и домрачеям, и старика возьмите, – приказал Алексей Михайлович слугам. – Сколько лет ему?
Дед, трудно ломая колени, упал перед царем.
– Сто лет, батюшка великий и премудрый…
– Как хорошо! Он и деда моего застал, Федора Ивановича, и прадеда моего великого. Пусть он мне вечером расскажет свои сказки… А всех слепцов накормить и напоить вином бесплатно.
Слепцы кланялись, а царь, творя добро, следовал дальше.
– Хорошо-то как царем быть! – сказал он ближнему своему боярину Василию Ивановичу Стрешневу. – Сколько ведь за день можно доброго людям сделать!
– Истинно, государь!
– Слава тебе господи! Слава тебе господи! – Алексей Михайлович смахнул с пушистых ресниц радостные слезы, и тут ему доложили: приехал в Москву митрополит Новгородский Никон.
– Вот ведь! – царь расплакался от счастья. – Вспомнил господа нашего бога, и Никон объявился. Святой, строгий и любезный брат мой, господу человек угодный. В Кремль! В Кремль!
В день святого Зосимы и Савватия
20 сентября 1648 года бешеное море подхватило коч Герасима Анкудинова, вознесло над каменным берегом и уронило. Коч разломился, но люди уцелели, не повезло только одному – умер.
Дежнев и Попов подошли к берегу.
Высадились.
Люди Анкудинова из обломков коча уже успели запалить костер, теснились вокруг огня, жалкие, мокрые.
Герасим был один. Он стоял лицом к морю, без шапки, слюдяной от застывшей на одежде воды.
Дежнев молча постоял у костра. Люди Анкудинова глядели на него с надеждой и страхом.
– Пойдете ко мне на коч, – сказал Дежнев.
Ожили, зашевелились, заулыбались.
Семен направился к Анкудинову. Герасим повернулся к нему лицом.
– Ликуй, Семен! Судьба на твоей стороне… Пожалей меня, Семен! Пожалей!
Слезы текли из его глаз, леденели, но голос был тверд.
– Пойдешь на моем коче, Герасим.
– Не пойду на твоем коче, Семен. Или мало тебе моего позора и моей нищеты? – Рухнул на колени. – Радуйся!
– Дурак.
Герасим вскочил.
– Не дурак. Да что вы знаете об Анкудинове? Что вы знаете о его помыслах, о его мечтах? Это сердце мое разбилось, Семен! Это не коч, это я умер.
– Пошли греться, – сказал Семен.
У костра Анкудинову дали малахай, рукавицы. Он поискал глазами, увидал Попова.
– Возьми меня к себе, Федот.
– Иди, места хватит.
– Бог наказал нас, – сказал Иван Пуляев. – Сегодня Зосима и Савватий – наши морские покровители, а мы и молебна не отслужили.
Стали молебен служить. Молитвы вместо священника читал Дежнев, а потом Пуляев рассказывал о чудесах святых соловецких отцов.
– Плыл один человек по морю. Плыл, да и сверзился с ладьи. Ладья ушла, а он тонуть стал. Так бы и утонул, но вспомнил святых отцов наших Зосиму и Савватия и помолился им. Вдруг слышит голос: «Протяни руку». Протянул руку и почуял твердь. Открыл глаза и видит: плывут то ли по воде, то ли над водой два пловца и его за собой тянут. Тут объявился на море корабль. Чудесные пловцы исчезли, а корабельщики увидали тонущего и спасли.
Костер из обломков коча высоко поднимался в небо. Наварили еды, поели хорошо. Загрустили и вспомнилось родное.
Подуй, повей, погодка,
Погода, эх, да не маленькая.
Ах, да ты, ох, да ты раздуй, раздуй,
Ах, развей да ты, ой, рябинушку.
Раздуй, ой, да ты кудрявенькую…
Хмельной от горя, развеселился вдруг Герасим Анкудинов. Песни пел лихие, так пел, что сам же и плакал.
Ах ты, мать моя,
Злая мачеха,
Что ты бьешь меня,
Что ты мучаешь?
Ты не бей меня,
Не позорь меня!
Ах, подруженьки,
Вы не слышали,
Как в осенну ночь
В темной горнице
Мать зарезала
Добра молодца.
Деньги вынула,
Полы вымыла…
Я пойду к нему,
Полечу к нему!
Наряжу себя
По-бывалому:
В косу длинную
Ленту алую.
Вон и месяц уж
Взошел на небо,
А в сыром бору
Соловей запел.
Что ты бледен так
В белом саване?
Обними меня,
Приголубь меня!
А потом порвал на рубахе ворот Герасим, совсем веселое запел. Пел, пальцами прищелкивал, глазами поигрывал, зубами смеялся, а казаки, на него глядя, по-бабьи всхлипывали. Дежнев и тот не удержался, а Федот Попов вторил Анкудинову. Хорошо у них получалось.
И вдруг просвистела, сломала ту песню злая стрела. Стрела ударила Попову в грудь. Повалился он, а казаки подхватили оружие и поворотились к врагу.
На русских наступали чукчи. Вел их в бой друг Семена Эрмэчьын.
Вдарили казаки из пищалей. Упал Эрмэчьын, а остальные убежали. Когда Семен подошел к Эрмэчьыну, тот лежал неподвижно, как убитый, а кровь текла из ноги. Семен встряхнул его за плечи.
– Вставай! Завязать ногу надо, а то кровью изойдешь.
Чукча открыл глаза.
– Убей меня! Я для тебя стал дичью.
– Дурака не валяй, Эрмэчьын.
Тот вдруг взвизгнул от ярости.
– Ты меня взял в плен, ты поразил мои ноги дьявольским огнем, я не хочу жить. Не мы первые напали на вас. Мы вас проводили с почестями. А что сделали вы? Нам ничего не надо от вас. Наша еда ходит вокруг нас на ногах. Наша еда растет, пока мы спим. А ты послал своего дурного человека жечь яранги. Я не хочу жить. Убей меня!
– Не буду я тебя убивать, Эрмэчьын. Кликни своих, они помогут тебе уйти. Мы не будем стрелять.
– Ты не хочешь меня убить, тогда я убью себя сам. Я уйду из жизни так же, как ушел мой отец.
Он выхватил из-за пояса костяной нож и ударил себя в живот. Рана была не смертельная, но Семен слышал от чукчей, что если кто-то из них произнес желание вслух – желание становится законом. Не выполнить его нельзя. Эрмэчьын пожелал умереть, так же как умер его отец, и он должен был умереть и в тех же мучениях.
Семен пошел прочь. Оглянулся. Эрмэчьын обвязал горло ремнем и душил себя.
– Господи! – перекрестился Дежнев.
И снова свистнули стрелы. Семен едва успел отбежать к своим, чукчи наступали с трех сторон. Никакая пальба, никакие смерти, казалось, не в силах были остановить их. Они падали, мертвые и раненые, но все бежали и бежали на русских. И русские дрогнули. Подхватив раненых, они отступали на кочи, к которым уже подобралось человек с полсотни копейщиков.
На море не унималась буря, но пришлось уйти спешно под градом ледяных брызг, под градом костяных стрел.
Море обрадовалось кочам, опутало их белой паутиной своих грив и понесло в разные стороны: Дежнева вдоль берега, к югу, Попова в открытое море. С кочем Дежнева море играло десять дней, а потом устало и выбросило его на берег. Это случилось утром первого октября. Видно, иссякла волшебная сила кабарги, которая ела смолу и которая так долго берегла мореходов от невзгод.
На землю, засыпанную снегом, ступило двадцать четыре землепроходца. Они знали, что море сыграло с ними и еще одну злую шутку: пронесло мимо заветной Анадырь-реки.
Ни Попова, ни Анкудинова не видал больше Дежнев. Спустя несколько лет отбил он в бою у корякских племен жену Федота Попова. Рассказала она, что Попов с Анкудиновым пристали к берегам Камчатки. Муж и многие другие его товарищи погибли от цинги и в боях, а кто уцелел, сели в лодку и поплыли в отчаянии куда глаза глядят, может, и до Китая добрались.
Не верилось Дежневу, что погиб его хороший товарищ. Смотрел пронзительно в черные глаза Федотовой жены, ложь искал в них и не находил.