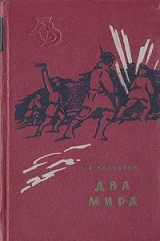
Текст книги "Два мира"
Автор книги: Владимир Зазубрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Цепь железными, пылающими волнами катилась по лугу.
12. ПОЧЕМУ ОНИ ЗЛЯТСЯ?
Солнце уже садилось, когда со стороны красных показались густые цепи и несколько батарей одновременно открыли беглый огонь по белым. Красные шли уверенно, смело. Барановский не заметил, как цепь противника быстро накатилась на его роту. Офицер с удивлением смотрел на наступающих. Подпоручик Барановский только вторые сутки был в первой линии и к концу дня стал плохо разбираться во всем происходящем вокруг, почти потерял способность критиковать свои действия. Рота молчала, ожидая приказаний командира. Многие солдаты с недоумением оглядывались на молодого офицера, удивлялись, почему он не приказывает стрелять. Красные наступали с сильным ружейным и пулеметным, огнем. Перебегали поодиночке. Огромная рука тянулась к окопам N-цев, упруго дрожала всеми мускулами. Цепь наступающих приближалась. Барановский стоял за цепью и смотрел то на красных, то поднимал голову кверху и наблюдал, как падали с верхушек деревьев сбитые пулями ветки и листья, сыпалась кора. Одна пуля, тонко пропев, впилась в большую сосну, совсем близко от левой щеки офицера. Подпоручику показалось, что кто-то горячо и быстро дохнул ему в лицо. Он вздрогнул, перевел свой взгляд на цепь противника. Она была совсем уже близко. Офицер видел, как люди в зеленых гимнастерках, в черных рубахах и брюках навыпуск, в рыжих деревенских шляпах и фуражках со звездами на околышах заряжают винтовки, работают затворами, прицеливаются, пускают в его роту пулю за пулей.
«Стреляют. В нас стреляют, – думал Барановский, и почему-то это ему казалось очень странным. – Ведь они такие же люди. Ну вот совсем как мои солдаты», – носилось у него в голове. И он стоял, глубоко засунув руки в карманы шинели, напряженно вглядывался в лица наступающих, искал в душе ответа на мучительный вопрос, почему люди с такой злобой бьют людей. Что-то связывало волю офицера, он никак не мог отдать приказание стрелять. Взводный офицер, пожилой прапорщик, подбежал к нему.
– Господин поручик, разрешите открыть огонь. Противник совсем рядом!
Барановский точно проснулся.
– Ах, огонь, да, да, огонь, – растерянно забормотал он.
Прапорщик побежал к своему взводу, на ходу крикнул:
– Часто начинай!
Рота открыла огонь. И опять Барановскому показалось, что кровельщики заколотили молотками по крышам, а воздух стал душным и тяжелым, как на фабрике или заводе, вблизи машин, больших, стучащих, горячих, дышащих огнем.
Наступающие кузнецы стучали молотками, раздували огонь, в неудержимом порыве шли вперед.
– Ура-а-а!… Ура-а-а!.. А-а-а!
Рука загибалась, сталью мускулов охватывала, жала N-цев. Дрожащий, звонкий голос сквозь треск выстрелов прорвался с правого фланга:
– Взводный! Обходят нас! Обходят!
Цепь сорвалась и побежала. Барановский в оцепенении стоял на месте, смотрел, как бежали на него наступающие с винтовками наперевес и с лицами, перекошенными злобой. Подпоручик опять спрашивал себя и удивлялся: «Почему они так злятся? Откуда такая злоба?»
– Коли! Коли его – офицер! – донеслось до слуха Барановского, и совсем близко от себя он увидел двух красноармейцев, с тонкими, как жала, штыками. Точно кто повернул офицера кругом, толкнул в спину, и он побежал легко и быстро, как молодой олень, совершенно не чуя под собою ног. Сзади, в вечерних сумерках, вспыхивали выстрелы, и пули жужжали близко-близко от лица, обдавая его быстрым, коротким, горячим дыханием. Барановский бежал и видел, как впереди него и слева и справа мелькали темные фигуры солдат его роты, видел, как днем, что многие из них торопливо падали на землю, дрыгали ногами, махали руками или валились как снопы и сразу застывали в мертвой неподвижности. Как сотни дятлов, налетели на лес пули и долбили деревья острыми металлическими носами, и визжали, и свистели тысячами голосов в буйном вихре уничтожения. В чаще кустов завяз раненый и кричал непрерывно тонким голосом, полным ужаса смерти:
– Братцы, не оставьте! Не оставьте!
13. ВО ИМЯ ГРЯДУЩЕГО
Маленькие окна, смотревшие на задний двор, подернулись серой пылью. Высокая помойка черным грязным ящиком загораживала их наполовину. В комнате было почти темно. У печки, на лавке, плакала сгорбленная фигура. Худые, согнутые плечи дрожали под рваной рыжей шалью. Слезы мочили синюю облезлую юбку.
– Ты, Анна, зря не реви. Я тебе прямо скажу, толку не будет. Раз решено, что уйду, значит, уйду.
– Что ты, сбесился, что ли, на старости лет? Что ты делаешь с нами? Как мы жить будем?
– Пособие дадут.
– Что мне твое пособие. А как убьют, так что мне в пособии-то толку?
– Сын подрастет, кормить будет, да и советская власть не оставит, обеспечит на всю жизнь.
Русые волосы Вольнобаева, почерневшие от копоти, торчащим пучком падали ему на брови. Корявые руки с сухими пальцами нервно сжимали колени.
– Пойми ты, не могу я не идти. На собрании первый орал, что все пойдем, а теперь вдруг в кусты спрячусь. Никогда!
Женщина всхлипывала, утиралась кончиками головного платка.
– Всю германскую войну с мальчишкой одна-одинешенька мучилась, еле дождалась тебя, каменного. И теперь вот опять, – голова женщины бессильно тряслась, – носу не успел показать домой, бежишь. Подумай ты, бесчувственный, зачем пойдешь? Кто тебя тянет? Ну, в германскую мобилизовался, ничего не сделаешь. А тут что? Ведь никто не тащит. Сам лезешь.
– Замолчи, дура, ни черта ты не понимаешь!
– Папа, не ходи на войну.
Митя подошел к отцу, опустил головку. Большие глаза ребенка блестели слезами. Рабочий прижал к себе сына, обожженной, грубой рукой стал ласкать. Мать плакала. В вечерних сумерках комната совсем утонула. Окна двумя тусклыми квадратами прорезали черную стену.
– Нельзя, сынок, не иди. Все, кто может, должны идти.
– Папа, не ходи, тебя убьют.
– Может быть, и не убьют, сынок, а идти нужно. Ты, может быть, не поймешь меня, но я скажу тебе, родной, что мы, рабочие, должны идти, чтобы в будущем, по крайней мере хоть детям нашим, вам вот, жилось лучше. Ну посмотри, сынок, как жили мы до сих пор. Всегда впроголодь, день и ночь на работе. Квартира – вот подвал этот. Захвораешь, как собаку выгонят, рассчитают. Теперь счастье улыбнулось нам. Мы захватили власть, и мы должны ее удержать и укрепить.
Жесткая рука Вольнобаева задевала за мягкие волосы Мити.
– Мы, сынок, зла никому не желаем. Мы и воюем-то только потому, что господа заводчики и фабриканты не захотели помириться со своим новым положением разоренных богачей. Мы хотим, Митя, так жизнь устроить, чтобы все были довольны, все были богаты, у всех было всего вдоволь. Мы хотим, чтобы все жили в больших, светлых, просторных комнатах, домах, чтобы люди работали не восемнадцать часов в сутки, чтобы они свое свободное время могли бы провести по-человечески. – Жена стала всхлипывать совсем тихо. Митя слушал отца, не отрываясь, смотрел в маленькое пыльное окно.
– Если мы разобьем всех наших врагов, то я смогу быть спокойным, сынок, за твою судьбу. Я буду знать тогда, что ты не станешь надрываться на фабрике с утра до ночи. Нет. Ты пойдешь учиться. Двери школы будут для тебя открыты.
Мальчик забыл, для чего он подошел к отцу, его детское воображение было возбуждено мечтами взрослого человека.
– Папа, у меня будет много книг? И с картинками?
– Много, сынок, много, всяких, и с картинками, и без картинок.
– Ах, это очень интересно.
– Да, да, сынок, еще немного, и мы будем хозяевами жизни. Мы пойдем, мы, старики, пойдем умрем, чтобы вам только, детки, жилось хорошо.
Вольнобаев вздохнул. Мать заплакала громко. Митя надул губки.
– Зачем ты, папа, хочешь умирать? Не надо.
– Да я и не хочу, сынок, я так это, к слову пришлось.
– Я с Митей на рельсы лягу. Коли поедешь, так через нас переедешь.
Вольнобаев встал, тяжело ступая, подошел к жене.
– Анна, не дури, много терпела, немного-то уж подожди. Вернусь, не пожалеешь, что съездил. Перестань реветь сию же минуту. Надо собрать кое-что в дорогу.
Утром рано пришли несколько товарищей Вольнобаева, записавшихся вместе с ним добровольцами на фронт. В комнате стало шумно и тесно.
– Ну што, Вольнобаиха, ревешь, поди? – спрашивал низкий, широкоплечий Трубин.
– Хорошо тебе, лешему, зубы-то скалить, коли у тебя ни кола ни двора, ни жены – никого нет.
– Може, у меня тоже кто есть, да што?
– Ничего, нечего лясы-то точить. Людям слезы, а ему смех.
– Очень даже это глупо с вашей стороны, товарищ Вольнобаева, плакать. Другая бы на вашем месте радовалась, что муж у нее такой герой.
Трубин ударил по плечу Вольнобаева, завязывавшего дорожный мешок:
– Эх, Степа, не понимают нас бабы. Нет у них этого кругозора, широты-то нет. Дальше своей юбки ничего не видят. Эх-хе-хе!
– Да, далеко еще до того времени, когда нас все поймут!
Степан с усилием стягивал веревки.
– А понять должны ведь, Степа. Когда-нибудь поймут, оценят. Не все же на нас будут плевать да дураками крестить. Правда, Степан?
Рыжий Мельников бурчал в угол:
– Нечего спрашивать, и так ясно. В настоящем мы боремся, нас многие не понимают, даже вот жены и те, но будущее наше. – Кудрявый Клочков сел на лавку.
– Стоит ли, товарищи, говорить о том, понимают нас или нет. Пусть кто как хочет, так и смотрит на нас. Мы свое дело знаем и доведем его до конца.
– Да.
– Непременно.
– Или умрем, или победим.
– Нет, мы победим. Мы будем жить. Мы будем счастливы. Мы боремся за лучшее будущее.
Вольнобаев кончил сборы, разогнул спину, потянулся.
– Два мира, товарищи, сошлись в смертельной схватке. Сомнений нет: победит новый. Мы, мы, товарищи.
Рабочий подошел к сыну, еще не встававшему с постели:
– Ну, прощай, сынок. Будь здоров, жди отца. Приеду, вернусь – заживем с тобой на славу. Ты в школу будешь ходить по утрам, я на работу, а вечером читать вместе будем, в театр пойдем, в клуб. Идет?
– А книг привезешь, папа?
– О сынок, книг будет много, каких только хочешь.
– Я хочу, папа, учиться паровозы делать.
– Хорошо, сынок, приеду – всему научимся. Все будем делать. Делать нам много надо, родной. Мир весь, жизнь всю заново построить. Ну, прощай, подрастешь, все поймешь.
Вольнобаев поцеловал мальчика в губы. Рабочие стали выходить из комнаты, затопали по лестнице.
– Прощай, Анна! Провожать не ходи, лишние слезы.
Анна прижалась к мужу:
– Степа, отпиши поскорее, пропиши, где будешь, да на побывку приезжай.
Женщина говорила слабым, упавшим голосом, она примирилась за ночь с неизбежностью разлуки, будущими днями томительной неизвестности за судьбу близкого человека.
Город еще спал. Крепкий стук сапог будил утреннюю тишину улиц. Черные фигуры добровольцев с мешками за плечами толпой шли к сборному пункту. Лица были строги и серьезны. Глаза уверенно смотрели на дорогу. На стенах домов, на заборах белели листики. Черные строчки горели огнем. Звали к бою. Последнему, страшному, неизбежному и освобождающему. Добровольцы пошли в ногу. Сомкнулись плотней. Город спал. Из темных щелей полуоткрытых окон на улицу лился вонючий воздух спален, грязного белья и нечистот. Клочков шел и, улыбаясь, щурился на красный кусок неба.
– Там восток?
– Восток.
– Мы туда.
– Он будет наш.
– Мы победим! Клочков обернулся назад, сверкнул рядом белых зубов.
– А хорошо, товарищи, эдак идти. Мне петь хочется и стихи писать. Душа вот прямо рвется, дрожит. Хорошо!
Доброволец глубоко вздохнул. Солнце всходило.
14. ГЕНЕРАЛЫ И ПОЛКОВНИКИ-КОММУНИСТЫ
После ряда крупных боев на участке N-ской дивизии наступило затишье. Люди отдыхали. Первый N-ский полк стоял в дивизионном резерве. Мотовилов с Барановским лежали на солнце около винтовок, составленных в козлы. Фома на костре кипятил чай. Саженях в двухстах от офицеров плотное кольцо солдат окружило аэроплан, у которого возился авиатор француз.
– Я, Иван, в германскую войну вольнопером служил, видал виды, но скажу тебе прямо, что так гадко, как здесь, я себя никогда там не чувствовал, так у меня нервы еще не трепались, – говорил Мотовилов. – Обстановка этой войны – сплошной кошмар. Черт знает что такое – вступаешь в бой и не знаешь, кто у тебя сосед справа, кто слева. Нет уверенности, что там устойчиво, что тебя не обойдут. Хорошо, если из штаба сообщат хоть об одном соседе. Ну, а о другом-то мы сами догадаемся. Как только скажут, что сосед справа неизвестен, уж так и знай, либо Николай угодник, либо красные.
Аэроплан плавно поднялся вверх, разорвав кольцо солдат, треща мотором, полетел в сторону первой линии. Барановский молча курил, смотрел на облака, серыми клочками пуха плывшими по небу.
– Вообще ничего в этой войне нет похожего на ту. Артиллерии мало, о позиционной борьбе и речи нет, техника вообще слаба, но страху гораздо больше. Я никогда, например, в германскую войну не боялся попасть в плен, а тут холодею от одной мысли только засыпаться к красным. Какая тут к черту техника, обученность солдат, когда и мы, и комиссары во время боя стоим в цепи, расхаживаем, даже на лошадях ездим, и ничего. Попадают в нас очень редко. Нервность какая-то чувствуется у всех, стойкости почти никакой, панике все поддаются очень легко. Нет, тут в этой войне не оружие играет первую роль, а что-то другое, какие-то непонятные для меня духовные причины. Все теперешние наши победы и поражения построены на чем-то внутреннем, неуловимом. Я прямо даже затрудняюсь объяснить, что это такое. Почему мы иногда бежим после двух-трех минут перестрелки и другой раз держимся днями в самой отвратительной обстановке? Помнишь, под Шелеповым три дня в болоте лежали под каким обстрелом?
Барановский не ответил. Фома снял котелок, стал разливать чай. Пили долго, молча. Мотовилов клал себе в кружку сахар по нескольку кусков. Аэроплан вернулся из разведки, с треском опустился на прежнее место. От нечего делать офицеры побрели к нему. Француз снял теплую шапку, стоял с открытой головой и, поправляя пенсне, рассказывал на ломаном языке обступившим его солдатам о своих впечатлениях во время полета:
– Видите пуль, пуль. Красный пуль!
Летчик показывал на крылья своей стальной птицы, сплошь изрешеченные пулями.
– Жаль гранат не взял. Револьвер пук, пук!
Пухлая белая рука француза трясла черный браунинг с закопченным стволом. Агитатор вытащил из рукоятки пустую обойму.
– Все пуль пук, пук. Красных пук, пук. Жаль, жаль гранат не быль. Много красный, можно быль пук, пук.
Барановский брезгливо опустил концы губ.
– Не люблю я этих французов. Каждый из них приехал с собственным аэропланом, приехал, как на охоту, дикарей русских пострелять. Черт знает что такое. Видишь, его послали воззвания раскидывать на фронте, а он увлекся, стрелять стал из револьвера. Жалеет, что гранат не было, гадина упитанная. Не перевариваю этих жуиров, искателей приключений, охотников за черепами.
– Нечего здесь философствовать, Иван, по-моему, чем больше с нашей стороны дерется, тем лучше. А как и кто, не все ли равно.
Солдаты разглядывали машину, щупали круглые дырки в тонких пленках крепких крыльев.
В обед офицеры поехали в штаб дивизии на доклад пленного командира красной бригады. По приказанию Мочалова, пленный информировал офицеров о строительстве Красной Армии, об условиях, жизни в тылу, в Советской России. Эти вопросы живо интересовали офицеров, и каждый с нетерпением ждал очереди своей группы. Ездили на доклад по нескольку человек, группами, так как всех нельзя было снять из части. Мотовилов ехал с Барановским в одном ходке, на собственной лошади, захваченной его ротой в последнем бою. Мотовилов ехал и злорадствовал:
– Вот, воображаю, порядочки-то у красных. Вот уж, наверно, балаган-то развели товарищи.
– Не думаю, – неопределенно возражал Барановский.
– Чего там, не думаю, – сердился Мотовилов, – забыл разве? Не жили, что ли, мы при них в 17-м году?
– Теперь не 17-й, а 19-й, Борис.
– Все равно, один черт. Я думаю, что и в 19-м году кашевар не сможет командовать полком, а волостной писарь вести дипломатическую переписку с соседними державами.
– Не знаю, – задумчиво тянул Барановский. Мотовилов разозлился.
– Это черт знает на что похоже, Иван. Неужели ты думаешь, что эти сиволапые всему выучились за два года? Разве я когда-нибудь поверю тому, что можно в два года выучиться командовать армией и управлять огромной страной? Ерунда! Никогда этого не может быть!
Офицер злобно ткнул кулаком в спину своего вестового, сидевшего на козлах.
– Куда ты, олух, едешь? Я же тебе приказывал к школе, а ты к попову дому поехал, болван.
Кучер сделал небольшой круг на площади и остановился у дверей школы.
Докладчик, пожилой полковник, уже пришел и стоял за кафедрой, сверкая новенькими золотыми погонами.
– Скотина, уже успел нацепить два просвета, – ворчал Мотовилов, садясь за парту, и мысленно продолжал: «Я бы ему, мерзавцу, никогда не позволил погоны надеть. Пускай носил бы свои красные тряпки, чтобы видели все, что он за птица. Я бы ему красную звезду в пол-аршина на спину нашил и заставил бы так ходить».
Докладчик начал:
– Господа офицеры, прежде чем приступить к развитию моей сегодняшней темы – Советская Россия и Красная Армия, – должен предупредить вас, что я даром слова не обладаю, а потому прошу задавать мне вопросы обо всем том, что я пропущу или не сумею передать связно.
– Заправляет Петра Кириллова Зеленого: «Говорить не умею!» – поди насобачился на митингах-то в Совдепии, – язвил вполголоса Мотовилов.
– Ну-с, мы, конечно, здесь, господа, одни, без свидетелей, и стесняться не будем. Смело вскроем наши недостатки, разберемся в них, проведем небольшую параллель между нами и ими, – полковник показал рукой на запад. – Должен сказать, господа, что воюете вы скверно. Уж я подставлял, подставлял вам свои фланги, думаю, пускай потреплют товарищей. Нет, как нарочно, с вашей стороны полнейшая бездеятельность. Тогда я плюнул и просто один, со штабом, приехал к вам.
– Врешь, – довольно громко сказал Петин.
– Однако, не обижайтесь, господа. Это я сказал только потому, что хотел пояснить вам, как ваш покорный слуга попал из Совдепии в Сибирь.
Полковник слегка наклонил голову и приложил руку к груди. Аудитория молчала.
– Начнем с главного. Вся Советская Россия объявлена осажденным военным лагерем, а раз так, то вся жизнь в стране регулируется строжайшей железной дисциплиной. (Офицеры обменивались недоумевающими взглядами). Не удивляйтесь, господа, – заметил докладчик, – Советская Россия совсем не то, что знали вы в 17-м году. Из хаоса разрушения на обломках старого теперь воздвигается новое здание государственного порядка. И надо отдать дань должного нашим противникам-большевикам: в деле государственного строительства они преуспевают. Единая руководящая идея кладется ими в основу всей жизни Республики, все для победы над буржуазией и разрухой, все для борьбы. В этом они, пожалуй, похожи на немцев, которые в свое время говорили: «Все для отечества, все для кайзера». Если хотите, господа, они и проводят в жизнь, осуществляют свои идеи с немецкой методичностью и упорством. В этом отношении отличаются особенно коммунисты, которые стали теперь совершенно непохожими на прежнего русского человека с ленцой и почесыванием затылка. Работа, работа и работа – вот их лозунг! Страна – военный лагерь, ну, а в лагере ведь живут солдаты, следовательно, в Советской России все граждане – солдаты, только не боевой армии, а трудовой. Так они и называются: солдаты или работники Великой Армии Труда.
– Скажите, полковник, – перебил докладчика какой-то капитан, – трудовая армия разбита так же, как и красная, на роты, батальоны?
– Как вам сказать, не совсем так. Трудящиеся там организованы в профессиональные союзы, и вот эти-то профессиональные союзы считаются такими ротами, батальонами, бригадами, которые выполняют разные боевые задачи на трудовом фронте.
– Значит, профессиональные союзы есть вторая советская армия теперь? – спросил опять капитан.
– Вот именно так. Да, да это верно, – подтвердил полковник. – Профессиональные союзы теперь являются экономическим фундаментом Республики. Все они выполняют определенные задачи центра, так что работа по изготовлению разного рода продуктов носит строго организованный характер. Все производство организовано в общегосударственном масштабе и регулируется, конечно, с одной стороны, потребностями Республики, а с другой – наличностью запасов топлива, сырья, рабочей силы. В последние трех там большой недостаток. Но все же, поскольку имеется в их распоряжении всего этого, постольку там и идет работа. Фабрики пущены. Не все, правда, и не полным ходом, но все же прежней безалаберности в этой области нет. Ни о какой товарищеской дележке фабричных механизмов, как то наблюдалось в 17-м, начале 18-го годов, и помину нет. Митинговый большевизм уже изжил себя. Самое важное, господа, то, что производство организовано у них, конечно, не вполне еще, но уже во всяком случае оно в крепких руках государственной власти. Я считаю, господа, огромным завоеванием и победой красных тот факт, что промышленность, производство в Советской России в целом не пали и не падают. И если не двигаются вперед, то удерживаются от гибели главным образом за счет трудового героизма масс, за счет повышения их сознательности. Когда адмирал Колчак был по ту сторону Урала, а генерал Деникин развивал свое наступление, Советская Россия буквально варилась в собственном соку: ни топлива, ни хлеба, ни сырья не было, и все же красные отбили наступление и с юга, и с востока, и с севера. Сделали это они потому, что на их стороне были трудовые массы, потому, что к тому времени у них было так или иначе налажено производство и распределение и организован, отлично организован, аппарат государственной власти. Да, господа, у красных теперь, несомненно, есть сильный, недурно организованный государственный аппарат, промышленность и армия. На последнем вопросе, вопросе о Красной Армии, ее организации я останавливаюсь подробнее.
Офицеры сидели, внимательно слушая, и не знали, верить или не верить полковнику. Многим из них казалось невероятным, чтобы в Совдепии мог быть какой-нибудь порядок, а тем более дисциплина, да еще трудовая.
– Для борьбы с разрухой у Советской России есть трудовая армия, для борьбы с буржуазией, выражаясь модно, с Антантой, – Красная Армия. Красная Армия, как и трудовая армия, спаяна железной дисциплиной, причем дисциплина там не только, как говорится, сверху, но и снизу. Командирам, комиссарам в бою и в строю беспрекословное подчинение, за ослушание или умышленное неисполнение приказания, невыполнение боевой задачи – тягчайшая кара, вплоть до расстрела. Кроме того, неисполнительного, неаккуратного красноармейца тянут свои же товарищи. Здесь нужно отметить роль коммунистов: они именно, организованные в ротные ячейки, и являются такими сознательными воинами, которые тянут за собой всю красноармейскую массу, налаживают эту дисциплину снизу. Красная Армия тем и отличается от всех других, что в ней дисциплина не только сверху, внешняя, но и внутренняя, снизу, сознательная. Дисциплинированность масс в армии наших врагов создается общими усилиями командного состава и самих красноармейцев, и основывается она не только на насильственных мерах воздействия, но и на поднятии культурного уровня солдат. В Красной Армии организован, как нигде, аппарат по политическому воспитанию солдатской массы, по поднятию ее сознательности. Государство затрачивает на культурно-просветительную и политическую работу в армии огромные средства. Красная Армия вся оплетена сетью политических и просветительных организаций, учреждений с громадным кадром работников. Прежде чем пустить стрелка в цепь, красные обрабатывают его, обучают не только военному делу, но и политической грамоте. Воспитание солдат там сводится к тому, чтобы каждый из них, когда ему будут командовать направо, налево или вперед, не только бы слепо выполнял приказания командира, но был бы убежден, знал бы твердо, что ему нужно именно идти туда, а не сюда. Красные так воспитывают своих солдат, что когда им скажут о назначении их на фронт, о выступлении на позицию, то каждый знает, что туда идти ему нужно, что идти и драться он обязан и не за страх только, а и за совесть. В этом огромная, страшная сила Красной Армии.
Полковник, человек военный до мозга костей, говоря о сильной и организованной армии, невольно любовался ей, от этого речь его делалась живей, начинала захватывать слушателей. В школьном классе было тихо. Все с напряженным и все возрастающим вниманием следили за докладом.
– Для культурно-просветительной работы в армии красные мобилизовали лучших работников, стянули лучшие партийные силы. Для постановки же чисто технической, военной стороны дела привлечены специалисты старой школы. Почти весь наш генеральный штаб теперь работает в Красной Армии.
– Прохвосты! Продажные шкуры! – закричало несколько голосов с мест.
Полковник немного смутился, покраснел, опустил голову, стал искать в карманах портсигар.
– Все специалисты великолепно обеспечены, в их распоряжении удобные и большие квартиры, выезды, прислуга, им платят огромные оклады. Для привлечения их к работе красные не скупятся на расходы.
– Покупают подлецов, как продажных тварей, – опять крикнул кто-то с места.
– Но есть, господа, и среди военспецов, как их называют красные, среди военных специалистов, люди, работающие в армии не из-за материальных выгод, не из страха, а по убеждению, есть среди них и настоящие коммунисты, члены Российской Коммунистической партии.
– Ерунда. Не может быть. Полковники, генералы – коммунисты! Ха, ха, ха! – заволновались, зашумели слушатели.
– Негодяи, предатели, от них всего можно ждать. Пошли в Красную Армию – полезут и в партию. До чего мы дожили! Генералы без погон, члены партии большевиков и дерутся против таких же генералов, дерутся за власть, за торжество этой серой скотинки. Боже мой, боже мой!
Подполковник Иванищев схватился руками за голову, обращаясь к докладчику, стал извиняться:
– Виноват, полковник, перебил вас, но, знаете, сил нет слушать, когда говорят о таком подлом предательстве.
Докладчик закуривал папиросу и молча, как бы соглашаясь с говорившим, кивал головой.
– Опыт старых специалистов широко используется красными. Они заставляют их не только работать непосредственно в армии, но и создавать кадр новых красных специалистов и командиров. Красные военные училища, или школы командного состава и красная академия генерального штаба там работают вовсю. Нужно сказать, господа, что в деле организации и строительства армии красные оказались на высоте своего положения. Широта размаха, предприимчивость, поощрение всякой разумной инициативы в какой бы то ни было области – вот отличительные черты наших противников. Куда бы вы ни взглянули, господа, какую бы область их работы ни взяли – везде вы поражаетесь грандиозностью и глубиной замысла.
– Ну, а скажите, господин полковник, – поднялся Мотовилов, – кашевары у красных командуют полками?
Полковник улыбнулся.
– С этим дело обстоит так: выборность командного состава отменена в армии, так что красноармейцы, если бы и хотели видеть своего кашевара в роли командира полка, не могли бы этого сделать, так как назначают на такие должности людей, знающих военное дело. Но, однако, это не исключает совершенно возможности вчерашнему кашевару стать начальником дивизии. И в Красной Армии есть несколько теперь уже славных имен командиров, выдвинувшихся своей талантливостью из рядов солдатской массы. Здесь красные занимают совершенно правильную позицию: с одной стороны, дают возможность талантам, самородкам применить свои силы, а с другой – создают кадр командиров и работников путем обучения в школах, на курсах.
– А офицеры жиды есть у красных? – полюбопытствовал подпоручик Петин.
– Командиры евреи, конечно, есть, их даже очень много. Евреи, господа, в Красной Армии – большая сила. Нам пора уже забыть старые анекдоты, что евреи стреляют из кривых ружей. Я вам скажу, господа, по личному опыту, что евреи очень серьезные враги, дельные, энергичные, смелые. Когда, например, у меня комиссар был русский, я чувствовал себя ничего. Мы с ним сжились, свыклись, официальностей у нас никаких не было. Откровенно говоря, я его заставлял частенько под свою дудочку поплясывать. Но потом его сменили за слабохарактерность – так, кажется, было мотивировано смещение. Его убрали, а ко мне прислали жида, этот прямо задушил меня, буквально не спускал с меня глаз, я шагу не мог сделать без его ведома.
В класс вошел начальник штаба и, извинившись перед докладчиком, передал офицерам приказание начальника дивизии немедленно отправиться в полк, так как было получено распоряжение сегодня же к вечеру перейти в наступление. Офицеры неохотно встали. Докладчик, сходя с кафедры, напомнил слушателям:
– Не забывайте, господа, что теперь на фронте вы имеете дело не с бандой товарищей, а с хорошо организованной армией. У красных теперь, повторяю и подчеркиваю, есть государство и армия.
На крыльце офицеры немного задержались, окружив полковника, задавали ему вопросы:
– Скажите, вот мы теперь имеем дело с серьезным врагом, ну, а как же бороться с ним? И неужели в Совдепии все обстоит так благополучно, как говорите вы? – спрашивал полковник Иванищев.
– Далеко нет, господа, – отвечал докладчик. – Я и не говорю этого, вернее, я не успел поговорить об этом с вами. Разве можно обойти молчанием то обстоятельство, что у красных с голода животы подводит? Или, например, разве не благодатная почва для нашей агитации незаглохшие собственнические инстинкты советского крестьянина? Много можно, господа, найти в Советской России такого, за что легко уцепиться и начать борьбу. У меня, собственно говоря, даже разработан небольшой план борьбы с красными в их тылу, но, к сожалению, я не имею времени его вам развить пошире, поговорить на эту тему.
Офицеры стали садиться на лошадей. Мотовилов опять ехал вместе с Барановским.
– Полковник этот просто-напросто красный шпион, провокатор, подосланный к нам. Я бы его, мерзавца, после доклада сейчас же повесил. Черт знает, что за медные лбы сидят у нас в штабах. Не понимаю. Явного шпиона пускают так свободно гулять да еще позволяют ему разводить агитацию.
– Ну, ты, Борис, уж очень подозрителен и нетерпим. Нужно же иметь смелость, наконец, чтобы оценить врага по достоинству. Недооценка противника – скверная вещь, – возражал Барановский.
Ехали шагом, дорога была скверная, колеса вязли в грязи по ступицу. Шел мелкий дождь, и лошадь с трудом вывозила из огромных выбоин тяжелый ходок. Офицеры замолчали. Барановский смотрел на водяные пузыри, вскакивавшие в лужицах от ударов дождевых капель, и думал о том, что услышал сейчас в школе, что так глубоко врезалось в память.








