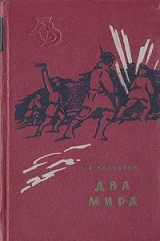
Текст книги "Два мира"
Автор книги: Владимир Зазубрин
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 22 страниц) [доступный отрывок для чтения: 9 страниц]
Теперь же грозный час борьбы настал, настал,
Коварный враг на нас напал, напал.
И каждому, кто Руси сын, кто Руси сын,
То путь на бой с врагом один, один.
Социалист-революционер подпоручик Иванов мечтательно смотрел в даль убегавших лесов и оврагов.
– Какие хорошие слова. Приюты науки… Студенты… За отчизну… За свободную отчизну с Учредительным Собранием…
Мотовилов презрительно плюнул и поморщился:
– Учредилка. Социалисты паршивые. Свобода. Русскому народу нагайку, а не свободу нужно. Жандармов побольше да Царя-батюшку. В этом все наше спасение.
– В насилии нет спасения. Штыками не заставишь думать иначе. Самая хорошая идея кажется пустой или вредной, если ее навязывают. Пусть народ сам изберет себе образ правления. Навязывать же ему царя или совдепы – одинаково пагубно для дела возрождения России.
Мотовилов стал бестолково спорить, ругаться. Иванов замолчал, он вспомнил, что Мотовилов воспитанник кадетского корпуса, что кадета логикой не убедишь… Мотовилов, довольный тем, что за ним осталось последнее слово, начал петь, приплясывая:
Как Россию погубить?
У Керенского спросить.
Офицеры подтягивали бессмысленный припев:
Журавель, журавель, журавель,
Журавушка молодой.
Из другого вагона неслось нецензурное Алла-вер-ды, и далеко в конце поезда сильный тенор хорунжего Брызгалова звенел под звук колес:
Если б гимназистки в мишени превратились,
Тогда бы юнкера стрелять в них научились.
Весь вагон ревел, подхватывая ухарский припев юнкерской песни:
Всегда, всегда с полночи до утра,
С вечера до вечера и снова до утра.
Маленький, кривоногий Никитин, высоко подняв руку, дирижировал:
Эх, тумба, тумба, тумба,
Мадрид и Лиссабон.
Тумба, тумба, тумба,
Сапог и граммофон.
Громкие песни с гиканьем и свистом, смешиваясь с грохотом поезда, наполняли тайгу целым потоком быстро бегущих звуков, тревожили жителей станционных поселков. На остановках вокруг эшелона собирались кучки любопытных. Офицеры заигрывали с молодыми деревенскими девками, хвалились, что скоро разобьют большевиков. Дым и пыль столбами крутились за эшелоном. Как на экране, мелькали станции. На станции Тайшет офицеры остановились на перроне, удивленные неожиданным зрелищем: между двух телеграфных столбов с перекладиной висели три трупа. Двое мужчин в нижнем белье и молодая девушка с длинными русыми косами, в коричневой юбочке. В Тайшете стояли чешский и румынский эшелоны. Комендант станции, молодой чех, крутя в руках щегольский стек, объяснял офицерам:
– Это трех большевик. Двух повешен за ломанию рельсы, а барышня телеграфистка за то, что опоздала с передачей важной телеграмм.
Легкий ветерок играл косами телеграфистки, трепал коричневое платье, покачивал тела повешенных. Лица казненных были спокойны, только девушка в предсмертной муке нахмурила брови и сильно прикусила язык, который резким черным пятном торчал изо рта. Мотовилов был в восторге. Он смотрел сияющим взглядом то на чеха, то на висельников.
– Вот это я понимаю, молодцы чехи, пощады не дают красной сволочи.
Чех самодовольно улыбнулся.
– Ми чех, ми не руск, ми воюем честна. Руск арме плох, он бежит от красных, бежит к красным.
Мотовилов горячо возражал:
– Нет, господин капитан, вы ошибаетесь. Не вся русская армия и русские офицеры плохи. Не спорю, есть среди нас скоты – «афицера», прапорье несчастное, те, пожалуй, бегут, те главнокомандующими и у красных служат. Но есть среди нас и настоящие офицеры, они не побегут. Разве наш Красильников плох?
Чех засмеялся, стоявший рядом с ним румынский офицер щелкнул языком:
– О, Красильникоф-то карош, карош! Комендант покачивал головой.
– Мало руск карош, руск народ свинья неблагодаренный. Чех его освобождаль, чех большевик прогналь, а руск отступает теперь. В России все плох. Порядок нет. Солдаты – большевики. Женщин руск развратный, з нашими чехами эшелонами ездят.
Долго чешский капитан говорил о недостатках России. Офицеры угрюмо молчали. В душе у многих поднималось горькое чувство обиды. Возражать боялись. Дежурный по станции пошел к паровозу с «путевкой». С чувством облегчения бросились подпоручики в вагоны. Колпаков мрачно смотрел в угол, ероша волосы. Потом взял бутылку водки, со злобой ударил по дну рукой, выбил пробку и налил себе огромную кружку.
Поезд тронулся.
6. ВСЕ ПОЙДЕМ
В стороне от железной дороги, в тайге, кипела своя жизнь. Партизаны спешно укрепляли Пчелино. Густой туман сырым, серым одеялом закутывал пустые улицы, дворы. Острые железные лопаты со скрипом рвали мягкий зеленый травяной ковер, разостланный вокруг всего села. Говорили шепотом. Вырытую землю осторожно накладывали длинным, черным валом. Дозоры подозрительно щупали мокрую траву, раздвигали кусты, тыкались о деревья.
Красное знамя, потемнев, тяжелыми складками повисло над входом в школу. В большом классе на кафедре горел жировик. Пятна света налипли на лицо Григория Жаркова. Вместо глаз у него темнели впадины. Подбородок стал шире. У секретаря волосы торчали спутанной кучей. За партами стеснилось собрание представителей боевых отрядов, местных крестьян и шахтеров из Светлоозерного. Жировик красноватыми клиньями распарывал комнату. Глаза, щеки, носы, освещенные на мгновенье, наливались кровью и снова чернели. Говорил бородатый шахтер Мотыгин.
– Товарищи, ток што мы кончили германску войну, поспихали к чертям всех бар, как они к нам с новой войной лезут. Сказано было, чтобы без аннексиев и контрибуциев, а им не по нутру. Видишь ли ты, долги старые получить захотелось. Поперек горла, значит, им советская-то власть встала. Не хотится им, чтобы рабочие и крестьяне сами собой управляли, охота повластвовать, барскую свою спесь показать.
Собрание слушало. Шахтер вспыхнул, загорелся, заговорил часто и сбивчиво.
– Нет, не быть тому! Не дадимся, товарищи! Отстоим советскую власть,
– Не дадимся! Отстоим!
– Они хотят, товарищи, опять нас в окопы, опять стравить с кем-нибудь, чтобы нашими руками жар загребать.
– Не пойдем! Не желаем! Долой войну!
– Коли не желаем, товарищи, так всем надо, всем, как одному, за оружие браться.
– Все! Все пойдем! С вилами! С кулаками!
– У белых гадов оружия хватит – отымем.
Мотыгин замолчал. В классе стало тихо. Красноватые клинья резали толпу.
– А, мож, есть промеж нас, товарищи, трусы? Мож, кому бела власть лучше кажется?
Клинья погасли. Жировик замигал тускло, с дрожью. Голова шахтера темным комом расплылась, пропала в темноте. Темнота загрохотала.
– Не дело говоришь, Мотыгин. Говори, да не завирайся! Бела власть! Широкое спалили! Дочку изнасиловали! Нас разорили! Попадью с ребенком зарубили! Жену прикололи. Все Медвежье перепороли! Девок всех опозорили! Ни старому, ни малому от них пощады нет! Бела власть! Бела власть! Грабеж! Убийство! Хуже старого режима! Где жить будем? Жить как? Унистожить! Унистожить гадов! Шомполами порют. Вешают! Унистожить всех до единого! Пощады никому не давать! Унистожить! Унистожить! Унистожить! Все пойдем!
Винтовки стучали тяжелыми прикладами. Пол и парты скрипели. Стало совсем тесно. Мотыгин сел. Старик Чубуков вышел из толпы.
– Товарищи, нечего нам тут сумлеваться, есть промеж нас трусы или нет.
Шум прекратился.
– Мы все знаем, что с белыми гадами жить нельзя. Теперь все знаем. Неделю тому назад я не знал еще, я думал, коли я никого не трогаю, так и меня никто не тронет, ан вышло совсем не то. Дочь родную… – старик затрясся, побледнел, – дочь родную на глазах у матери, у отца, у мужа изнасильничали. Все мы были дома. Слышали, видели, а сделать ничего не могли, потому их сила. Что мы двое с зятем можем? У зятя, окромя того, в ту же ночь сестренку Машу, четырнадцатилетнюю девочку, замучили звери. Теперь мы вот оба здесь, и старуха с нами. Дочки-то нет: замучили изверги. Теперь я говорю, что и силен Колчак, а мир сильней его. Миром мы не одного такого уберем. Мир – сила. Мир все может. Надо только всем крестьянам пояснять как следует. Пусть слепых не будет. Пусть все узнают, что белые банды вытворяют, что они сделают с нами, коли власть свою удержат.
– Правильно! Правильно!
Чубукова сменил бывший священник из Широкого Иван Воскресенский. Он был без рясы, коротко острижен, с шомпольной одностволкой за плечами. Собрание смотрело на него, немного недоумевая. Воскресенский почувствовал это.
– Дорогие товарищи, не удивляйтесь, что ваш пастырь духовный крест сменил на ружье. Когда-то Христос, кроткий и любвеобильный, взял плеть, чтобы изгнать торгующих из храма. Я простой, грешный человек и больше терпеть не могу. Не могу я больше говорить о смирении, о всепрощающей любви.
Темнота застыла. Каплями масла на раскаленную плиту падали слова Воскресенского. Чад острой ненависти к белым застилал глаза, захватывал дыхание. Бывший священник был наружно спокоен, но говорил со сдержанным волнением и силой.
– Не могу, когда вижу, как телом и кровью Христа отцы Кипарисовы торгуют, как они его именем истязают и распинают целые села. Палачи жену мою и ребенка шашками зарубили за то, что осмелилась противиться поджогу. Да разве я могу после этого оставаться там служить молебны о даровании побед и многолетия убийцам моего ребенка и жены? Разве я могу смириться? Нет, я хочу мстить. Я думаю, что моя месть – святая месть. Моя месть пусть сольется с вашей. Я все силы свои, все знания отдам на общее дело борьбы. Мы все здесь сошлись одинаковые – у каждого есть замученные, убитые родные, близкие. Товарищи, клянусь вам, что я не выпущу из рук оружия до тех пор, пока не будет уничтожен последний из этих гадов. Поклянемся все, товарищи, что мы будем мстить до конца, до победы. Терпеть больше нельзя. Если мы не положим предела бесчинствам этих вампиров, они в крови утопят всех трудящихся, загонят нас в кабалу темного рабства. Не будем рабами, не дадимся в когти новоявленным рабовладельцам!
– Не дадимся! Клянемся! Все клянемся!
Черные руки трясли винтовками, шомполами и берданами.
– Клянемся! – кое-кто поднимал пальцы, сложенные как для присяги.
– Клянемся!
Сердца слились в один огненный комок. Зубы заскрипели.
– Наступать надо! Нечего дожидаться! Вперед! Бить их, гадов! Наступать! Чего ждать! Наступать! Наступать!
Председатель встал, стукнул кулаком.
– Товарищи, внимание!
Жировик стал тухнуть. Черная толпа затихла.
– Всем галдеть зря нечего. Сейчас товарищ Суровцев обскажет вам все, что нужно. Прочтет приказ Военно-Революционного районного штаба, тогда увидите, как и кому нужно действовать.
Высокий, сутуловатый Суровцев с копной густых кудрявых волос длинной темной тенью заслонил гаснущий огонек жировика.
– Товарищи, я думаю, нам нечего говорить о том, что мы согласны или не согласны воевать с белыми. Я думаю, что каждому из нас ясно и понятно, что вопрос борьбы с этими палачами есть вопрос жизни и смерти. Мы живем и будем жить постольку, поскольку ведем и будем вести борьбу. Теперь не может быть речи о какой-нибудь капитуляции, мире.
– Мир будет, когда этих гадов не будет!
– Товарищи, к порядку!
Жарков привстал со стула. Винтовки сердито стукнули.
– Борьба может закончиться только поражением одной из сторон, поражением, а следовательно, и ее полным уничтожением. И на самом деле, как я могу помириться с негодяем, изнасиловавшим мою сестру, засекшим мою мать, заколовшим мою жену, повесившим моего брата, расстрелявшим моих детей. Мира быть не может.
– Смерть гадам!
– Товарищи! – Жарков покачал головой. – Мы должны бороться, боремся и будем бороться.
– До конца! До победы! Осиновый кол им, гадам, в могилу!
– И вот районный штаб поставил своей ближайшей задачей организовать борьбу более правильно, планомерно, в больших размерах, в более широком масштабе. Силы живой, бойцов, у нас хоть отбавляй. Мы получаем подкрепления каждый день. Каждая новая расправа красильниковцев, их новый налет на какую-нибудь деревню, село гонит оттуда в наши ряды десятки лучших людей. Сегодня перед вами выступал старик Чубуков, он будет активным борцом, он только что понял, что нейтральным в этой борьбе остаться нельзя, что нужно примкнуть либо к людям, либо к человекоподобным зверям. Нет сомнения, что скоро все крестьяне нашего уезда решат вопрос о войне точно так же, как решил его Чубуков. Итак, нам нужно позаботиться, чтобы влить в определенные формы, рамки разрастающееся восстание против золотопогонных убийц и мародеров. Нужно позаботиться, чтобы семьи бойцов, которые вынуждены следовать за нашими отрядами, были поставлены в хорошие условия, чтобы им были обеспечены и хлеб, и кров. Наконец, нужно позаботиться, чтобы и вся наша армия ни в чем не нуждалась, и в первую голову в оружии и патронах.
– Вот это дело! Правильно!
Темнота всколыхнулась. Суровцев, народный учитель-самоучка, бывший политический каторжанин, пользовался среди партизан большой популярностью и авторитетом.
– Районный штаб, товарищи, в своем последнем приказе по войскам Таежного повстанческого района предлагает в целях, только что мною указанных, следующее…
Суровцев говорил спокойно, твердо, отчеканивая каждое слово, каждую букву:
– Первое. Батальонам Мотыгина и Черепкова развернуться в полки трехбатальонного состава и именоваться: первому – 1-м Таежным полком, второму – 2-м Медвежинским; командирами остаются командиры батальонов. Отрядам Сапранкова, Силантьева и Вавилова слиться в 3-й Пчелинский полк под командой товарища Силантьева. Конные отряды Ватюкова и Кренца свести в отдельный кавалерийский дивизион. Командование возлагается на товарища Кренца. Комендантской команде штаба развернуться в запасный учебный батальон, выделив из своего состава новую комендантскую команду, команду связи и саперную команду. Командование возлагается на товарища Гагина. Из всех не имеющих оружия и небоеспособных беженцев составить рабочую дружину под начальством товарища Неизвестных.
Второе. Выделить немедленно из действующих частей всех специалистов – слесарей, токарей, механиков – и поручить им организацию мастерской для литья и точки пуль, снаряжения патронов, изготовления ручных гранат и починки оружия.
Третье. Создать при штабе агитационный отдел, на который возложить помимо устной агитации в нашей армии, среди местного населения и в рядах противника, в его тылу, издание листовок и газеты, использовав для этого имеющиеся две пишущие машинки. Руководство отделом поручить товарищам Суровцеву и Воскресенскому.
Четвертое. Создать Совет Народного Хозяйства, в распоряжение которого передать все запасы обмундирования, снаряжения, вооружения, продовольствия и перевозочные средства. На него же возлагается обязанность снабжения армии всем необходимым, вплоть до огнеприпасов. Ему поручается открытие полевого госпиталя и летучки и устройство и обеспечение семей бойцов и беженцев. Председателем Совета Народного Хозяйства назначается товарищ Говориков.
Жировик потух. Запахло горелым салом и копотью. Тень Суровцева пропала в темноте. Суровцев продолжал развивать планы штаба. Перед собранием развертывалась картина стройной, большой, крепкой организации.
За селом дозоры наткнулись на противника. В тайге коротко вспыхнули и зашумели выстрелы.
Тра! Трах! Та! Та!
Трах! Бух! Бах! – ответили дробовики партизан.
Трах! Та! Та! Та! Та! Трах!
Партизаны замолчали, залегли, послали в село донесение… Белые дальше идти не решились, окопались, подтянули цепи почти на линию дозоров. Из школы молча, быстро лился широкий живой поток. Наскоро строились. Тревожно чернели длинные стволы шомполок, острые стрелки штыков. Беззвучно прошли по мягкому, пыльному, длинному половику, затоптали зеленый ковер, залегли за черным валом. Без выстрела, широко раскрытыми глазами искали в потемках других, неизвестных, волнующих своей близостью и молчанием.
На заре у белых за цепью громыхнуло. Снаряд провизжал в свежем туманном воздухе и ткнулся в землю не разорвавшись. Жарков верхом на лошади стоял у крайней избы, разглядывал тонкую линию окопчиков противника. Выдвигающий механизм работал плохо, в одной половине бинокля стекла были выбиты пулей. Жарков, зажмуривая глаз, морщился. Пчелино с трех сторон густыми цепями охватывали чехи, румыны и итальянцы. Партизан смотрел в бинокль и не понимал, почему белые нарядились в широкополые мягкие шляпы. В патронные двуколки у итальянцев были впряжены ослы. Жарков засмеялся.
– Ну, на ишаках[3]3
Ишак – осел
[Закрыть] да в шляпах в бой заехали – много не навоюют.
Подъехали Кренц и Мотыгин.
– Смотрите-ка, друзья, белые-то как принарядились. Бинокль перешел к Кренцу.
– Это итальянцы, – сказал он.
– Ага, союзнички, значит, пожаловали, – мрачно улыбнулся Мотыгин.
– Ну что ж, милости просим. Не обессудьте, господа хорошие. Чем богаты, тем и рады. Встретим, как можем.
– Вот что, Кренц, – Жарков повернулся к командиру конного дивизиона, – заехай-ка ты им в тыл да пугни как следует, посчитай шляпы у этой ишачей команды.
У белых опять громыхнуло. Легкое облачко шрапнели, крутясь, со свистом, серым кудрявым барашком повисло над краем села.
7. «ПАПАНЯ ПЛЯСИТ И ДЛАЗНИТСЯ»
Борьба разгоралась. Красные партизаны от неорганизованных, разрозненных выступлений и набегов маленькими отрядами перешли к действиям крупными боевыми соединениями, вели планомерные наступления, маневры, захватывали станции железных дорог, портили пути сообщения в глубоком тылу у врага, спускали под откос воинские поезда противника, устойчиво держали фронт, занимая подолгу целые волости, близко подходили к городам. Многочисленные, но трусливые отряды русских и иностранных белогвардейцев преследовали партизан нерешительно, в тайгу далеко заходить боялись, предпочитая срывать свою злобу на мирном населении, старались запугать всех свирепыми приказами, дикими расправами и массовыми публичными казнями беззащитных, безоружных людей.
На улицах Медвежьего был расклеен приказ атамана Красильникова:
За последнее время в деревнях и селах губернии большевики усилили свою преступную деятельность, пытаясь подорвать в народе веру в великое будущее России, стараясь склонить население на сторону предавшей родину советской власти. Безобразные факты, чинимые большевиками, – крушение поездов, убийство лиц администрации – все это заставляет отвергнуть те общие моральные принципы, которые применимы к врагу на войне. Тюрьмы полны вожаками и семьями этих убийц. Начальникам гарнизонов вверенного мне района приказываю содержащихся в тюрьмах большевиков, разбойников и ихних родственников считать заложниками. О каждом факте, подобном вышеуказанным, доносить мне и за каждое преступление, совершенное в данном районе, расстреливать из местных заложников от 3-х до 20-ти человек. Все села и деревни, независимо от величины и количества населения, в коих будут обнаружены большевики, будут сожжены и уничтожены, имущество конфисковано. Села и деревни, в коих население само выступит против большевиков и будет их изгонять, будут не тронуты. В сожженных селах и деревнях женщины, дети и старики, неспособные носить оружие, получат правительственную помощь и приют.
Медвежинцы, проходя мимо белых лоскутков бумаги, косились со страхом, угрюмо роняли головы. В селе, кроме отряда полковника Орлова, стояли итальянцы, румыны и чехи. В итальянском штабе было два представителя французских войск – красивый, седоусый полковник и молоденький, почти мальчик, лейтенант.
В день боя под Пчелиным Орлов сидел на квартире у француза полковника. Офицеры пили кофе. Француз хвалил Сибирь, говорил, что она нравится ему своеобразной, суровой, дикой красотой, уверял, что если Франция вздумает прислать сюда свои дивизии, то он первый изъявит желание служить в одной из них, никогда не подумает о переводе на родину. Орлов, хорошо владевший французским языком, отвечал, что в Сибири действительно много своеобразной прелести, но находил ее страной некультурной, населенной темными, невежественными крестьянами, живя с которыми изо дня в день вместе можно огрубеть. Кофе было крепкое, сливки густые и свежие. Белые калачи и шаньги благоухали на столе запахом только что испеченного хлеба. Собеседники ели с аппетитом. Разговор с Сибири перешел па сибирских женщин. Француз спрашивал Орлова, правда ли, что, по рассказам русских же, в Сибири птицы без голоса и женщины без сердца. Орлов смеялся и рассказывал о своих многочисленных романтических интрижках с сибирячками, уверял, что сибирские женщины гораздо интереснее российских. Француз жадно посматривал на полное, раскрасневшееся лицо хозяйской дочери Кати, возившейся у русской печки, намекал Орлову, что сегодня дома из хозяев никого, кроме девушки, нет, что он очень этим доволен. Орлов не понимал деликатных намеков коллеги, продолжал беспечно болтать. Француз нервно дергал длинные седые усы. Глаза его, большие, черные, с пушистыми ресницами, со скукой останавливались на лопате бороды Орлова, покрываясь влажным блеском, скользили по крепкой фигуре Кати.
– Она прекрасна, эта дикарка.
Француз встал, возбужденно прошелся по комнате, круто, решительно повернулся на каблуках, остановился перед Орловым.
– Полковник, оставьте меня с ней вдвоем. Вы понимаете… Вы понимаете… Я хочу, я хочу… Это ничего, я думаю? – француз дрожал. – Ведь она же настоящая дикарка. Вы понимаете, я хочу, я хочу… Это ничего, я надеюсь. Я очень извиняюсь… Но…
Орлов вскочил со стула, угодливо заулыбался, затряс бородой:
– Пожалуйста, пожалуйста, полковник. Ради бога, не извиняйтесь. Будьте как дома.
Оба полковника щелкали шпорами, раскланивались.
– Мы, русские, на это смотрим проще, без всякой философии. Желаю успеха. До свидания. Вас никто не побеспокоит.
Орлов скрылся за дверью. Француз подошел к Кате, схватил ее за талию. Девушка сердито отшвырнула его руку.
– Ну, ты, мусью, не балуй у меня!
Глаза офицера стали совсем маслеными, прищурились, рот полураскрылся, с красной нижней губы потянулась блестящая, тонкая, вонючая нитка слюны.
– Прелестная дикарка, ты понимаешь, я хочу тебя поцеловать.
Катя подняла к самому носу француза круглый, полный кулак.
– Только сунься, старый черт, образина басурманская!
Француз обеими руками обнял девушку.
– Прелестная дикарка, я хочу… Твердый как камень кулак ткнул полковника в глаз, в губы, в ухо. В голове француза зашумело, из носа потекла кровь. Катя со злобой совала кремнистый кулак в гладкую, холеную физиономию.
Полковник Орлов шел к себе в школу. На главной улице, перед домом Кузьмы Незнамова, толпился народ. Во дворе громко плакали ребятишки, с воем рыдали женщины. Чехи вытаскивали от Незнамовых столы, стулья, шубы, сундуки, грузили на высокие зеленые фуры. Вся семья Кузьмы – жена, двое ребятишек и старуха мать, всхлипывая, дрожали на крыльце. Сам Кузьма стоял на дворе бледный, без шапки, с иссеченным в кровь лицом. Чешский офицер показывал плеткой на заржавленную берданку, найденную в подполье, и кричал:
– Сознайсь, ты есть большевик? Сознайсь, все равно повесим.
– Вот хоть сейчас убейте, не большевик я. Берданку, это точно – спрятал, но для охоты, а не для чего-нибудь такого.
Чех поднял руку, плеть изогнулась. Кривой, кровавый рубец вспыхнул на лице Кузьмы.
– На вот тебе, сволочь.
– Хоть убейте, не большевик я.
– Сволочь!
Лицо вспухло, окровянилось. Незнамов упал на землю. Жена плакала навзрыд. Старуха тряслась, как в лихорадке, по лицу у нее текли крупные слезы. Трехлетний Петя и пятилетняя Маша смотрели широко раскрытыми глазенками. Два чеха солдата стали привязывать короткую петлю к колодезному журавлю. Десяток любопытных со страхом жались в воротах. Глаза, округленные боязнью, чернели неподвижными зрачками. Корнет Полозов и французский лейтенант спокойно наблюдали за истязанием.
Лейтенант, играя моноклем, говорил Полозову:
– Мы не разрушаем, не идем против русских народных обычаев. Ведь нагайка и виселица – это в русском духе. Конечно, во Франции это могло бы показаться устарелым, но здесь таковы нравы, таковы обычаи. С русскими нужно бороться по-русски.
Корнет любезно улыбнулся и спешил уверить лейтенанта:
– О да, вы правы, лейтенант. С большевиками, с этими дикими зверями, можно говорить только их языком.
Обессилевшего Кузьму подвели к журавлю, надели на шею петлю. Костя Жестиков, случайно бывший во дворе, подбежал к виселице.
– Стойте, господа, я провожу его на тот свет. Доброволец прыгнул на спину Незнамову, ухватился за шею. Чехи со смехом быстро подняли обоих на воздух. Кузьма высунул огромный синий язык, вытаращил глаза, лицо у него почернело, ноги задрыгали, руки схватились за веревку. Жестиков, повернув к зрителям покрасневшее от напряжения лицо, кричал:
– Последний крик моды, господа, танец повешенного. Спешите видеть, господа.
Жена зашаталась, упала на колени.
– Палачи, будьте вы прокляты!
Голос женщины с отчаянием разрезал онемевший двор. Петя показывал маленькой ручонкой на страшную пару, качающуюся в воздухе, и, улыбаясь, говорил Маше:
– Папаня плясит и длазнится.
Маша смотрела серьезно и не могла понять, что делает отец и почему плачет мать.
– Всыпать ей! – крикнул офицер.
Женщину стащили с высокого крыльца, ткнули лицом в землю. Один чех сел ей на голову, двое схватили за ноги. Толстый, с широким, тупым подбородком унтер-офицер жирными белыми пальцами брезгливо поднял у женщины юбку. Два рослых солдата в новеньких гимнастерках и кепи, похожих на петушиные гребешки, с двух сторон рванули нагайками женское тело. Кровь брызнула с первых ударов. Нагайки стучали, как цепы. Голоса у Незнамовой не было. Она глухо хрипела. Ребятишки плакали. Старуха стояла, разинув рот, слезы у ней бежали непрерывно. Лейтенант подошел ближе, нагнулся немного, взглянул в монокль на окровавленный, вздрагивающий зад женщины.
– Я думаю, что если бы мы привезли сюда гильотину, то русский народ возмутился бы, подумал бы, что мы навязываем ему силой свою культуру. Национальное самолюбие было бы оскорблено этим. Но мы же ведь ничего не делаем здесь такого, что не соответствовало бы русскому духу, обычаям, нравам. Правда, корнет?
– О да, о да, действия иностранных войск безупречны.
Полозов почтительно изгибался, заискивающе смотрел в глаза лейтенанту. Черный, кудрявый пудель француза крутился под ногами, вилял хвостом, взвизгивал. Незнамова вынули из петли. Костя ткнул его шашкой в висок.
– Чтобы не раздышался, мерзавец.
Жестиков вытер шашку о брюки повешенного. С соседнего двора привели женщину с серым лицом и черными губами. Чех конвоир что-то забормотал офицеру. Офицер выслушал, махнул рукой. Женщину подвели к петле. Товарищ Жестикова, Ника Пестиков, в беленькой рубашке с красными погонами вольноопределяющегося, подошел к приговоренной.
– Теперь моя очередь кататься, – засмеялся он Косте.
Костя улыбнулся.
– Валяй.
Новая пара поднялась вверх. У женщины лопнули связки шейных позвонков. Она умерла мгновенно. Пестиков кричал сверху:
– Снимай, эта не пляшет. Не из веселых попалась. Зрачки десятков глаз неподвижно застыли. Лица стали каменными, их точно покрыли штукатуркой. Незнамова потеряла сознание. Ее все пороли. Кусочек запекшейся густой крови упал на белый, крахмальный обшлаг сорочки лейтенанта. Француз скривил гладко выбритую губу, длинным, заостренным ногтем стал соскабливать красное пятно. Пятно расплылось шире. Офицер запачкал палец, раздраженно дернул маленькой головой в высоком кепи, повернулся, пошел со двора, кивнул корнету.
– Троцкий, Троцкий, поди сюда! Поди сюда! – позвал француз свою собаку.
– Поди сюда, Троцкий, скверный пес! Поди сюда, скверное животное!
Пудель вилял хвостом, прыгал на задних лапах.
– Троцкий, ты не убежишь к своим в тайгу? Нет, Троцкий?
Собака терлась о сапоги, визжала, мешала офицеру.
– Пойдем, пойдем!
По улице ехали зеленые фуры, нагруженные доверху крестьянским скарбом. Чехи вывозили в город конфискованное имущество большевиков и их родственников, заподозренных в большевизме. Медвежинцы молча смотрели из окон. С другого конца села навстречу чешским фурам скрипели телеги с ранеными итальянцами из-под Пчелина.








