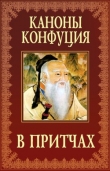Текст книги "Конфуций"
Автор книги: Владимир Малявин
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 29 страниц) [доступный отрывок для чтения: 11 страниц]
Всепокоряющая мощь и безупречная воля, изобилие и чистота: таковы священные атрибуты древнекитайского царя-сверхчеловека – Единственного из людей. Царь в древнем Китае хранил в себе правду: все его зримые атрибуты и образы – это только непреодолимая стена, экран для обманчиво-радужных теней. Он одновременно властитель, мудрец и святой, а единство знаний и свершения достигалось им в усвоении творческого начала мира, подобно тому, как питательная среда усваивается живым организмом. Китайский мудрец (который, будем помнить, является также царем) не познавал, не переделывал, а «вкушал», «поглощал», «воплощал собой» реальность. И вкушал он не тлен и прах мира, а тончайший экстракт жизни, творческую силу, «семена» вещей. Он питался от верховной гармонии космоса, «небесной полноты природы» – реальности символической, которую нельзя только ощущать или только знать. Эта природа вещей открывалась как неисчерпаемая глубина опыта, угадываемая, предвосхищаемая, но превыше всего как бы оберегаемая сознанием внутри себя. Случайно ли, что в китайской традиции столь видное место занимали понятия, относящиеся к интимным и внеобразным формам восприятия – например, слуху и обонянию? Для китайцев музыка – первое и глубочайшее искусство, и мудрость проистекала из уменья слушать, внимать бездонной музыке творческих метаморфоз бытия. Что же касается пищи, то она уже в древнейших канонах Китая была объявлена «основой жизни народа» – и это стало в Китае отнюдь не только констатацией факта физиологии, хотя… и этим тоже! Простая, на удивление приземленная правда китайской традиции гласила: каждый есть то, что он ест. «Питающиеся зерном разумны и понятливы. Питающиеся травой сильны, но слабоумны. Питающиеся мясом храбры, но безрассудны. Питающиеся землей лишены разума и дыхания…»
Не удивительно, что законы правильного питания, секреты пищи, одновременно вкусной, здоровой и радующей взор всегда привлекали особое внимание ученых старого Китая. Цель же китайского кулинарного искусства заключалась в том, чтобы добиться как можно более гармоничного и чистого смешения животворных эссенций продуктов – такого смешения, которое явилось бы прообразом «неизменной середины и согласия» всего сущего. Даже болезни и лекарства китайские врачи уже во времена Конфуция соотносили с определенными вкусовыми ощущениями. Питаясь в соответствии с движением универсума, правитель, согласно традиционным взглядам, вбирал в себя творческие импульсы всех жизненных метаморфоз. Так он покорял пространство и время и обретал бессмертие, точнее – вечное здоровье в «духовном светоче» (шэнь мин)жизни. В сущности, только он, Единственный, обладал бессмертной душой, оказывавшей к тому же благотворное воздействие на потомков. Обыкновенные же люди умирали в момент физической смерти, и души их разлагались вместе с бренным телом.
Что же такое верховная реальность, божественное бытие в классической мысли Китая? Как ни странно, всего лишь количественные и периодические законы развертывания пространства и времени, Великого Пути мироздания, явленного в бюрократическом распорядке государства и в конце концов рассеивающегося в неисчерпаемом разнообразии жизни; здесь каждая сущность как бы расплывалась, теряла себя в бесчисленном множестве нюансов, в бездонной глубине превращений – глубине живого сопереживания, сочувствия со всем сущим в «едином теле» бытия.
Ясно, что в рамках такого миросозерцания в Китае не могла зародиться идея гражданского общества, состоящего из индивидов, юридических «субъектов права». Все подданные правителя были только статистами при Единственном из людей и его незримом мироустроительном священнодействии. Публичная жизнь в древнем Китае была, по существу, не более чем видимостью и, помимо всецело символогических регламентов царской планиметрии, регулировалась чисто практическими, текучими интересами повседневности. Недаром в литературе старого Китая городская жизнь служила поводом не столько для реалистических описаний быта горожан, сколько для рассказов о всевозможных чудесах, живописания феерических, часто заведомо нереальных картин праздничных гуляний, вольной жизни веселых кварталов и т. д. Правда, некоторые исследователи усматривают известное сходство уделов в Китае эпохи Обособленных царств с городами-государствами, полисами Древней Греции, но сходство это случайное и поверхностное. Оно подсказано скорее обычной скученностью городского населения, неизбежной публичностью быта и культуры горожан. В той же столице Лу дома жителей столь густо лепились друг к другу, что какой-нибудь знатный повеса, взобравшись на крышу своего дома, мог заигрывать с женой соседа. Существовало некое подобие общественного мнения, хотя оно вовсе не имело силы закона и в большинстве случаев играло роль как бы третейского судьи в спорах отдельных кланов. Реальной почвы для оформления собственно городской общины в древнем Китае не было: каждая семья оставалась как бы маленькой копией государства, да и соперничество семей и кланов, сохранившийся обычай кровной мести – тоже черты догородского, патриархального уклада.
В жизни людей эпохи Обособленных царств разрыв между традиционной патриархальной символикой и реальностью общественных отношений становился все более зримым, все более резким. Договоры между царствами, заключавшиеся именем великих предков Чжоу, оставались пустым звуком. Последний раз попытка всеобщего примирения была сделана за несколько лет до рождения Конфуция. Согласно данной участниками договора клятве, правителя, начавшего войну, ожидали «кара духов, потеря царства и гибель рода». Но даже самые страшные клятвы не могли заставить тогдашних стратегов отказаться от их циничного правила: «Что можно взять, надо брать». Вскоре военные действия вспыхнули вновь. Не стало доверия в отношениях не только между царствами, но и между правителями и их служилыми людьми и даже между родственниками. Интриги, предательства, убийства вчерашних сообщников, кровопролитные мятежи и дворцовые перевороты стали суровой политической действительностью Срединной страны. Всюду торжествовало право сильного.
В 536 году до н. э., когда Конфуцию было пятнадцать лет, советник царства Чжэн Цзы-Чань отлил бронзовый сосуд с полным перечнем царских законов (в Китае знали только одну форму законодательства: уголовный кодекс). Новшество Цзы-Чаня подверглось ожесточенным нападкам родовитой знати, усмотревшей в нем посягательства на ее традиционные привилегии. Однако дряхлевшая аристократия была уже не в силах вернуть старые добрые времена. Еще одним шагом вперед стал новый порядок взимания государственных податей: вместо прежних отработок на господском поле крестьяне стали выплачивать налог с пахотной земли. Впервые земельный налог был введен как раз в царстве Лу в начале VI века до н. э.
В ряду прочих «Срединных царств» Лу не выделялось ни большой территорией, ни военной мощью. Его правителям из века в век приходилось больше думать о том, как противостоять натиску могущественных соседей: с севера лусцев теснило царство Ци, с юга на них наседало не менее могучее «полуварварское» государство У. Чтобы как-то сберечь свои владения и свое достоинство, правителям Лу приходилось проявлять чудеса дипломатической изворотливости. Чаще всего они обращались за помощью к постоянным соперникам Ци – «полуварварским» южным царствам Чу или У. Незадолго до рождения Конфуция луский правитель даже отстроил себе новый дворец в чуском стиле, который местные аристократы нашли вульгарно-пышным и слишком далеким от мудрой безыскусности первых чжоуских царей. Впрочем, и царский дворец, и сам правитель давно уже имели в Лу только декоративное значение. Уже с начала VII века власть в царстве прочно удерживали в своих руках члены трех знатных семей, потомки трех братьев луского правителя Хуань-гуна. Эти семьи звались по именам трех братьев Мэн, Шу и Цзи, означавшим буквально Старший, Третий и Младший. В 562 году до н. э. предводители этих трех семей поделили между собой территорию царства и почти все его доходы, предоставив правителю выполнять церемониальные обязанности. Без покровительства «трех семей» стало невозможно сделать карьеру на государственной службе.
Мы видим, что Конфуций жил в обществе, пораженном глубоким кризисом традиционных ценностей. Старые боги умерли, а бездонные глубины Небес хранили молчание. На виду у всех клятвопреступники, узурпаторы трона, отцеубийцы не только благополучно избегали кары духов, но преуспевали и царствовали. Вместе с религией тяжкий кризис переживала этика: господа беззастенчиво обманывали честных слуг, подданные предавали своего государя, и даже супружеская измена не была редкостью в придворных кругах. Рухнули старые запреты. Исчезли целомудренные нравы древних: алчность, тщеславие, злоба, похоть завладели умами и сердцами людей. А потому и веры в справедливость небесного суда у современников Конфуция заметно поубавилось: горечью и негодованием дышат строки иных народных песен того времени, звучащих как богоборческий вызов Небесам:
Велик ты, неба вышний свод!
Но ты немилостив и шлешь
И смерть, и глад на наш народ,
Везде в стране чинишь грабеж!
Ты, небо в высях, сеешь страх,
В жестоком гневе мысли нет;
Пусть те, кто злое совершил,
За зло свое несут ответ,
Но кто ни в чем не виноват —
За что они в пучине бед?.. [1]1
Перевод А. Штукина.
[Закрыть]
Что было делать свидетелям тогдашнего духовного брожения? Упрямо держаться за одряхлевшие, утратившие власть над умами истины? Разуверившись во всем и вся, искать новые идеалы? Жить, руководствуясь только инстинктами хищника? Конфуций был одним из тех, кто с особой остротой переживал этот выбор, и он сумел дать на него ответ не просто словами, какими бы правильными и искренними они ни были, а всей своей жизнью. Он стал тем, кто сумел поверить сам и убедить других, что человек способен в любых обстоятельствах оставаться человеком и что такой человек сильнее самого могущественного тирана.
Обратив свои помыслы к учению…
«В пятнадцать лет я обратил свои помыслы к учению…» – скажет о себе Конфуций, оглядываясь на свою давно ушедшую молодость. Какой смысл вкладывал в эти слова престарелый Учитель? Едва ли он имел в виду школьное обучение, которое началось для него, вероятно, несколько раньше. Несомненно, он имел в виду нечто совсем другое и даже противоположное школярской зубрежке. Он говорил о стремлении расширять свои познания, свое понимание вещей и благодаря этому изменяться, совершенствоваться самому. Он говорил о жизни, пронизанной сознанием и волей, сознательно и вольно прожитой; о нашей воле быть тем, чем мы должны быть. Такое учение оказывается синонимом человеческой культуры и притом взятой в ее самых глубоких, уходящих в тайну творческого духа истоках. У этого учения есть начало: внезапное открытие бездонной глубины сознания. Но у него нет конца. Будучи всегда вестником нового, усилие Конфуциевой «воли к учению» дает нам возможность осознать присутствие Изначального, снова и снова возвращает нас к недостижимо-древнему. Случайно или нет, иероглиф «учение» стоит первым в тексте «Бесед и суждений», начальная фраза которого гласит:
Учитель сказал: «Учиться и всякое время прикладывать выученное к делу – разве это не удовольствие?»
Примечательно, что удовольствие, доставляемое учением, тут же поставлено Учителем Куном в один ряд с радостью поучительной приятельской беседы и стоической выдержанностью благородного мужа. В том же первом изречении мы читаем далее:
Беседовать с другом, приехавшим издалека, – разве это не радостно? Не быть по достоинству оцененным светом, а обиду не таить – не таков ли благородный муж?
Конечно, Конфуций прекрасно видел различие между показной образованностью и подлинным пониманием. Он охотно повторил бы за Гераклитом его знаменитые слова: «Многознайство не есть мудрость». И он сам, повзрослев, частенько напоминал ученикам:
Древние люди учились для себя. Нынче люди учатся, чтобы подивить других.
К специальным знаниям и профессиональным навыкам он относился по меньшей мере иронически, а порой и с откровенным пренебрежением. Он с готовностью признавал ограниченность своих познаний и не отказывал себе только в одном: в желании учиться. Эту ненасытную страсть к учению Конфуций считал, кажется, своим главным достоинством:
Учитель сказал: «В любом селении из десяти домов найдется человек, который не уступит мне в добродетели. Но никто не сравнится со мной в любви к учению».
Учитель сказал: «Учись так, словно твоих знаний тебе вечно не хватает, и так, словно ты вечно страшишься растерять свои познания».
Книжное знание редко бывало в чести у основоположников великих религий. Христос не читал книг. Магомет и вовсе был неграмотным. Будда учил неизъяснимой ясности сознания. Да и в Китае родоначальники одного из самых глубоких и влиятельных течений китайской мысли – даосизма – утверждали: «Тот, кто учится, каждый день приобретает; тот, кто живет не по правде, каждый день теряет». Для Конфуция же ученость и отточенный многолетним учением, искушенный ум был неотъемлемой частью жизненного идеала. Конфуций не мог поступиться образованием, ибо видел в нем самый естественный и благодарный путь раскрытия человеческих способностей. Открывая нам богатства духа, образование делает нас более чувствительными к тому, что происходит в нас и вокруг нас; оно развивает духовный слух. А в результате «воля к учению» заставляет острее сознавать наше отличие от других людей, дистанцию, отделяющую нас от мира, и побуждает нас к нравственному совершенствованию. Среди «мужей, преданных учению, редко встретишь человека закосневшего», – резонно отмечал Учитель Кун. Быть может, Конфуциева апология учения и в самом деле начиналась с наивной, по-детски неуемной жажды познания. Но находила она оправдание в доверии к жизни осмысленной и вобравшей в себя всечеловеческий опыт.
Жизнь стоит того, чтобы ее изучать, ибо она хранит в себе загадку человеческого величия: вот главная посылка Конфуциевой философии. Оттого же учение для китайского мудреца – не только практическая необходимость или нравственная потребность, но и часть быта, одна из радостей повседневного существования наравне, скажем, с дружеской беседой или веселой прогулкой.
Следовало бы, однако, помнить, что, решив посвятить себя учению, Конфуций сделал нелегкий личный выбор. Ему, сыну воина, да к тому же не обделенному ни здоровьем, ни физической силой, более пристали бы ратные подвиги. Карьера же ученого или гражданского чиновника по многим причинам была для него особенно затруднительной. С его далеко не привлекательной, а для многих и попросту уродливой внешностью он имел мало надежды приобрести тот светский лоск и обаяние, без которых в обществе спесивых аристократов его времени было почти невозможно снискать авторитет. Кроме того, не имея высокого покровителя, он не мог рассчитывать и на быстрое продвижение по службе. Наконец, в тот циничный, изуверившийся в старых идеалах век искреннее желание исполнять заветы древних давало, наверное, меньше всего шансов применить свои способности и знания в делах государственного управления.
С того момента, когда молодой Кун Цю решил «обратить свои помыслы к учению», началась его сознательная, взрослая жизнь. Надо заметить, что приблизительно в том же возрасте, лет в шестнадцать-семнадцать, юноши в древнем Китае достигали совершеннолетия. По этому случаю совершали специальный обряд перед семейным алтарем: виновнику торжества укладывали волосы пучком, как у взрослого, и надевали на него высокую шапку мужчины. Возможно, в глазах самого Конфуция решение стать ученым и достижение им совершеннолетия были тесно связаны между собой, так что традиционная церемония приобрела для него еще и особый личный смысл. Что ж, мы не ошибемся, если скажем, что весь жизненный путь Конфуция был поиском внутреннего, личностного смысла традиции.
В скором времени Кун Цю пришлось продемонстрировать серьезность своих намерений. Когда ему шел восемнадцатый год или, может быть, чуть позже, умерла его мать. Цю похоронил ее со всеми почестями, в строгом соответствии с древними обычаями, чем в очередной раз заставил говорить о себе всю округу. Каково же было удивление его соседей, когда они узнали, что благочестивый Цю сделал только временное захоронение у перекрестка дорог, а сам решил во что бы то ни стало отыскать место погребения своего отца и перенести туда прах матери. Он съездил на родину и там от одной старой женщины узнал, что Шулян Хэ похоронили у горы Фаншань в нескольких верстах к востоку от Цюйфу. Он разыскал могилу отца и на том же месте захоронил останки матери. (Место это известно до сих пор.) По преданию, он велел насыпать над родительскими могилами высокий холм, пояснив: «Я слышал, что древние не насыпали курганов над могилами, но я собираюсь в будущем ездить на восток и на запад, на юг и на север и должен позаботиться о том, чтобы я мог легко узнавать могилы предков». Эти слова Конфуция скорее всего вымышленны, но нет сомнений в том, что, занимаясь похоронами матери, Кун Цю и в самом деле показал себя на редкость серьезным и честолюбивым юношей, готовившим себя к необыкновенной судьбе. В его поступках уже без труда угадывается Конфуций зрелой поры жизни – тот Конфуций, который любил говорить:
Благородный муж распространяет уважение на всех людей, но более всего уважает себя.
Можно не сомневаться и в том, что Кун Цю строго соблюдал правила ношения траура по усопшей матери, а правила эти требовали от сына в течение двух и даже более лет вести прямо-таки аскетический образ жизни: не есть скоромного, не спать на мягком, не слушать музыку, носить одежду из грубого холста и, конечно, не состоять на государственной службе. Но неукоснительное выполнение всех правил траурной аскезы, надо полагать, лишь возвышало юношу в его собственных глазах. Предание донесло до нас любопытный эпизод из тогдашней жизни Конфуция, свидетельствующий о том, что в свои семнадцать-восемнадцать лет Кун Цю и в самом деле был юношей очень честолюбивым и даже явно переоценивавшим свои возможности. Он еще не снял траура по матери, когда глава клана Цзи – самого могущественного из трех семейств царства Лу – устроил большой пир для служилых людей, и Кун Цю, уже видевший себя настоящим «сыном правителя», одним из первых явился в дом всесильного царедворца. Но привратник дома по имени Ян Ху оказал юному посетителю более чем прохладный прием. «К хозяину приглашены служилые люди, а тебя никто не звал», – отрезал он. Более обидных для Кун Цю слов и придумать было невозможно. В полном замешательстве будущий великий Учитель удалился, не сумев найти достойного ответа обидчику.
Несмотря на афронт, полученный от человека, которого Кун Цю прочил в свои покровители (семейство Цзи, кажется, покровительствовало его отцу), целеустремленный и талантливый юноша, несомненно, уже приобрел некоторую известность в родном царстве. Едва ли сын старого солдата мог быть настолько в себе уверен, если бы он не чувствовал за собой поддержки каких-то влиятельных лиц. Правда, аристократы смотрели на него свысока, называли не иначе как «сыном человека из Цзоу», намекая на то, что отец его был из мелких начальников захолустного городка – не чета обитателям столицы. Одним словом, Кун Цю в столичном обществе уже знали, но еще не вполне признали. А будущий Учитель между тем уже вступал во взрослую жизнь. В девятнадцать лет Кун Цю обзавелся семьей, но о жене его почти не сохранилось сведений. Из позднейших источников известно только, что она была родом из служилого семейства Цзи в царстве Сун. Возможно, одинокий и небогатый молодой человек, каким был тогда Конфуций, не смог бы заключить этот брак без протекции влиятельного лица в своем царстве. Похоже на то, что семейная жизнь у Конфуция не сложилась, и он с женой разошелся, пережив ее на несколько лет.
Во всяком случае, супруга Конфуция никакого участия в делах мужа не принимала, а сам он считал привязанность к домашнему очагу недостойной настоящего мужчины и с готовностью пускался в странствия, претворяя в жизнь собственное пророчество о том, что ему суждено быть «человеком севера, юга, запада и востока». Ну а пока Кун Цю был счастлив с молодой женой: спустя год после свадьбы у него родился сын. И – о, радость! – сам правитель царства прислал ему по этому случаю карпа – традиционный символ удачи. Это был самый мизерный подарок, который только можно было получить от государя, но надо ли говорить, что для гордого юноши он был дороже всех богатств Поднебесной. Его заметили и оценили при дворе! Теперь жди новых радостных вестей… Растроганный отец дал своему первенцу имя Ли, что значит «карп», а прозвище – Боюй, то есть «старшая рыба». Он явно надеялся, что в его дом приплывут новые карпы, но обманулся в своих ожиданиях. Жена впоследствии родила ему еще только дочь.
Если сам правитель царства оказал Кун Цю знак внимания, пусть даже скромный, это означает, по всей видимости, что к тому времени он уже находился на государственной службе. Видно, злополучный визит к семье Цзи не прошел незамеченным, и напористому «сыну человека из Цзоу» дали возможность показать себя. Считается, что карьера Конфуция началась с небольшой должности во владениях той самой семьи Цзи: ему поручили надзирать за какими-то хлебными амбарами и сбором налогов с окрестных земель. Такая служба не сулила ни славы, ни быстрого продвижения наверх и едва ли могла удовлетворить амбиции будущего Учителя всех поколений. К тому же Конфуций всегда смотрел с полным равнодушием, если не сказать с презрением, на всякие технические знания и профессиональные навыки. Он был убежден, что управленческая рутина только мешает благородному мужу претворять его возвышенные помыслы – ведь он верил во всемогущество ритуала – действия не столько технического, сколько символического. Впоследствии он якобы говорил о своей деятельности в роли учетчика при хлебных амбарах: «Я только следил за тем, чтобы записи велись правильно, вот и все». Эти слова Конфуция стали образцовыми для многих поколений ученых мужей старого Китая, которые, принимая служебное назначение, говорили себе по примеру Монтеня, что «возьмут дело в свои руки, но не в свое сердце». Нельзя сказать, однако, что служба при амбарах не принесла Кун Цю пользы. Благодаря ей он близко узнал жизнь простых крестьян, научился понимать их нужды и чаяния и проникся к ним искренним сочувствием. Опыт, приобретенный им за эти годы, многое определил в его взглядах на способы и цели государственного управления.
Даже если Кун Цю не был в восторге от своих служебных обязанностей, он, конечно, не мог позволить себе хотя бы в малейшей степени пренебрегать ими. Его усердие оценили, и спустя некоторое время он стал управляющим всех пастбищ семейства Цзи. Должность немалая для молодого человека двадцати лет от роду, но по-прежнему далеко не удовлетворявшая амбиций потомка царского рода и уж тем более, как он сам думал о себе, нового Чжоу-гуна в будущем. О своей службе надзирателя стад он скажет потом все в том же то ли снисходительно-ироничном, то ли подчеркнуто деловом тоне: «Я следил за тем, чтобы буйволы и бараны росли здоровыми и жирными, вот и все». Заявление это, кажется, отдает горечью. Однако и это суждение поклонники Конфуция в Китае сочти напутствием служилым людям, восславив Учителя Куна еще и как образцового чиновника.
В свои двадцать с лишним лет Кун Цю мог считать, что кое-чего достиг в жизни. Его заметили, ему дали попробовать свои силы на служебном поприще, о нем знали даже при дворе. У него была репутация талантливого и ученого человека, примерного служащего. Казалось, у него были все возможности сделать блистательную карьеру. Но шли годы, а в его положении не происходило никаких перемен. Мы можем лишь догадываться, что было тому причиной. Быть может, ему просто не везло или у него не было нужных связей. Но скорее всего причиной его невезения был он сам, точнее – его такой неприспособленный для служебной карьеры характер. Конечно, урок, преподанный ему когда-то привратником семейства Цзи, не пропал даром. С годами Кун Цю поборол свои неуклюжие манеры и ту резкость в поступках, которые свойственны честолюбивым юношам из бедных семей. Однако и позднее отец «китайских церемоний» отнюдь не отличался дипломатическим тактом. Он совершенно не умел угождать, лицемерить, плести интриги, выжидать, одним словом, – делать все то, что необходимо для быстрого и успешного продвижения к высотам власти. Он решительно не признавал никаких уверток и ухищрений – ни в большом, ни в малом. Его прямодушие, безукоризненная честность, бесстрашные суждения вкупе с его, мягко говоря, странным обликом могли бы смутить любого из тех, кто пожелал бы ему покровительствовать. И то, что могло показаться поначалу случайностью, обычным невезением, постепенно обретало определенность и весомость жизненной судьбы. Время открывало ему новый – и суровый, и упоительный – смысл его устремлений:
Не беспокойся о том, что не занимаешь высокий пост. Беспокойся о том, хорошо ли служишь на том месте, где находишься.
Не беспокойся о том, что тебя не знают. Беспокойся о том, достоин ли ты того, чтобы тебя знали.
Со стороны положение Кун Цю на третьем десятке его жизни казалось все более незавидным. По бедности он едва ли мог оставить службу, которая, как он знал, не сулила ему ничего, кроме скучной канцелярской рутины. Ему грозила страшнейшая из пыток: жизнь, лишенная событий. Выручила Кун Цю лишь его ненасытная страсть к учению. Живя в предместье Цюйфу, он, без сомнения, мог легко свести знакомство со столичными знатоками канонов, музыки, ритуалов и часто беседовать с ними, перенимая их мудрость. А потом пришел день, когда его впервые провели в дворцовые архивы и он собственными глазами увидел связки книг, а рядом – писцов, заносивших на свежевыструганные дощечки летопись событий луского двора. Здесь на его глазах свершалось величайшее таинство культуры: мимолетные и как бы случайные явления жизни, излившись под резцом летописца столбиком узорчатых знаков, становились вестниками вечного, неуничтожимого, величественного смысла. Писцы, архивариусы, смотрители царских хранилищ охотно открыли перед молодым ученым двери своих кладовых, а там было что посмотреть. Еще первый царь Чжоу позволил своему мудрому брату Чжоу-гуну и его наследникам совершать все обряды в своем уделе по царскому чину. Со времен Чжоу-гуна во дворце луских правителей хранилось богатейшее – наверное, не хуже, чем у самого властелина Чжоу, – собрание всевозможных принадлежностей для древних ритуалов. А сами правители Лу старательно поддерживали незабвенный декорум старины, вдохновляясь не столько любовью к своим августейшим предкам, сколько вполне практическими соображениями: их репутация хранителей чжоуского наследия и высших авторитетов по части церемоний немало помогала им, не располагавшим ни большими богатствами, ни сильным войском, улаживать миром споры со своими могущественными соседями. «Лу держит ритуалы Чжоу», – говорили в те времена. Сохранилась любопытная запись о том, как сановник из Лу однажды прибыл с посольством к правителю царства Цзинь (это случилось как раз за несколько лет до рождения Конфуция). На приеме в царском дворце посол не поблагодарил хозяев за исполнение самых торжественных мелодий, зато отвесил учтивый поклон после того, как услышал более непритязательные песни. На недоуменные вопросы хозяев он ответил, что торжественные мелодии предназначены только для приемов у чжоуского царя и поэтому решил, что музыканты, исполняя их, «просто упражнялись в мастерстве», и, стало быть, для выражения благодарности нет повода. Зато исполнением менее торжественных од, поспешил добавить безупречно вежливый гость, правитель Цзинь поприветствовал его и возвестил о шести главных добродетелях возвышенного мужа, на что и следовало ответить самыми учтивыми поклонами. Умели луские мужи показать свое превосходство! В 540 году до н. э., когда Кун Цю вступал в пору отрочества, Лу посетил наследный принц одного южного, «полуварварского» царства. Пораженный тщательным распорядком церемоний во дворце луского правителя, изысканными манерами и тонким вкусом хозяев, гость сделал как нельзя более приятное для лусцев заключение: «Ритуалы Чжоу досконально сохранились в Лу!»
Даже если хвалебные отзывы чужеземных послов являются отчасти данью дипломатическому этикету, нет сомнения в том, что Лу было главным оплотом чжоуской культурной традиции. Только здесь и мог появиться такой великий знаток и любитель древностей, как Конфуций. Только здесь юноша Кун Цю с его страстью к учению мог стать Учителем Куном.
Много интересного открыл для себя Кун Цю в сокровищницах царского дворца, много увидел такого, о чем прежде даже не догадывался или знал понаслышке. Взять хотя бы знаменитые «три реликвии» правителя Лу: огромный лук – наследство великого Чжоу-гуна, драгоценная яшма, спрятанная в изящной шкатулке, и парадная колесница – ее сам повелитель Чжоу подарил Чжоу-гуну для того, чтобы его потомки приезжали на ней к чжоускому двору с изъявлением преданности. (Правда, колесница эта уже много лет стояла без дела – цари Лу забыли про свой долг перед хозяином Поднебесной.) Теперь Кун Цю смог разглядеть всевозможные атрибуты дворцовых церемоний – все эти древние знамена, бунчуки и копья с вытертыми до блеска древками, бронзовые топоры и зеркала, расшитые жемчугом шелковые покрывала, кипарисовые ларцы, старинные, с заусенцами на лезвии мечи, боевые колесницы, парадные шапки с плоским квадратным верхом и подвешенными к нему яшмовыми и жемчужными нитями, перламутровые раковины из южных морей, парчовые халаты и полотняные накидки для похоронных церемоний… Была там кладовая, где лежали панцири больших черепах, использовавшиеся для гадания: когда правитель затевал какое-нибудь важное дело, например, военный поход или ремонт родового храма, придворный гадатель прижигал панцирь раскаленной бронзовой палочкой, а потом читал волю Неба по проступившим на нем трещинам. В отдельном павильоне хранились изделия из яшмы – самого драгоценного для древних китайцев камня. Кун Цю увидел тут зеленоватые кольца би,чья округлость символизировала Небо, и граненые бруски цуй —символ Земли, яшмовые топоры и всевозможные амулеты, назначения которых Кун Цю и сам толком не знал. Молодой ученый любил, уединившись, подолгу рассматривать эти сокровища: яшма притягивала взор своей таинственной глубиной, в которой, словно тающие в воздухе струйки дыма, затейливо вьются и переливаются друг в друга разноцветные прожилки. Случайный, как будто бессмысленный узор, но стоит вглядеться в него пристальнее, и эти странные линии и пятнышки вдруг складываются в как будто знакомые письмена, увлекают в новые и неведомые дали… «Благородная яшма наделена всеми пятью добродетелями служилого человека, – вспоминал он слова старого хранителя царских камней. – Яшма излучает мягкий и теплый свет: вот ее доброта. Она прозрачна и не скрывает узор внутри себя: вот ее честность. Дотронься до нее палочкой – и она издаст чистый звук: таково ее целомудрие. Ее можно разбить, но нельзя согнуть: такова ее стойкость. Она имеет острые края, но никого не ранит: таково ее великодушие. Поистине, яшма – лучший друг служилого человека!» Кун Цю и сам знал теперь, что старый знаток камней был прав.