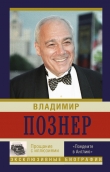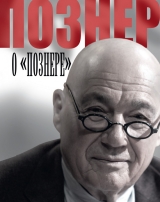
Текст книги "Познер о «Познере»"
Автор книги: Владимир Познер
Жанр:
Публицистика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 9 (всего у книги 19 страниц) [доступный отрывок для чтения: 7 страниц]
В. ПОЗНЕР: У тебя довольно интересный взгляд на свою родину. Ты говоришь: «Мы не понимаем, что такое демократия, не понимаем, что в нашей стране она невозможна. Нельзя говорить об ущемлении демократии в России, потому что ущемлять пустоту невозможно». И еще: «Запад думает, что мы европейцы. На самом деле мы по территории – европейцы, по ментальности мы – не европейцы. У нас есть тенденция к обожествлению власти, поскольку это византийская религия – власть от Бога. У нас тенденция всегда слушаться начальника, и начальник должен быть один. У нас тенденция к вертикали, потому что если нет вертикали – все разваливается. Недаром Струве, по-моему, говорил, что Россия должна быть в подмороженном состоянии, иначе она стекает со стола». Все так?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Конечно.
В. ПОЗНЕР: Твердая рука – это то, что нужно России?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Что значит «нужно»? Она возникает сама собой.
В. ПОЗНЕР: Но она возникает из российского менталитета, культуры и прочего. При этом ты говоришь, что ее не надо бояться. Твоя цитата: «Она может быть очень благотворна. Есть вещи гораздо важнее, чем пресловутая свобода. Думаете, если человеку предложить ввести цензуру и определенные ограничения, а взамен дать ему 3000 долларов зарплаты, социальные гарантии и чистые туалеты, он не согласится? Я сомневаюсь». Скажи, пожалуйста, Андрон, а ты согласишься на то, что тебе дадут 3000 долларов, у тебя будут чистые туалеты, социальные гарантии, но насчет свободы – извини, старик?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Нет. Не соглашусь.
В. ПОЗНЕР: А почему остальные согласятся?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Потому что человеку нужна прежде всего стабильность. Мне стабильность не нужна – я ее себе обеспечил. Моя стабильность – это то, что я могу сделать, обеспечить себя своим трудом. У меня нет капиталов, я ничем не владею, но своим трудом я себя обеспечиваю. Я же не говорю, что это прекрасно, я не говорю, что это необходимо. Замечательный русский марксист Плеханов предупреждал Владимира Ильича, что в России не созрели еще исторически подходящие объективные условия. Что такое «объективные условия»? Многие об этом не задумываются. Но что такое основа демократии? Основа демократии – это правосознание гражданина. Где возникло правосознание, и кто такой носитель правосознания в Европе? Мы все время на Европу смотрим, мы же не смотрим на Китай или на Японию, где, кажется, есть видимость демократии, буржуазия. В Европе в XII–XV веках возникла буржуазия. Буржуазия – это человек, который умеет ткать, либо врачевать, либо делать что-то из мрамора. Ремесленник, который своим трудом заработал не только на пропитание, но и создал рынок – у него возникли деньги, и он стал независим от герцога или феодалиста. Поскольку он стал независим экономически, он стал еще давать деньги в долг, образовал гильдии, а потом сказал: «Дайте мне политическую свободу». Отсюда в XIV веке и началось развитие того, что можно назвать правосознанием. В России же. Пайп замечательно написал о том, что в России не было буржуазии, не возникло. Две попытки создания буржуазии были утоплены в крови – в Пскове и в Новгороде. Я вообще тоскую по буржую – не по тому, которого описывал Маяковский, а по тому, который своим трудом каждый день. Вот возьми европейский ресторан и наш – богатый человек, открывший у нас ресторан, станет там работать? Он наймет двадцать пять сотрудников и будет считать деньги. В этом разница.
В. ПОЗНЕР: А ты вообще считаешь возможным появление буржуазии в России?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Нет. Чудный философ Зиновьев говорил, что при той мощи массмедиа, при той мощи промывания мозгов, которой сегодня обладает государство, любое сознание может трансформироваться. Для этого надо понять, что в России тормозит развитие буржуазии.
В. ПОЗНЕР: Как ты относишься к заметно выросшей сегодня в России роли Русской православной церкви?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Не вижу в этом ничего плохого. Все-таки русскому человеку необходимо иметь какие-то идеалы.
В. ПОЗНЕР: Я спрашиваю тебя не просто так. Ты говоришь, что «нужно прививать людям новый этический кодекс» и «этим должно заниматься телевидение, которое сегодня могло бы заменить церковь. Я не верю, что нынешняя церковь может прививать какие-то этические нормы».
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Церковь как гигантский идеологический аппарат и как серьезная, построенная на очень разумных идеалах вещь, вполне способна помочь государству в развитии того, что я назвал бы реформой национального сознания. Только нужно привнести в религиозную догму, которая существует, новую мысль о том, что богатство и деньги – не грех. Эта идея противоречит православию. Но ведь православие тоже имеет право на диалектическое развитие. Потому что ортодоксия в чистом виде не может жить долго. Диалектика – во всем, природа все время меняет свои законы. И я уверен в том, что Русская православная церковь, если она хочет играть серьезную роль, должна говорить не только о том, что Христос все простит, ной о том, что есть вещи, которые Христос не прощает.
В. ПОЗНЕР: Я задам тебе пару вопросов, которые для меня крайне важны. Ты как-то сказал, что «железный занавес» на самом деле – явление не политическое (хотя это политический термин). Мол, это явление культурологическое, оно лежит на водоразделе «католицизм – православие» и имеет тысячелетнюю историю.
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Да. Русскому гораздо проще договориться с татарином, чем с поляком.
В. ПОЗНЕР: Значит, ты разделяешь мнение Киплинга о том, что Запад есть Запад, Восток есть Восток и вместе им не сойтись?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Нет, Киплинг имел в виду все-таки время колониализма. Я, скорее, разделяю точку зрения замечательного культуролога Хантингтона. Я говорил о том, что происходит столкновение цивилизаций. Но оно происходит не потому, что мусульманство – это только мусульманство. Учти, ни конфуцианство, ни Индия вообще к этому не имеют отношения, потому что в течение долгого времени (об этом Солженицын замечательно написал, писал об этом и Шпенглер) европейская культура оставалась замкнутой на себе. Когда говорят «культура» или «история», всегда подразумевают, что все начинается с античной истории, абсолютно игнорируя колоссальные национальные культуры, которые до сих пор живы. Европа во многом стала надменно навязывать всем свои идеалы, которые считает универсальными. А они не универсальны, и это сейчас доказано. Сегодня Китай или Индия начинают играть большую роль, чем хотелось бы Европе. И надменность Европы, собственно, и вызывает такую активную реакцию мусульманского мира.
В. ПОЗНЕР: В свое время на вопрос: «Что бы ты сделал, если бы тебе предложили заняться воспитанием нации?» ты ответил: «Разработал бы для каждой школы методику прививания уважения к деньгам и индивидуальной ответственности. А начал бы с того, что объявил бы в школах конкурс на самый чистый туалет. И чтобы за чистотой в этих общественных туалетах следили сами школьники, а не уборщицы. Не писай мимо туалета – первый постулат индивидуальной ответственности».
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Да, это очень просто. Бихевиоризм, то есть поведенческая модель человека, строится на его идеалах. Индивидуальной ответственности в России нет, и Чехов замечательно писал, что если в туалете вонь, или все воруют, то в этом виноваты все, а значит никто. Это российская концепция. В этом смысле индивидуальная ответственность должна быть анонимна. То есть если на тебя смотрит Бог, то он смотрит даже тогда, когда ты в туалете, если мы говорим религиозными терминами. Мне кажется, что реформа национального сознания – это основа для создания буржуазии. Пока что наше правительство думает, что достаточно дать людям возможность заработать деньги любым способом, не изменив их отношения к деньгам и к индивидуальной ответственности, которая потом порождает доверие. Сейчас у нас повсеместное недоверие: как у крестьян – только ближний круг. Вот моя семья – это мое доверие. А возвышение соседа, как ты знаешь, – угроза твоему благополучию в России. Медведев об этом сказал, но еще не создано никакого мыслительного инструмента, который донес бы правительству, какие болевые точки в национальном сознании существуют и какие нужно менять. Потому что они не были изменены во время Ренессанса.
В. ПОЗНЕР: Вопросы Марселя Пруста. Какое качество ты более всего ценишь в мужчине?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Юмор.
B. ПОЗНЕР: В женщине?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Заботу.
B. ПОЗНЕР: Есть ли у тебя любимое слово?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Жить.
B. ПОЗНЕР: А нелюбимое?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Умереть.
B. ПОЗНЕР: Что ты считаешь своим главным недостатком?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Их так много.
B. ПОЗНЕР: Это тоже ответ. Где бы ты хотел жить?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Там, где меня любят.
B. ПОЗНЕР: А где бы ты хотел умереть?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Неважно где, важно, кто вокруг.
B. ПОЗНЕР: О чем ты больше всего сожалеешь?
A. КОНЧАЛОВСКИЙ: Ни о чем.
B. ПОЗНЕР: Если бы дьявол предложил тебе бессмертие без условий, ты принял бы?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: Безусловно.
В. ПОЗНЕР: Оказавшись перед Богом, что ты ему скажешь?
А. КОНЧАЛОВСКИЙ: «Я не знал, что вы есть».
16 марта 2009 года
* * *
Разговаривать с Андроном Кончаловским – одно удовольствие. Главное в нем – обаяние ума.
Интервью – это не беседа, тем более не дебаты. Мое дело задавать вопросы, а не спорить. А иногда очень хочется. Особенно с Андроном. И не потому, что я не согласен с ним (хотя часто это так), а потому, что он умен. Ну, какой интерес спорить с глупым человеком, с человеком недалеким, с человеком, у которого кругозор узок, как у тележного битюга (а такие гости у меня, увы, были)? Если бы жанр позволял, я о многом поспорил бы с Андроном. Например, я считаю, что публика стала меньше ходить на авторское кино не потому, что когда-то в кино ходили люди читающие, а ныне ходят нечитающие, а потому, что изменилось само кино, оно практически перестало быть искусством и превратилось в бизнес. Главное мерило успеха теперь – деньги. Я понимаю, что кино всегда являлось индустрией, что кассовый «хит» или провал во все времена имели значение, но в какой-то момент это оказалось определяющим. Стало понятно: если человеку предложить выбор между товаром, который требует от него соучастия, размышления и переживания, и товаром, не менее талантливо и профессионально сделанным, но не требующим от него ничего, то он выберет второе. Сказанное, кстати, относится не только к кино, но и к телевидению. Главным в кино стал не режиссер, а продюсер.
Когда Андрон говорит, что в советское время людей в Союзе кинематографистов объединяло отсутствие у всех у них каких-либо прав, а сегодня Союз раздираем, потому что у одних есть финансы, а у других нет, это перекликается с тем, что было сказано выше.
«Русский человек вообще нетерпим, я считаю», – утверждает Андрон Сергеевич. Ладно. А сам он русский человек? Полагаю, что да. А сам он терпим? Не спросил я его об этом, а жаль, потому что, сдается мне, он ответил бы «да», однако при этом не преминул бы указать на то, что он хоть и русский, но «другой». Вообще, не устаю удивляться количеству, в частности, моих знакомых, которые относят себя к «другим русским». Как это им удалось родиться «другими»?
Интереснейшая мысль: в кино важно не только то, что ты показываешь, но и то, что не показываешь. Правда, мысль эта принадлежит не Андрону, а французскому кинорежиссеру Роберу Брессону, но ценности своей она от этого не теряет. И замечательна ссылка Андрона на фильм Копполы «Разговор», где зритель видит не страшное убийство, а лишь брызги крови на стене.
«Дом – там, где любят». Как сказали бы в Америке: «хорошая попытка, но сигары не получишь». На самом деле дом – это гораздо больше, чем место, где тебя любят. Дом – это твой язык, твои интонации, то, как ходят, жестикулируют, улыбаются, это твоя музыка, это множество мелочей. Это значит чувствовать себя «своим». А если жизнь сложилась так, что нет такого места, тогда и говоришь: дом – там, где любят… или еще что-нибудь.
При Петре I возник комплекс неполноценности русских перед Западом. Любопытно. Петр – это тот человек, который превратил дремучую, отсталую Московию в Российскую империю, тот человек, который создал русский флот, регулярную армию, да что говорить – превратил страну в великую европейскую державу. Преодолевая при этом тяжелое, упорное сопротивление всего того, что символизировало исконно-посконную Русь и прежде всего Русской православной церкви. И Петр повинен в комплексе неполноценности русских перед Западом? А кто виноват в надменности, высокомерии русских по отношению к Западу, о чем так язвительно и жестко написал маркиз де Кюстин? Кто внушил русским мысль об их особой миссии, особом пути, о том, что русский народ – народ-богоносец? Тоже Петр?
Мне, конечно же, надо было спросить Андрона о том, как он понимает демократию. К ней, считает он, не готова Европа, так что о России вообще нечего говорить. Более того, демократия в России невозможна – все губит жадность.
Я давно замечал, что аргументы, умопостроения людей консервативных абсолютно безупречны, если принимать их изначальный посыл. В данном случае, если принять посыл, будто неуемная жадность и есть причина того, что Европа не готова к демократии, а в России она и вовсе невозможна, все прочие рассуждения совершенно логичны. Но давайте спросим: а при чем тут жадность?
Дело, как мне кажется, в другом: вера в невозможность демократии в России оправдывает множество поступков. В том числе полный отказ от какой-либо борьбы за демократизацию власти. Это удобно.
«Железный занавес» – не политическое, а культурологическое явление, которое лежит на водоразделе между католицизмом и православием». Как сказал бы Коровьев, свистнуто, не спорю. Но напомню, что сам термин придумал сэр Уинстон Черчилль, и он придавал ему сугубо политический смысл. Андрон же касается вопроса куда более глубокого. «Железного занавеса» фактически более не существует, хотя остатки его все еще присутствуют во многих мозгах. Водораздел между католицизмом и православием определяет существование в России западников и славянофилов, евразийцев и атлантидов, по сути дела, всего того, что мешает России сделать решительный шаг в сторону освобождения от православных пут.
Единственным человеком, который на вопрос «Если бы дьявол предложил вам бессмертие без всяких условий, вы согласились бы?» ответил сразу и решительно: «Безусловно!», был и пока остается Андрон Кончаловский-Михалков.
Сергей Соловьев
режиссер

В. ПОЗНЕР: Такая история. Писатель написал замечательную вещь (проверено историей), например, «Анну Каренину». Вы читаете, размышляете, представляете себе, как выглядят разные герои – Вронский, Степан Облонский, конечно, сама Анна Каренина и так далее. Но появляется кинорежиссер, желающий сделать очередную экранизацию «Анны Карениной». Если взять историю мирового кино, то найдется немало фильмов по этому роману, причем с совершенно выдающимися актрисами в главной роли – Гретой Гарбо, например, Вивьен Ли. Я считаю, что лучше всех сыграла все-таки Татьяна Самойлова. Вопрос: зачем экранизировать? Вот когда балет напишут или оперу по литературному произведению, то их не будут сравнивать с книгой – это отдельная вещь. Кино же непременно сравнивают: похож – не похож, так – не так. И, конечно, никогда не будет похоже, у каждого ведь своя Анна. Тем не менее все упорно делают новые экранизации. И в частности известный режиссер, получивший за свою кинодеятельность массу наград, – Сергей Александрович Соловьев, который сегодня у меня в гостях. Меня действительно интересует ваш взгляд на это. Но сперва – вопросы с сайта. Очемец Макаев пишет: «Глобализация – благо? Не считаете ли вы, что данное явление стирает со временем все идентификационные черты любого народа?»
С. СОЛОВЬЕВ: Я не могу сказать, что это благо. Поднявшись с утра, я не воскликну: «Боже, какое благо, что глобализация существует». Она просто есть. Я не противник ее и не сторонник. Радоваться по этому поводу я особенно не могу, печалиться тоже, поскольку в глобализации имеется много полезных и толковых вещей.
В. ПОЗНЕР: Но вы не считаете, что в результате сотрутся какие-то национальные черты?
С. СОЛОВЬЕВ: Если разумно жить человечеству, то ничего не сотрется, и человечество будет чувствовать себя единым механизмом в этом колоссальном космосе. А если безумствовать, то все сотрется. С глобализацией или без.
В. ПОЗНЕР: Геннадий Михайлович Михолакий: «При СССР был мощный идеологический пресс, однако таланты прорастали, даже инакомыслящие. Сегодня есть экономический пресс, но талантов нет. Есть успешные, модные. Почему так?»
С. СОЛОВЬЕВ: Я не думаю, что талантов нет. Талантливых людей много. Да, жесточайший экономический пресс существует. И как человек, который жил и там, и здесь, я даже могу сказать, что временами этот экономический пресс – более жесткая и нетерпимая машина, чем любой идеологический пресс, это я проверил на собственном опыте.
В. ПОЗНЕР: Владимир Карпович Прусс: «Создается впечатление, что мир становится более опасным и тревожным. Согласны ли вы с таким утверждением? Или же с развитием телевидения и Интернета на людей просто обрушился поток негативной информации, с которой мы не знаем что делать, потому что еще не привыкли?»
С. СОЛОВЬЕВ: Я думаю, что есть основания для тревоги. И валить все на Интернет и на телевидение не стоит, потому что глобальные процессы вселенских ужасов и катастроф существуют, от них не убежишь, не скроешься.
В. ПОЗНЕР: Антон Викторович Быстрянский: «Как вы думаете, почему в нашей стране вместо искусства остается один гламур и никакого содержания? Почему так много насилия и криминала по телевидению, а всю культуру сместили на канал «Культура»?»
С. СОЛОВЬЕВ: Потому что мы не знаем удержу – ни в хвале, ни в хуле. Когда у нас была мощная идеологическая надстройка, то мы ее как-то преодолевали. Даже было какое-то единение всех нормальных, обыкновенных людей, которые хотели заниматься чем-то человеческим. А потом возникла ситуация «мы будем как все». А как это – как все, – мы на самом деле не знали. И поэтому взяли из этой так называемой рыночной экономики прежде всего самые смешные, безвкусные вещи. Оттуда и пошла эта немыслимая тотальная безвкусица. Может быть, она – самая угнетающая вещь, которая есть в нашей жизни. И в этой тотальной безвкусице появился гламур как новое человеческое образование, новая форма человеческого общежития. А они (безвкусица и гламур) повлекли за собой, соответственно, такие инфраструктурные подразделения, как тотально безвкусная гламурная музыка, тотально безвкусный сумасшедший кинематограф, так называемый бокс-офисный кинематограф. Ну и все поехало – в силу нашей наивности и неумения воспользоваться плодами колоссальной революции, которая произошла и которая действительно убила эту страшную бесчеловечную машину идеологического издевательства над людьми. Но взамен этого мы сами себе придумали вот эту ахинею, которую знаем сегодня как нынешнее положение дел в искусстве.
В. ПОЗНЕР: Вопрос от Анны Ковы: «Чего не хватает современной России? Назовите только одну, самую главную, на ваш взгляд, вещь?»
С. СОЛОВЬЕВ: Вы знаете, всего хватает современной России. Не хватает только исторического разума. А все остальное есть.
B. ПОЗНЕР: Теперь чуть-чуть коснемся вашей биографии. Есть довольно любопытные моменты. Это правда, что ваш отец сыграл роль в истории, способствуя приходу к власти в КНДР Ким Ир Сена?
C. СОЛОВЬЕВ: Да, правда. У меня благодаря этому сохранились чудесные детские воспоминания. Я жил в Пхеньяне, в японском доме. Японский дом стоял в вишневом саду – я до шести лет жил там, поэтому хорошо все помню. Стены и перегородки были из папиросной бумаги. И у меня была нянька, тоже японка, Арита, которая со мной разговаривала. Когда я в 1974 году в Японии снимал свою картину, из меня вдруг стали чудовищным образом вываливаться какие-то длинные куски японской речи. Видимо, это Арита, что-то рассказывая, напихала мне в подсознание таинственной японской лингвистики. В принципе, конечно, у меня очень светлые воспоминания, несмотря на то, что, как я понимаю сейчас, папа занимался не самым светлым делом в истории.
В. ПОЗНЕР: Кем был ваш отец? Разведчиком?
С. СОЛОВЬЕВ: Да, он был разведчиком.
В. ПОЗНЕР: Он потом вам ничего не рассказывал о том, как это все происходило?
С. СОЛОВЬЕВ: Он, к сожалению, очень рано умер – в 1956 году, мне было мало лет. Но у меня на всю жизнь сохранилось странное ощущение изумительно счастливого детства.
B. ПОЗНЕР: Вы, будучи в Пхеньяне, как-то общались, дружили с сыном Ким Ир Сена, играли с ним?
C. СОЛОВЬЕВ: Не дружили. Нас брали на официальные представления, ну, и гоняли там, естественно. Первые пять минут мы там стояли вместе с родителями, а дальше нас отправляли куда-то на задворки. Мама рассказывала какие-то ужасные истории про эти игры – что они носили характер борьбы.
В. ПОЗНЕР: Он был старше вас?
С. СОЛОВЬЕВ: Сильно старше. Мог бы вообще стукнуть кулаком в лоб, и тогда моя личная история повернулась бы совсем по-другому.
В. ПОЗНЕР: У вас сохранились какие-нибудь фотографии с Ким Чен Иром? Или вашего отца на трибуне с Ким Ир Сеном?
С. СОЛОВЬЕВ: Нет. Профессия отца не способствовала сохранению такого рода документов. Но есть одна очень трогательная фотография: мама в шляпке, папа в мундире, и я такой – совершенный задрыга, мы сидим на фоне храма на горе Марамбо. В тот день случилась интереснейшая вещь. Папа повел меня посмотреть с храма на окрестности, я высунул голову и упал с храма головой вниз, ударился башкой о гору Марамбо. Когда пришел в себя, меня посадили в «Виллис» – помните, были американские «Виллисы» с опущенными стеклами? – и наш шофер Уваров повез меня на дикой скорости в Пхеньян, к врачам. Пока мы ехали, меня сильно продуло. В больнице врачи сказали: «Тяжелейшее сотрясение мозга, вероятнее всего, будет идиотом. Но это бы еще ничего – у него двустороннее воспаление легких, поэтому, на всякий случай, с мальчиком попрощайтесь». Последствия всего этого до сих пор сказываются.
В. ПОЗНЕР: Я слышал, что вы неоднократно пытались вновь поехать в КНДР, но вас не пускают. Не знаете почему?
С. СОЛОВЬЕВ: Мне всегда говорили, что ветер дует не в ту сторону, что сломала руку женщина, которая выписывает визу. А так я очень хорошо понимаю, почему. Я там не нужен. Это мне хочется, а я там не нужен. Даже туристом.
В. ПОЗНЕР: Поговорим о кино. Я вас цитирую: «У меня от природы никаких особых талантов нет. Я не смог выучить иностранный язык в силу неталантливости. Я не смог обучиться игре на фортепиано.» Вы что, кокетничаете?
С. СОЛОВЬЕВ: Нет, почему кокетничаю? Меня семь лет учили. Сначала у нас не было дома инструмента, купили доску, разрисовали, и я маялся с этой доской. Потом в моей жизни возник Аничков дворец в Санкт-Петербурге – тогда Дворец пионеров имени Андрея Александровича Жданова. Я каждый раз, когда попадаю в Санкт-Петербург, смотрю на пятое окно от угла, от Клодтовых коней – там была моя пыточная, там меня семь лет учили игре на фортепиано. Это было биологически невозможно.
В. ПОЗНЕР: Хорошо. Но для того, чтобы делать кино, тоже нужен талант, или вам кажется, что нет?
С. СОЛОВЬЕВ: Обязательно.
В. ПОЗНЕР: Значит, у вас есть талант?
В. ПОЗНЕР: Вы сказали: «У меня от природы никаких особых талантов нет». Все-таки есть?
С. СОЛОВЬЕВ: Там же слово есть красивое – «особых». А кино – это особый талант нового времени.
В. ПОЗНЕР: Еще вы говорите: «Кино – это моя профессия, я никогда не изменю ей. А мое удовольствие жизненное – это фотография и театр». Значит, от кино удовольствия нет, а от фотографии и театра есть?
С. СОЛОВЬЕВ: Вы как-то очень сурово меня трактуете. Нежнее относитесь к моим высказываниям. Я говорю о том, что любая профессия превращает жизнь в некий быт. И даже моя праздничная профессия кинорежиссера все равно превращает жизнь в профессиональный быт. А когда я попадаю в театр или занимаюсь фотографией, у меня возникает ощущение праздника, который я сделал себе сам.
В. ПОЗНЕР: Вы относитесь к той когорте кинорежиссеров, которые работали и в советское время, и в постсоветское, которые испытали всю прелесть советского времени и сегодняшнего дня. В СССР государство давало или не давало – категории, от которых зависели заработки людей, звания.
Разрешало и запрещало. Возвышало и даже иногда уничтожало. Допускало или не допускало показ фильмов, правда, не для верхов, там, на закрытых просмотрах, они смотрели все, что хотели. И все мечтали: когда же наконец это кончится и мы заживем как на Западе. Но, судя по вашим словам, есть какое-то разочарование: «Нечего говорить, что создателям кино нужно на себя обратиться. Пенять надо на государство, на его апатичность, леность и абсолютное непонимание того, что хорошо, а что дурно». Значит, в какой-то степени хотелось бы вернуться к тому, что было?
С. СОЛОВЬЕВ: Что вы! Я так сильно похож на больного? Нет. Об этом даже речи нет. Речь идет о том, что уж коли мы переехали в некое другое человеческое пространство, то в этом пространстве следует устроить все так, чтобы человеку было хорошо. Чтобы человек мог себя выразить, мог быть в этой жизни адекватным самому себе, а не требованиям рыночной экономики, например.
B. ПОЗНЕР: Но ведь рынок – они есть рынок. Если я хочу делать ту программу, которую делаю, я должен найти человека, готового ее купить. Потому что у меня денег нет, во-первых, чтобы ее самому сделать и, во-вторых, чтобы купить телевизионное время. Я должен найти этого человека, убедить его в том, что это стоит того. Я буду его просить, ион в конце концов скажет либо «да» (если ему понравится), либо «нет». А как иначе может быть при рынке?
C. СОЛОВЬЕВ: Лучше быть зависимым от системы, нежели от какого-то человека. В советские времена было совершенно невозможно уговорить кого-то на что-то. Невозможно запуститься, что называется, в производство, невозможно втолковать, что я хочу это снимать, а не другое. Но! Договорившись, что я это снимаю, я имел дело со скалой, вообще никогда не оборачивался ни назад, ни в сторону, знал, что у меня за спиной – совершенная мощь всего этого тотального безумия, даже если речь шла о какой-нибудь скромной картинке типа «100 дней после детства». Сейчас договариваясь с человеком, я абсолютно не уверен ни в чем. Больше того, приходя на студию каждый день, я смотрю: есть еще картина или ее уже свернули? Сегодня совершенно нормально (я слышал, хотя сам в этом не участвовал никогда) немножечко с каким-то режиссером поснимать и выгнать его. Потом еще немножечко поснимать со следующим, затем опять другого взять. Это абсолютно невозможно было в той ужасной системе – потому что все боялись, вертикально боялись. Система была немыслимая, но иметь с ней дело было проще. Ибо то, что сейчас называется «инвесторы» – это частная инициатива частного человека. Но возьмите Запад – там это не частная инициатива. Если инвестируется проект, то это происходит не на основаниях частных договоренностей Пети с Колей. Инвестиция там взаимовыгодна для человека и для инвестора, потому что инвестор получает за это свою прибыль. А здесь он имеет дело с моими милыми глазами – насколько хорошее впечатление я на него произведу.
В. ПОЗНЕР: В те времена, о которых вы сейчас говорили, инвестор был – государство. Оно вкладывало деньги налогоплательщиков в вашу идею. В общем и целом, вы действительно могли спокойно работать. Не знали, чем это кончится. Теперь положение иное. Предположим, я, человек богатый, вкладываю в вас деньги, рассчитывая тоже на этом заработать. Я ведь не просто даю вам средства, это не благотворительность, а именно инвестирую. И если я вижу, что вы не справляетесь с работой, что мои деньги горят, может быть, я закрою эту картину? Но это делается в любой рыночной стране.
С. СОЛОВЬЕВ: Нет. Инвестор, вступая в инвестиционные взаимоотношения с каким-то новым проектом, уже на берегу зарабатывает, ему выгодно. Вернее, не зарабатывает, а каким-то образом освобождается от налогов – я не знаю точно системы.
В. ПОЗНЕР: Вы немного путаете. Налоговые поблажки есть, но когда речь идет даже не о спонсорстве, а о благотворительности. Инвестирование – это выгодная коммерческая сделка, за это никаких поблажек не дают. Человек вкладывает большие деньги в кино, рассчитывая потом на нем и особенно на DVD заработать. Пойдем дальше. Хочу вернуть вас к 1988 году. Тогда состоялся V Съезд кинематографистов, где, по сути дела, произошла революция. Вся макушка Союза кинематографистов была скинута, возникли новые люди во главе с Элемом Климовым. Спустя семь лет, в 1994 году, во главе Союза оказались вы. И практически первое, что вы сделали, – это публично извинились перед теми людьми, которых, на ваш взгляд, несправедливо обидели, ну, того же Кулиджанова, Бондарчука, Матвеева. После этого, по вашим рассказам, Климов объявил, что руки вам не подаст, а Андрей Смирнов до сих пор с вами не здоровается. Это соответствует действительности?
С. СОЛОВЬЕВ: В общем, да. Мы нормальные люди – здороваемся, конечно, но радости он не испытывает.
В. ПОЗНЕР: Вы считаете, что правильно сделали, когда публично извинились и тем самым дали понять тем, кто тогда были революционерами, что они были не правы?
С. СОЛОВЬЕВ: Вообще вся эта революционность мало соответствует живой жизни, живым человеческим страстям и всему прочему. Я извинился затон, а не за суть. За хулиганский тон, который возник в ходе этого съезда. Такой оскорбительный тон абсолютно не соответствует тому ремеслу, которым мы занимаемся. Он постыден для этой среды. Поэтому я извинялся не за конкретные претензии, а за слова, обращенные друг к другу.
В. ПОЗНЕР: Расскажите, что вообще делается в вашем цеху? У вас две Академии, враждующие между собой: одна не признает «Золотого орла», другая не признает «Нику». В Союзе скандал за скандалом. Я не знаю, принимаете ли вы чью-то сторону, но можете хотя бы объяснить, что происходит?
С. СОЛОВЬЕВ: Нет, я не могу объяснить, что там происходит. Марлена Мартыновича Хуциева я знаю с 1967 года – я пришел на «Мосфильм» к нему на практику. Никиту Сергеевича Михалкова я знаю с 1970 года, мы с ним много работали, и работали счастливо, весело и прекрасно. Того и другого я ценю вовсе не за то, что они члены Союза. Я их просто люблю, это мои друзья по жизни, к тому и к другому я отношусь с огромной нежностью. Когда меня спрашивают о том, на чьей я стороне, я говорю: «Я на своей стороне». Если Господь Бог оставил еще какое-то время на то, чтобы жить и работать, то это нужно использовать толково, а не для каких-то малопонятных споров. И самое главное – мне нравится в нашем ремесле, в нашей области другой тип союзов. Например, союз Феллини и Джульетты Мазины – это чудесный союз, восхитительнейший союз – Микеланджело Антониони с Моникой Витти. У меня есть свой союз, в который входят Марлен Мартынович и Никита Сергеевич, я их очень люблю и ценю в этом союзе.