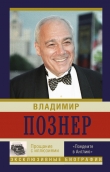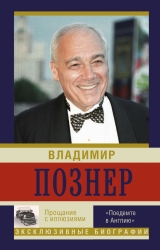
Текст книги "Прощание с иллюзиями"
Автор книги: Владимир Познер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 5 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
Словом, в те годы американцы относились к СССР как нельзя лучше. Например, о маршале Тимошенко шутили, что никакой он не русский, а американец ирландского происхождения, и зовут его Тим О’Шенко. Все понимали, что именно русские дерутся не на жизнь, а на смерть с фашистами, именно Красная Армия и русский народ переломили Гитлеру хребет. Тогда это открыто признавали такие люди, как Рузвельт, Черчилль и многие другие. Сегодня удобно об этом не помнить. Об этом не говорится в американских учебниках. Это такое же извращение истории, какое практиковалось в Советском Союзе и вызывало праведное возмущение в мире. В результате многие американцы, если не большинство, по сей день не знают, какой народ в самом деле победил в войне против нацизма. Говоря об этом, я вовсе не хочу уменьшить вклад Соединенных Штатов, роль ленд-лиза и прочего. Но именно нашей стране пришлось вынести основную тяжесть гитлеровской военной машины на своих плечах, именно она нанесла ей смертельный удар, это даже не вопрос. И в те дни американцы зналиэто, ценили, что проявлялось в их отношении к Советскому Союзу.
* * *
Мало что изменилось. В американских школьных учебниках не сказано ничего о роли СССР в победе над Гитлером, а в нынешних русских учебниках истории реальная помощь Соединенных Штатов обходится молчанием. На ум приходят слова одного английского историка, писавшего, что «история – это прошлая политика, а политика – это настоящая история». Яркое подтверждение тому – то, как освещается сегодня сталинская эпоха и репрессии. После «развенчания культа личности И.В. Сталина» на XX съезде КПСС бывшего «отца народов» стали подавать не только как величайшего злодея (вполне справедливо), не только как маньяка (для чего имелись основания), но и как полуграмотного и слабоумного военачальника, руководившего операциями не по картам, а по глобусу (что вряд ли соответствует действительности). В течение двадцати с небольшим лет после снятия Хрущева в 1964 году и вплоть до горбачевской перестройки образ Сталина как в СМИ, так и в школьных пособиях стал «очищаться» от темных красок: он вновь назывался вдохновителем победы в Великой Отечественной войне, а что до учиненных им репрессий, то эта тема вовсе исчезла. Те же, кто упорно о них напоминал – в первую очередь Александр Исаевич Солженицын, – тоже исчезли: кого отправили в ГУЛАГ, кого в психиатрические лечебницы, кого, предварительно лишив советского гражданства, выкинули из страны. Затем наступили времена Горбачева и Ельцина, а с ними пришла очередная переоценка. Как мне представляется, «мотором» этого движения был Александр Николаевич Яковлев, с которым я познакомился во время его «канадской ссылки». Это было в 1978 году, когда после «проверочных» выездов в Венгрию и Финляндию меня выпустили аж в Торонто для участия в местной телевизионной программе. Я уже собирался обратно в Москву, но получил сообщение, что меня вызывает в Оттаву советский посол Яковлев. За мной прислали машину (чего я никак не ожидал). Я не помню, о чем беседовал со мной Александр Николаевич, но он совершенно точно произвел на меня сильнейшее впечатление – не только умом, но манерой разговаривать, поведением, простотой в общении. Он абсолютно не походил на тех высокопоставленных советских деятелей, которых я встречал прежде (да и после тоже). Мы время от времени виделись потом с Яковлевым – вплоть до его смерти, и пожалуй, главным, чем он подкупал меня, было спокойное чувство собственного достоинства, чаще всего встречаемое у людей деревенских – какое-то очень естественное, органичное. И как я уже упоминал – ум. Помню, как однажды Александр Николаевич «сделал» меня словно ребенка…
Это было году в восемьдесят восьмом. Я тогда завершил работу над документальным фильмом «Свидетель», главным (и единственным) действующим лицом которого являлся личный переводчик Сталина Валентин Михайлович Бережков. Фильм был для того времени убойный, поскольку Бережков рассказывал в нем о дотоле абсолютно закрытых вещах (например, впервые по советскому телевидению мы показали архивные документальные кадры встречи советских и фашистских войск в Польше, когда они совместным парадом прошли мимо трибуны, на которой стояли офицеры вермахта и Красной Армии: первые приветствовали марширующих выброшенными вперед руками и криками «хайль Гитлер!», а вторые, приложив руку к фуражкам, – громкими «ура!»). В одном из эпизодов Бережков поведал о подписании тайного протокола к советско-германскому пакту 1939 года, оговаривающего «сферу интересов» СССР в отношении, в частности, Латвии, Литвы и Эстонии. Советское руководство всегда отрицало существование этого протокола, а тут об этом заявил переводчик Сталина. Гостелерадио отправил фильм в отдел пропаганды ЦК КПСС, возглавляемый тогда Яковлевым. Вскоре тот пригласил меня на встречу. Разговор состоялся примерно такой:
– Владимир Владимирович, очень мне понравился ваш фильм.
– Спасибо, Александр Николаевич.
– Но есть у меня один вопрос. Присутствовал ли Бережков на подписании советско-германского пакта?
– Нет, там был другой переводчик, Павлов.
– Гм. Но ведь ваш фильм называется «Свидетель», не так ли?
– Ну да.
– Тогда давайте говорить только о том, свидетелем чего являлся ваш герой. Так будет честнее. И потому разговор о пакте и о протоколе я попрошу вас убрать…
Но именно Александр Николаевич сыграл ключевую роль в признании Советским Союзом подписания тайных протоколов, именно он добился предания гласности преступлений Сталина и его окружения, и многие, в том числе и автор этих строк, почувствовали облегчение от того, что наконец-то Сталину и советской системе даны пусть жесткие, но честные оценки. Однако зря радовались. С приходом к власти В.В. Путина произошло очередное толкование «истории»: Сталина и его правление «реабилитировали», и ныне признается, что Сталин, хотя и допустил некоторые злоупотребления, руководствовался требованием времени и, безусловно, принес гораздо больше пользы, чем вреда… Злодеяния, грубейшие просчеты, приведшие к гибели цвет нации, – все это тщательно убрано из учебников, из телевизионных программ федеральных каналов. Сталин, поучают нас, был прекрасным менеджером. Так-то.
Хочется излить свой праведный гнев на тех, кто проституирует звание историка, желая тем самым угодить власти. Но зачем? Это было и это будет. И в конечном счете время все ставит на свои места. Жаль только, что приходится платить за это уж очень высокую цену…

Папа, мама и Павлик. Берлин, 1949 г.
* * *
Потребовалось чуть более одного года, чтобы произошел полнейший поворот в головах. К 1947 году в школе имени Стайвесанта меня уже били за мои просоветские высказывания. Все изменилось в одночасье. В американцах глубоко засело до времени спящее чувство антикоммунизма, оно восходило к двадцатым и тридцатым годам: надо было только чуть пошевелить его, и оно тут же зарычало во всю свою глотку. Чувство это было скорее иррациональным, оно основывалось на «красном страхе» прошлых лет. Если сегодня заговорить о рейдах Пальмера, окажется, что девяносто девять процентов американцев не имеют о них ни малейшего представления. Тем не менее страх, внушенный американцам в двадцатых и тридцатых годах, имел прямое отношение к тому, как быстро и легко сумели добиться радикальных перемен те, кто имел на то свои интересы, кто стремился надеть мантию распадавшейся на глазах Британской империи, кому необходимо было оправдать распространение американской экономической и военной мощи во всем мире. Все получилось у них наилучшим образом. Надо сказать, что в этом помог им Сталин. Его поведение – в частности, сокрытие подлинных потерь и разрушений, понесенных СССР в результате войны, не говоря о проведенных по его указке репрессиях против целых народов, – чрезвычайно облегчало задачу воссоздания образа Красного Пугала.
Есть несомненная ирония в том, что свою лепту в это дело внесло и международное левое движение.

Я с Павликом на ступеньках нашего нью-йоркского дома. 1948 г.
После войны моральный авторитет Советского Союза и его лидера Иосифа Сталина был необычайно высок. Ведь советские люди победили Гитлера, а Сталин в одиночку, казалось, почти не имея никаких на то шансов, уничтожил самую могучую военную машину в истории человечества. Еще не всплыла правда о его тяжелых ошибках, обошедшихся советскому народу миллионами потерянных жизней, – в частности, о его отказе поверить информации как советских разведчиков, так и Уинстона Черчилля о точной дате начала реализации плана «Барбаросса», о его отказе дать приказ о приведении Красной Армии в полную боевую готовность. Не знал мир и о страшных преступлениях, совершенных в СССР под его руководством между 1929 и 1938 годами. На самом деле никакого секрета не было, но для левых, которым пришлось долго терпеть унижения и преследования за свои «красные» убеждения, советская победа над нацистской Германией стала, можно сказать, личным торжеством и триумфом. Эта победа означала, что они правы были, когда стояли твердо, не меняли своих убеждений, не желали ни видеть, ни слышать ничего, что могло бы противоречить им. В их числе был и мой отец, хотя он и не являлся членом какой-либо коммунистической партии. Партии эти, будь то американская, французская, итальянская или британская, верно следовали генеральной линии КПСС, несмотря на действия и заявления Сталина. Ясно, что это подливало масло в ярко разгоравшийся костер теории всемирного коммунистического заговора, в первую очередь в США.
К 1947 году уровень антисоветизма достиг такой отметки, что я почувствовал себя неуютно и начал мечтать о том, чтобы уехать из Америки. Я не особенно переживал изза этого, ведь я понимал, что я – не американец. Это понимание достигло особенной ясности благодаря дружбе с Юрием Шиганским, русским парнем моего возраста, сыном советского дипломата при ООН. В те годы советским дипломатам очень мало платили, естественно, они снимали плохонькие квартиры в неприглядных районах Нью-Йорка и жили весьма скромно. Отец мой всячески стремился к дружбе с этими людьми, часто приглашал их в гости в нашу квартиру на Десятой стрит – даже по завышенным представлениям Нью-Йорка, это был роскошный район. Собственно, так я и познакомился с Юрой. Для меня он олицетворял все то замечательное, что я знал о Советском Союзе, то, о чем рассказывал мне отец. Будь Юра девушкой, я сказал бы, что был в него влюблен. Благодаря ему я смог посетить советскую школу в Нью-Йорке и сравнить уважительное отношение советских учеников к своим учителям с абсолютно наплевательским – моих соклассников по Стайвесанту. По мере ухудшения американо-советских отношений банды американских подростков стали поджидать своих советских сверстников перед школой, чтобы затеять драку. Два или три раза я бился конечно же на стороне русских, при этом во всю глотку матерился (английский язык весьма экспрессивен в этом отношении), замечая, с каким удивлением смотрели на меня американские ребята («Ты же американец, какого х… ты на их стороне?»); затем их удивление переходило в ненависть («сраный коммуняка-предатель!»). В свою очередь свирипел я, ненавидя все и всех. Да, я был готов покинуть Америку.
Мы уехали в конце 1948 года. Думаю, жизнь моя еще более усложнилась бы, оттяни мы отъезд. Ведь худшее для США было впереди. Еще не наступило время маккартизма, американцы еще не могли представить себе, что появится Комитет по расследованию антиамериканской деятельности. Понятно, ФБР следило за нами в четыре глаза, наш телефон прослушивался. Но в этом не было ничего необычного.
Незадолго до нашего отъезда отцу пришлось уйти с работы. Как он рассказал мне несколько лет спустя, его вызвал босс, который, кстати говоря, очень хорошо относился к нему, и сообщил, что в нынешней обстановке он не может держать у себя советского гражданина. «Откажись от этого гражданства, подай на американское, – я удвою твое жалованье. Иначе должен с тобой расстаться».
Отец отказался от пятидесяти тысяч долларов в год. Он отказался бы и от пяти миллионов. Он не торговал своими принципами – никогда. Ни за какие деньги. И потерял работу.
* * *
Когда папины родители разошлись, его отец уехал в Литовскую Республику, в Каунас, где основал стекольную фабрику, существующую, насколько мне известно, по сей день. Он стал гражданином Литвы.
Вскоре после того как СССР, воспользовавшись тайным протоколом к Советско-Германскому пакту 1939 года, аннексировал балтийские республики, был опубликован указ Верховного Совета СССР, гласивший, что любой гражданин Латвии, Литвы или Эстонии, а также их взрослые дети, вне зависимости от места проживания, имеют право на немедленное получение советского гражданства. Мой отец немедленно отправился в Генеральное консульство СССР в Нью-Йорке и получил советский паспорт. Точнее, не паспорт, дававший право на въезд в Советский Союз, а вид на жительство. Так он стал советским гражданином.
* * *
Как только отец остался без работы, мы немедленно переехали в куда менее роскошную квартиру на Западной Двенадцатой стрит, меня же отправили жить к Марии-Луисе Фалкон, испанке, воевавшей против Франко в гражданской войне. Она близко дружила с моими родителями, которые просили ее приютить меня, поскольку новая квартира была слишком тесной для них, меня и моего брата Павла, родившегося в 1945 году. Когда я жил у Марии-Луисы, я попал в весьма пикантное положение. В те годы еще не существовало в США настоящей порноиндустрии. Продавались так называемые «девичьи» журналы, в которых печатались фотографии полураздетых женщин в весьма красноречивых позах. Кроме того, можно было при некоторой расторопности достать «неприличные» фото, но на газетных стендах не встречалось ничего даже отдаленно похожего на то, что продается там сегодня. Мне шел четырнадцатый год, я начал интересоваться сексом – и стал покупать журнал, название которого давно забыл, помню только, что стоил он полдоллара (немало для того времени) и изобиловал фотографиями девиц в трусиках, лифчиках и, как правило, в шелковых чулочках и на высоких каблуках. О позах говорить не буду. Понятно, я прятал эти журналы от чужих глаз – читал их на ночь, а потом совал под кровать. Однажды, вернувшись из школы, я обнаружил аккуратную стопку своих журналов, стоявшую у изголовья кровати. Оказалось, что Мария-Луиса вызвала уборщицу, и та вынула их из «тайника». Я чуть не сгорел со стыда – и перестал покупать эти журналы.
Мы уехали из Америки потому, что больше не могли там жить. У отца не было ни работы, ни будущего в Америке, он тревожился о том, что ждет его жену, детей. Он хотел в Советский Союз, что не удивительно, учитывая его идеалы и иллюзии. Сегодня право человека эмигрировать, свободно ездить куда хочется – модная тема. Тема, мною думанная-передуманная. Моя жизнь самым драматическим образом менялась и ломалась из-за того, что мне было отказано в праве выезда, из-за того, что я был отнесен к категории так называемых «невыездных», и все это конечно же повлияло на образ моих мыслей. Я ничуть не сомневаюсь в том, что право на свободное передвижение есть одно из основных прав человека. Любой, кто захочет покинуть пределы своей страны, на время ли, на всегда ли, рожден с этим правом – вне зависимости от законов страны проживания. Вместе с тем я всегда считал, что покинуть родину человек может лишь по одной, по-настоящему убедительной причине: из-за невозможности более жить там. Либо твоя жизнь в опасности и что-то угрожает благополучию твоих близких, любимых, либо жизнь так удушлива, что нет сил далее терпеть это. Человек уезжает не потому, что таммолочные реки, не потому, что тамбольше товаров лучшего качества, не потому, что хочется заработать миллион. Человек уезжает потому, что больше не может жить здесь.
Несомненно, решение моих родителей напрямую было связано с изменением общественного климата в Америке, с началом антикоммунистической истерии. Я часто задавался вопросом: как объяснить произошедшее понятиями человеческими? Разумеется, пугающая способность превратиться из добрых, порядочных людей в нечто совершенно иное не является сугубо американской. С течением времени я стал понимать, что это обычная человеческая слабость, ущербность, и веками разные структуры власти пользовались ими для достижения своих целей. Как расизм и антисемитизм, антикоммунизм абстрактен, теоретичен. Часто бывает так, что самые отъявленные антисемиты никогда в жизни не встречали ни одного еврея и не имеют ни малейшего представления о еврейской культуре, истории, об иудаизме. Сколько американцев когда-либо встретили хотя бы одного коммуниста – уж не говорю, близко знали?
Лепить образ врага – старая-престарая, грязная-прегрязная игра. Она сводится к тому, чтобы лишить врага даже намека на человечность, чтобы в итоге он не воспринимался как человек. Добившись этого, несложно вызвать в людях страх, ненависть, желание убивать. Так, в частности, готовят солдат к войне. Мы стали свидетелями подобного подхода во многих странах мира.
Каковы корни предрассудков? Пожалуй, никому пока не удавалось ответить на этот вопрос исчерпывающе. Как бы далеко в прошлое мы ни вглядывались, мы не находим человеческого общества, лишенного предрассудков. Психологи утверждают, что характер человека в основном формируется к пяти годам. Если наши родители, наше общественное окружение внушают нам, что люди с черной кожей, католики и, скажем, велосипедисты туповатые и жадные, дурно пахнущие, предатели и недочеловеки, мы воспримем это как истину. Усвоенное с молоком матери, это сформирует нашу психику с такой же определенностью, с какой молоко матери формирует наше тело. Это станет верой: «Велосипедисты – не люди». Преодолеть подобное убеждение крайне тяжело. Двадцатилетнего же сложно убедить в такой истине. Взрослый человек скажет: «Да, некоторые велосипедисты и в самом деле мало похожи на людей», другие же – «замечательные ребята». Но в любом случае объяснение не связано с тем, что они – велосипедисты. Глубоко сидящие предрассудки идут от ценностей, внушенных в ранней молодости. Предрассудки не имеют отношения к логике, но имеют непосредственное отношение к незнанию.
Как биолог по образованию я понимаю, что страх – это рефлекс, древнейший рефлекс самосохранения. Не знают чувства страха только люди психологически ущербные. Страх – жизненно важная биологическая реакция. Но это и нечто такое, чем можно манипулировать, пользоваться. Примеров тому – тьма.
На Западе некоторые заклеймили меня как пропагандиста. Этот ярлык тоже отливает страхом и требует некоторого рассмотрения. Я советский гражданин и, хотя критически отношусь ко многим явлениям жизни моей страны, сторонник социализма. Само по себе это не очень пугает в Америке тех, кто хотел бы внушить американцам боязнь Советского Союза и ненависть к нему. Но проблема в том, что ими придуман плоский, негативный образ стереотипного «советского», который должен был внушать страх и вызывать ненависть. Советский человек расчетлив, лишен эмоций, груб, жесток, не достоин доверия и т. д. и т. п. Беда в том, что я не вписываюсь в этот образ. И отсюда стремление некоторых во что бы то ни стало «сорвать маску» с меня.
Сразу после моего появления в той или иной теле– или радиопрограмме в США слово дается «эксперту», чтобы он проанализировал меня и растолковал бедным, наивным зрителям, как я подготовлен, какова природа моей эффективности, почему нельзя мне верить. Чаще всего это люди профессорского облика, они тоном сдержанным и веским объясняют, что я крайне опасен из-за сочетания факторов, как то: знание языка, мастерское владение психологическими приемами, дар коммуникации. Все это совершенно поразительно и на самом деле отражает некоторую растерянность, которую испытывают авторы антисоветского стереотипа. Они более всего опасаются, что, узрев во мне нормального, всамделишного, искреннего человека, искреннего советскогочеловека, американцы засомневаются в справедливости стереотипа и даже – упаси боже – в той политике, которая из него следует, а именно: антикоммунизм, гигантский оборонный бюджет, сама холодная война.
* * *
Позвольте обратить ваше внимание на этот пассаж. Вы видите, с какой настойчивостью (чтобы не сказать «настырностью») я заявляю о том, что я советский человек. Перечитав этот отрывок, я сам поразился ему, задумался, попытался понять – что на самом деле скрывалось за этими словами? И понял. Скрывались неуверенность, сомнения в том, кто я на самом деле. Я все еще доказывал всем – но прежде всего самому себе, что я «свой», русский, советский. Я кричал об этом, но как бы ни старался, не мог заглушить тихий, твердый, ироничный внутренний голос, говоривший мне, что никакой я не русский, никакой я не советский, а так, некое недоразумение, которое придумало себе роль, ухватилось за нее и держится из последних сил.
* * *
На самом деле я сам был поражен своей популярностью в Соединенных Штатах, своей способностью «достучаться» до рядового американца. Ведь хотя я и вырос в Нью-Йорке, но уехал оттуда в пятнадцать и возвратился лишь тридцать восемь летспустя. Да, я свободно говорю на языке, да, я всегда старался быть в курсе жизни страны моего детства и моей юности. Но этого мало, чтобы стать настолько влиятельным. Словом, я задавался этим вопросом множество раз. Ответ же пришел в процессе работы над этой книгой: моя эффективность связана прежде всего с тем, как я отношусь к Америке. Все дело в том, что Америка – это часть меня, того, кто я есть и во что я верю.
Одним из моих любимых мест в Нью-Йорке был стадион «Эббетс-филд». Но он запомнился мне не только да, пожалуй, и не столько тем, что на нем играли «Бруклин Доджерс», а благодаря тому, что в 1944 году я, среди многих, слушал там выступление президента Рузвельта во время его последней предвыборной кампании. Республиканская партия ненавидела Рузвельта-демократа, Рузвельта-противника монополий, Рузвельта, выигравшего выборы три раза подряд и теперь баллотирующегося в четвертый, Рузвельта, обожаемого американским народом. У него было лишь одно слабое место: здоровье. Заболевший полиомиелитом в молодом возрасте, он не мог ходить. Чтобы стоять, он надевал на ноги специальные металлические щитки, передвигался же в инвалидной коляске. В тот раз республиканцы решили сделать упор именно на это: стар, мол, Рузвельт, немощен, не может управлять страной. В ответ он проехал по улицам Нью-Йорка стоя, с непокрытой головой в открытом кабриолете под проливным дождем. Авеню и стрит были запружены сотнями тысяч нью-йоркцев, которые встречали его громовыми аплодисментами и восторженным ревом. И вот он прибыл на стадион. Он стоял у трибуны посереди поля в своей, ставшей знаменитой, мантии, освещенный сотнями мощных арочных огней, в свете которых потоки дождя превращались в переливающиеся полупрозрачные театральные занавеси. Я не помню, что он говорил. Но помню, как мы орали до хрипоты, помню чувство гордости от того, что я здесь, присутствую при сем, вижу его. Много лет спустя я понял, что Рузвельт принадлежал и принадлежит моейАмерике, той Америке, которая и составляет часть меня. Америка Тома Пейна, Томаса Джефферсона и Авраама Линкольна. Америка великих песен, прославивших Джона Генри, Джо Хилла, Джесси Джеймса, Франки и Джонни, и сотен, и сотен других. Америка тех, кто эти песни пел и сочинял – Вуди Гатри, Ледбелли, Пита Сигера, Билли Холидей, Бесси Смит. Америка Декларации Независимости и бостонского чаепития, истоков великой демократической традиции, родившейся здесь и, несмотря на неблагоприятные условия, выжившей. Повторяю: выжившей – не победившей.
Тогда я этого не понимал, но сегодня знаю, что, вне всякого сомнения, ФДР – Франклин Делано Рузвельт – хотя и являлся патрицием, был плоть от плоти этого американского демократического наследия, той, настоящей Америки. Трудно не американцу, человеку, не прожившему в Америке много лет, полностью это почувствовать и понять. Такого человека вряд ли взволнуют до появления гусиной кожи слова Пейна: «Это времена, которые испытывают человеческие души». Либо вы часть этого, либо нет. Я – часть.
На «Эббетс-филд» состоялось последнее публичное выступление Рузвельта. То, что я был его свидетелем, – чистое везение. Почему-то мне кажется, что я тогда видел и Фалу, знаменитого скотч-терьера президента, сидящего рядом с ним в автомобиле. Но, возможно, это лишь игра моего воображения. Популярность Рузвельта была поразительной. Его и в самом деле любил народ, именно любил, а не боготворил. Республиканцы шли на все, пытаясь подорвать такую популярность. Вот один разительный пример: во время войны Рузвельт однажды навещал войска на тихоокеанском фронте в сопровождении своего неразлучного друга Фалы. Как-то случилось, что после визита Рузвельт отплыл от острова, по ошибке оставив любимого пса на берегу. Обнаружив это, он приказал капитану корабля, или адмиралу, развернуть судно и вернуться за Фалой. Республиканцы, пронюхав об этом, устроили целую истерику – мол, президент тратит деньги налогоплательщиков на то, чтобы прокатить на военном корабле собаку. Я помню, как Рузвельт ответил на их выпады по радио, проронив с восхитительным презрением: «Не удовлетворяясь нападками и очернительством в мой адрес, мои оппоненты теперь нападают на мою собачку Фалу».
Надо ли говорить о том, что он был великим оратором и великолепно владел искусством оборачивать подобные ситуации в свою пользу. После его слов я стал относиться к Фале почти так же, как к самому Рузвельту.
* * *
Когда Рузвельт выдвинул свою кандидатуру на третий президентский срок, он нарушил одну из главных американских заповедей, которая восходит к правлению первого президента США Джорджа Вашингтона. Он был избран единогласно Колледжем избирателей в 1789 году, затем снова единогласно в 1792. Когда же подошло время третьего срока, Вашингтон категорически отказался от него, сказав (хотя это не доказано), что мы не для того освободились от британской короны, чтобы создавать собственную монархию. Это было в 1796 году. И вплоть до Франклина Рузвельта ни один американский президент не посмел нарушить заложенный Вашингтоном принцип. Когда Рузвельт баллотировался на третий срок в 1940 году, он оправдал свое решение началом Второй мировой войны. Решив баллотироваться на четвертый срок в 1944 году, он вновь сослался на войну. В 1947 году была предложена поправка к Конституции США, согласно которой человек мог находиться на посту президента не более двух сроков (восьми лет). Эту поправку приняли в 1951 году.
Обращаю ваше внимание на то, что в течение почти ста пятидесяти лет все президенты США сами ограничивали свое пребывание во власти, не решаясь нарушить наследие Вашингтона. Я пишу об этом в связи вот с чем. Конституция РФ изначально ограничивала пребывание у власти двумя президентскими сроками подряд. Это, конечно, лазейка. Но есть и вторая: если поставить вопрос о третьем подряд сроке на референдуме, то в случае победы третий срок обеспечен и конституция соблюдена. Я прекрасно помню момент, когда президент Путин объявил, что не будет баллотироваться на третий срок, не собираясь менять конституцию «под себя». Помню я и то, с каким снисходительным смехом буквально все наши политологи и журналисты – как правых, так и левых убеждений – встретили эти слова. Мол, дымовая завеса, хитрый политический ход и прочее, и прочее, и прочее. Однако речь не о них, а о Путине: поступив так, он, возможно, заложил начало традиции, которая крайне осложнит в будущем любую попытку президента задержаться у власти.
Я не сравниваю Путина с Вашингтоном, но все же…
* * *
Есть, однако, и другая Америка. Не так давно мне встретился пример в лице человека, который по иронии судьбы носит такую же фамилию, как я: Виктор Познер. Он – богатейший бизнесмен. Согласно журналу Fortune, в 1984 году Познер заработал денег больше, чем кто-либо другой в Америке. Недавно он был привлечен к суду за то, что не уплатил налоги с суммы в один миллион триста тысяч долларов. Ему грозило сорок лет тюремного заключения. Но как выяснилось, он не проведет за решеткой ни одного дня. Ему придется лишь уплатить надлежащий налог да выдать несколько миллионов долларов фонду помощи бездомным. Кроме того, ему придется еженедельно выделять несколько часов на благотворительную деятельность.
Не будь Виктор Познер богатым, будь он рядовым американцем, он очутился бы за решеткой. Но в сегодняшней Америке – в гораздо большей степени, чем во вчерашней, – некоторые люди, как бы сказал классик, «равнее других», и эти люди крайне редко попадают в тюрьму. Для них существуют особые правила. Все, о чем заявлено в Декларации Независимости, относится прежде всего к ним: к ихправу на жизнь, к ихправу на свободу, к ихправу на счастье – и потому лишь, что в отличие от «Джо-полдюжины пива», как в Америке прозвали рядового человека, у нихесть деньги, большие деньги.
Я горячий поклонник Декларации Независимости, это великий документ. Великий как по тому, что в нем говорится, так и по тому, когда это было сказано. Ведь Декларация была написана в последней четверти восемнадцатого века, когда миром правили короли и королевы, цари, императоры, шахи, паши и падишахи. И в это время Америка заявила, что все люди равны, что всем даны неотъемлемые права. Тогда это было уму непостижимо. Но вдобавок эти слова стали фундаментом для возведения реального общества, для построения судебной системы. Однако если непредвзято взглянуть на Америку сегодня, вряд ли можно положа руку на сердце говорить, что этих великих принципов придерживаются в полной мере. Декларация все еще существует, и большинство американцев верят в то, что все люди имеют равные права от рождения. Но реальности – общественная, политическая, экономическая – исключают возможность для всех американцев пользоваться этими правами в равной мере. В зависимости от того, в какой вы родились семье, в зависимости от положения семьи, ее достатка, вам будет либо проще, либо несравненно труднее воспользоваться своими неотъемлемыми правами. Американское выражение «родиться не на той стороне дороги» лишь подтверждает мою мысль. Если вы родились американским индейцем, мексиканцем, пуэрториканцем или «черным» в семье, где кроме вас имеется еще выводок детей, если отец ваш наркоман, а мама проститутка, если сызмальства вас окружают наркотики и преступность – а таковы обстоятельства жизни буквально миллионов американских детей, – ваши шансы вырваться из всего этого и добиться чего-либо в жизни близки к нулю. Тому, кто хотел бы оспорить это утверждение, я задам лишь один вопрос: вы согласились бы добровольно на то, чтобы ваш ребенок вырос в гетто? Разумеется, нет – и не только потому, что он испытал бы всякого рода трудности. Помимо прочего, ему было бы отказано в равных с другими возможностях учиться, работать, просто жить. Что означает тот факт, что пятнадцать процентов населения – тридцать миллионов человек – живут в Америке за официальной чертой бедности и двадцать процентов всех детей и подростков относятся к этой категории? Как совместить это со словами Декларации Независимости, со словами о равноправии? Напрашивается неопровержимый вывод: в самом фундаментальном смысле Америка – несправедливое общество. Общество, создавшее невиданное богатство, но терпящее крайнюю нищету и страдания. Всем понятно, что если бы богатство в Америке распределялось чуть иначе, можно было бы обеспечить каждого американца приемлемым, человеческим уровнем жизни. У каждого была бы крыша над головой, никто не голодал бы, каждому были бы доступны образование и достойные условия.