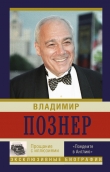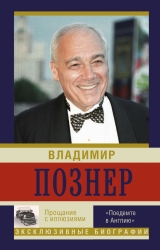
Текст книги "Прощание с иллюзиями"
Автор книги: Владимир Познер
Жанр:
Биографии и мемуары
сообщить о нарушении
Текущая страница: 11 (всего у книги 40 страниц) [доступный отрывок для чтения: 15 страниц]
* * *
Не знаю почему, но я только недавно – да и то случайно – решил выяснить судьбу Лидии Федосеевны Тимашук. То, что я узнал, потрясло меня. Оказывается, она умерла в 1983 году; оказывается, она все годы своей жизни обращалась в ЦК КПСС с просьбой о реабилитации ее имени; оказывается, она на самом деле оказалась жертвой, а не злодейкой. Л.Ф. Тимашук была врачом-кардиологом и работала в «кремлевке», где лечилась советская партийная элита. В частности, она имела отношение к лечению заболевшего А.А. Жданова, члена Политбюро, секретаря ЦК, которого прочили в «наследники Сталина». Жданов умер в 1948 году от последствий инфаркта, который «прозевали» медицинские светила. Они были не в ладах с новой медицинской техникой, в частности, с электрокардиографом. Как потом сами признали, плохо умели читать и расшифровывать ЭКГ – в отличие от Тимашук, молодого врача, более сведущего в этом вопросе. Тимашук правильно поставила диагноз Жданову – инфаркт. Но профессора В. Виноградов, В. Василенко и начальник Лечсануправления Кремля профессор-генерал П. Егоров с ней не согласились и заставили ее подписать другой диагноз. Когда Жданов умер, Тимашук, опасаясь, что могут скрыть всю эту историю, написала в Кремль письмо с рассказом о том, как было на самом деле. Письмо – и это непостижимо – оставили без внимания. А когда в 1952 году Сталин задумал своего рода советское «окончательное решение еврейского вопроса», вспомнили о письме Тимашук. Вот и получилось: Жданов пал от рук убийц в белых халатах, которых разоблачила простая советская женщина, врач Лидия Федосеевна Тимашук. Дальше все пошло по накатанным рельсам: она стала своего рода советской Жанной д’Арк, ей вручили орден Ленина, а потом, менее чем через два года, лишили этого ордена, она из Жанны превратилась в злобную, коварную бабу-ягу и вскоре была предана забвению.
Но ведь на самом деле она не сделала НИЧЕГО предосудительного, всего лишь поддалась нажиму сановных врачей, авторитет которых ставила неизмеримо выше собственного.
* * *
Помню, когда я читал фамилии врачей-убийц, меня неприятно поразило, что почти все они – евреи. Впрочем, и на Западе среди медиков часто встречаются еврейские фамилии – факт, с помощью которого я попытался успокоить возникшую в душе тревогу, правда, без особого успеха. Как-то не верилось, что группа врачей-выродков придумала такой дьявольский план – под прикрытием белых халатов быть наемными убийцами каких-то неназванных иностранных организаций. Сомневаться я сомневался, но даже приблизительно не догадывался о подлинной подоплеке «дела врачей». На самом деле это стало лишь первым действием драмы, придуманной злым гением. В финале же пьесы должна была произойти повальная депортация всех евреев далеко за Урал, и в этом виделось нечто общее с гитлеровским «окончательным решением еврейского вопроса». Но имелась и существенная разница: Гитлер в самом деле ненавидел евреев, считал их злом. Его преступление ужасно, однако это преступление, совершенное человеком, одержимым ненавистью, предрассудками. Оно было исполнено по-тевтонски, без эмоций, педантично, но в основе всего лежала иррациональная ненависть.
Со Сталиным дело обстояло иначе. Нет никаких оснований утверждать, что какая-либо национальность внушала ему особое отвращение. Не будем забывать, что среди наций, пострадавших от сталинских репрессий, грузины занимают одно из самых видных мест. Сталина заботило лишь одно – власть. Если ради ее достижения и сохранения требовалось убить одного человека или миллион человек, так тому и следовало быть. Вполне может статься, что сталинское представление о том, что угрожает или может угрожать его власти, было параноидальным. Но это не мешало ему действовать необыкновенно расчетливо и точно. Мне не дано анализировать необыкновенно изощренный ум Сталина, но мне кажется, что он, в отличие от других диктаторов, использовал страх не столько для подчинения людей своей воле (в чем, кстати, блестяще преуспел: народ обожал его и преклонялся перед ним), сколько для сохранения всех в состоянии вечной бдительности, круговой обороны. Был враг внешний, мечтавший уничтожить первое в истории государство рабочих и крестьян, и был враг внутренний, строивший планы подрыва страны социализма. Троцкисты, правые уклонисты, враги народа, кулаки, безродные космополиты, сионисты – все служили одной цели. И до тех пор, пока народ опасался угрозы, пока его несло по предательски скользкой палубе истории, создаваемой у него на глазах, ему было некогда думать, некогда задаваться вопросами, некогда сомневаться, и в это время ничто не могло пошатнуть абсолютной власти Сталина. Уже были принесены в жертву целые народы: чеченцы и ингуши, кабардины и балкары, курды и крымские татары. Теперь наступила очередь евреев.
Еврейские истоки моего отца, его «заграничное» прошлое, его французская жена – любая из этих причин была достаточной, чтобы загреметь в ГУЛАГ, сочетание всех трех гарантировало это. Нет ничего удивительного в том, что он не мог устроиться на работу. На самом же деле удивительно то, что узел затягивался столь медленно. Не умри Сталин 5 марта 1953 года, всего лишь через два месяца после нашего приезда, нет сомнений: нас ожидала бы участь миллионов советских людей.
Никогда мне не забыть день смерти Сталина. Эту новость сообщили по радио. Около пяти часов утра меня разбудил телефон. (За три дня до этого, когда стало известно о болезни Сталина, я попросил горничную на этаже разбудить меня в случае важного сообщения.) Я выскочил из кровати и схватил трубку.
– Все. Конец. Сталин умер, – прозвучал глухой голос, в котором я с трудом узнал Полину, обычно веселую и наиболее симпатичную мне из всех горничных.
Я положил трубку и начал торопливо одеваться. Хорошо помню, как был удивлен тому, что почему-то не плачу. От этой мысли мне стало не по себе, будто я человек с каким-то изъяном. Я вышел из номера и пошел разбудить родителей. Напротив лифта за столом дежурной плакала Полина. Несмотря на раннее время, по коридору взад-вперед шныряли какие-то люди – в основном проживавшие в гостинице иностранные журналисты и дипломаты. Мимо меня промчался заведующий корреспондентским пунктом газеты The New York Times Харрисон Солсбери, и его торчащие рыжие усы и возбужденное выражение лица напомнили мне почему-то лису, готовую вот-вот схватить добычу.
Родители приняли мое сообщение молча. Так мы и просидели утро, погруженные в собственные раздумья. Поскольку я вырос не в Советском Союзе, то не подвергся тому идеологическому давлению, которое испытали мои сверстники. Несмотря на мое страстное желание слиться с новым обществом, во мне сидело что-то такое, что восставало против обожания и преклонения, встречаемых повсюду при имени Сталина. Я, конечно, считал Сталина великим человеком, я восхищался им, для меня это был человек, можно сказать, в одиночку победивший Гитлера. Я мечтал пройти по Красной площади Первого мая, чтобы увидеть его и его сподвижников на Мавзолее Ленина. Но считать его отцом народа? Всего народа? Гениальным авторитетом в любой области – от языкознания и кибернетики до генетики и национального вопроса? С этим мозг не соглашался. Точно так же я не испытывал к Сталину любви. Да, я горевал о его кончине, но в отличие от большинства советских людей не воспринимал это как личную потерю. Несоответствие между тем, кем я был и кем хотел быть, служило источником острого дискомфорта, который я пытался скрывать не только от окружающих, но и от себя самого.
Трое суток гроб с телом Сталина стоял в Колонном зале Дома Союзов, и трое суток мимо него шла нескончаемая вереница москвичей. Среди них был и я. Видно, мой ангел-хранитель устроил дело так, что лауреат Сталинской премии, с которым я познакомился в «Метрополе», сумел провести меня к началу очереди в Дом Союзов – в противном случае я попытался бы пройти самостоятельно и, как многие другие, погиб бы в давке.
Точных данных нет, но не менее трех миллионов человек хлынули в Дом Союзов, чтобы проститься с вождем. Они стекались со всех концов Москвы, людские капли, которые сливались в речушки и превращались затем в бурные реки, упиравшиеся в узкую горловину. Эти человеческие потоки, словно потоки водные, тоже имели свои берега – естественные, в виде стен зданий, и искусственные, образованные сотнями и сотнями плотно прижатых друг к другу бамперами грузовиков – они перекрывали все переулки и дворы, которыми можно было воспользоваться, чтобы вклиниться в начало очереди на Пушкинской улице. Гигантская волна катилась неудержимо, неся и давя людей. Одних смерть настигла у чугунных ворот и бетонных стен, в которые их вдавила толпа, другие гибли, ломаясь, словно спички, об острые углы военных грузовиков. Но больше всего жизней унесла сама эта многоголовая гидра. Зима 1952–1953 годов была необыкновенно суровой, московские улицы все еще покрывал лед. Люди падали под ноги тех, кто не мог остановиться, тех, на кого напирали тысячи и тысячи других. Этот ужас обрел апокалиптические масштабы в районе Трубной площади. На бульваре, круто спускавшемся от Сретенки, было особенно скользко – падал один, второй, сразу несколько, а волна все катилась да катилась, накрывая глухие крики и тела, об которые спотыкались все новые и новые жертвы. Началась паника, толпа ринулась вперед, буквально поднимая на воздух конную милицию вместе с лошадьми, сбивая с ног и топча их. Обезумевшие лошади, матерящиеся милиционеры, пытающиеся дубинками остановить неостанавливаемое, круговерть черных людских масс, которая, словно гигантский водоворот, всасывает в себя все и вся – можно ли представить себе более подходящее прощание с чудовищем, унесшим столько жизней уже после собственной смерти?
В Колонном зале все было затянуто черной тканью. У гроба в почетном карауле стояли руководители партии и правительства, а люди в штатском и в военной форме следили за тем, чтобы никто из пришедших проститься не задерживался.
Гроб стоял под небольшим наклоном, чтобы тело Сталина было легче рассмотреть. Проходя мимо, я вдруг ужаснулся огромному размеру ноздрей покойника. Они напоминали пещеры: глубокие черные провалы, готовые поглотить того, кто слишком к ним приблизится. Одновременно с этой мыслью меня буквально потрясла другая: ведь я должен испытывать благоговение, горе от зрелища великого Сталина, лежащего в гробу и утопающего в море цветов. А я уставился на его ноздри! Да что это со мной происходит? Не болен ли я? И ведь в самом деле я горевал, но чего-то в этом горе недоставало…
Вскоре после смерти Сталина отец получил работу на «Мосфильме» – его взяли на должность рядового инженера, что совершенно не соответствовало его квалификации и, надо полагать, сильно ударило по его самолюбию. И все же это было лучше, чем ничего. Я же готовился изо всех сил к поступлению на биолого-почвенный факультет Московского государственного университета, поскольку очень был увлечен теорией условных рефлексов Ивана Петровича Павлова. Я отдавал себе отчет в том, что остальные абитуриенты имеют передо мной значительное преимущество: для них русский язык являлся родным и они все годы учились в советской школе. Поэтому я занимался как одержимый. Вероятно, оттого я плохо помню время между мартом, когда умер Сталин, и августом, когда шли приемные экзамены, если не считать одного события – ареста Лаврентия Павловича Берии. Это осталось в памяти потому, скорее всего, что на улице Горького вдруг появились танки. Я не знал причин их появления, но поскольку это происходило не в конце октября и не в начале апреля, когда шли репетиции военного парада, возник вопрос: почему здесь танки? Все решилось очень быстро. Танки появились вечером, а наутро уже исчезли, и было объявлено об аресте Берии и предстоящем суде над ним. В то время я не придавал большого значения его аресту, так как не знал почти ничего о его деятельности – все это стало достоянием публики лишь несколько лет спустя. Берию арестовали и приговорили к расстрелу за то, что он был английским шпионом. Абсурдность этого обвинения столь же очевидна, сколь очевидны причины, по которым антибериевской группе пришлось прибегнуть к нему. В 1953 году, за три года до знаменитой речи Хрущева на XX съезде КПСС, невозможно было предъявить Берии обвинение в его подлинном преступлении – убийстве сотен тысяч людей, не говоря о пытках, проводимых им лично и с удовольствием. Рассказывают такую историю: одному арестованному грузинскому композитору выкололи глаза, потому что Берия не хотел, чтобы тот узнал его на допросе. Но не успел Берия задать первый вопрос, как тот сказал:
– А, так это ты, Лаврентий.
– Как ты меня узнал? – спросил Берия.
– Ты отнял у меня зрение, но не слух. Я композитор, у меня абсолютный слух.
Рассвирипевший Берия приказал принести молоток и гвозди и лично вбил гвозди в ушные каналы несчастного. Известно и то, что Берия имел целый штат оперативных работников, которые выискивали для его неуемных сексуальных аппетитов хорошеньких женщин и привозили их к нему в его особняк на улице Качалова, где он принуждал их к сожительству. На память о каждой встрече он брал лифчик – после ареста целую коллекцию обнаружили в его сейфе. И этот человек был буквально в одном шаге от кресла, которое занимал Сталин. Танки на улице свидетельствовали о его силе: их ввели, опасаясь того, что верные ему войска КГБ попытаются выручить своего начальника.
За первые шесть месяцев жизни в СССР я стал свидетелем смерти двух всесильных властелинов. Впрочем, хотя Сталин умер, не умер сталинизм. За свою жизнь он создал огромную сложную сеть взаимосвязанных институтов, выработал в людях определенное отношение к жизни. Гениальность всей структуры заключалась в том, что она точно учитывала человеческие слабости, настолько точно, что и через три с лишним десятилетия после смерти тирана она продолжает жить. Именно поэтому то и дело пробуксовывает перестройка, система сопротивляется переменам. Борьба, свидетелями которой мы все являемся, есть на самом деле борьба со сталинизмом.
Моя первая личная встреча с этой системой координат не заставила себя долго ждать.
Я собирался стать биологом и в течение всей зимы, весны и части лета готовился к конкурсным приемным экзаменам. На биофаке их было пять, и для успешной сдачи – то есть для того, чтобы быть зачисленным на первый курс, – требовалось набрать не менее двадцати четырех баллов. Взвешивая свои шансы, я исходил из того, что вряд ли смогу написать сочинение лучше чем на «4», зато физику, химию, английский язык и литературу сдам на «5».
Первым экзаменом после сочинения (результаты которого мы должны были узнать только на устном экзамене по литературе) была физика – и я получил лишь «4». Это был, с моей точки зрения, провал, но я решил не сдаваться и – о чудо! – заработал «пятерки» по всем остальным предметам, в том числе за сочинение! Я был счастлив, меня распирало от гордости.

Фотомастер в Столешниковом переулке отретушировал меня до неузнаваемости. Мне 19.
Наступил день, когда должны были вывесить списки принятых, и я помчался в здание биофака на улице Герцена. Перед огромной доской со списками стояла толпа возбужденных абитуриентов. Пробравшись сквозь нее, я стал искать свою фамилию – ладони мокрые, сердце колотится в преддверии той радости, которую мне предстоит испытать.
Но моей фамилии не было.
«Не торопись, – сказал я себе, – могли ошибиться и вписать твою фамилию не в тот столбик, надо смотреть список с самого начала, а не только те фамилии, которые начинаются на П». Так я и сделал.
Моей фамилии не было.
Буквы в списках стали расплываться. Я закрыл глаза, потер их и вновь уставился на списки.
Фамилия «Познер» отсутствовала.
Я, наверное, походил на робота, пока шел в аудиторию, в которой комиссия вручала документы принятым и отвечала на вопросы тех, кто остался за бортом. Я подошел к столику и сказал:
– Моя фамилия Познер…
– И что же?
– Дело в том, что я набрал двадцать четыре балла, но меня нет в списках.
– Ну что ж, вы не один такой. Уж очень многие набрали двадцать пять. Жаль, но количество мест ограничено. Приходите через год.
Через год? Я не поверил своим ушам.
– Но мне сказали, что двадцать четыре – проходной балл! Наверное, это ошибка!
– Молодой человек, ошибка заключается в том, что слишком много абитуриентов. Извините, но я занят.
Я повернулся и пошел, плохо соображая, что же произошло. Я был не разочарован, нет, я был раздавлен – все эти дни и ночи подготовки, все эти старания… чего ради? Я уже выходил из здания, когда услышал, как меня кто-то зовет:
– Владимир…
Обернувшись, я увидел женщину. Ей было на вид лет сорок пять, серо-голубые глаза, шатенка, лицо приятное, но вполне обыкновенное. Лицо, которое я запомнил на всю жизнь.
– Пойдемте со мной, – произнесла она и вышла на улицу, не глядя на меня. Так мы и проследовали почти полквартала, она в нескольких шагах впереди меня. Остановилась она, только убедившись, что поблизости нет никого из пришедших на биофак. Посмотрела мне прямо в глаза и сказала:
– Вот что вы должны знать. Вы по конкурсу прошли. Двадцати четырех баллов более чем достаточно. Но у вас плохая биография. Вы выросли за рубежом, ваш отец – реэмигрант, ваша фамилия Познер – еврейская. Поэтому вас не приняли. Все это должно остаться между нами. Боритесь. Этого разговора не было. Я вас не знаю. Удачи вам.
Она повернулась и пошла назад к факультету.
Я же стоял будто окаменевший. Дело не в том, что я не сталкивался с предрассудками и дискриминацией – и того, и другого было и остается предостаточно в Нью-Йорке. Но меня учили, что эти явления – «родимые пятна» капитализма! Я же находился в Советском Союзе, в стране социализма! К тому же (спасительная мысль?) никогда не считал себя евреем! Неужели все это происходит со мной?
В «Метрополь» я вернулся вне себя от ярости. Меня ожидал отец – видно, это был мой день.
– Ты куда это меня привез?! – взорвался я. – Это что за страна такая?
И я рассказал ему обо всем. У отца было два уровня гнева. Первый – при котором он повышал голос, производил впечатление только на тех, кто плохо его знал; второй – при котором он, сузив до щелочек глаза, белел и начинал говорить почти шепотом, означал, что всем следует вести себя в этот момент крайне осторожно. Завершив свой рассказ, я сам испугался выражения его лица.
– Запомни, что я тебе скажу, – прошипел он, – тебя примут! Подохнут, но примут.
Развернувшись, он вышел из номера, хлопнув дверью.
Позже я узнал, что он прямиком отправился в приемную ЦК КПСС и потребовал встречи – не знаю с кем, потому что у него там не было личных знакомств. Он не являлся членом партии (так им и не стал), но для него это не имело значения. Он был готов стучаться в любую дверь как угодно громко, если считал это нужным.
А я ждал. Прошел август, наступил сентябрь. Как-то мне пришла повестка из военкомата. Явившись в указанный день и час, я был направлен на беседу к майору, фамилия которого не предвещала ничего хорошего: Рысь. Когда я вошел в его кабинет, он встал, протянул мне лапу и сказал: «Добро пожаловать, Владимир Владимирович», – чем не только поразил меня до глубины души, но и насторожил. Он был старше меня лет на пятнадцать, да и вообще впервые в жизни кто-то назвал меня по имени-отчеству. Насторожился я, как оказалось, не напрасно.
– Садитесь, садитесь, – сказал майор и протянул мне коробку «Казбека». – Курите?
– Спасибо, не курю.
– И правильно делаете, – кивнул майор и закурил. – Отвратительная привычка.
Он пустил густую струю дыма и, доверительно улыбнувшись, сказал:
– Мы тут ознакомились с вашим личным делом. Очень оно любопытное. Решили сделать вам интересное предложение. Вам не очень-то улыбается годика три протопать в пехоте, верно? Так вот, что скажете насчет учебы в разведшколе?
Теперь я понял, почему удостоился такого вежливого обращения. Предложение меня одновременно рассмешило, удивило и рассердило.
– Забавная получается картина, товарищ майор, – заметил я. – Меня не принимают в МГУ из-за моей биографии и неподходящей фамилии, а вы предлагаете мне стать разведчиком?
Рысь улыбнулся, обнажив два ряда желтоватых от курения зубов, и ответил:
– Так у нас разные учреждения.
Я поблагодарил его за предложение и за оказанное доверие и, якобы вынужденно, отказался.
Рысь удивленно повел бровями:
– Вы что, не патриот?
– Почему же? Патриот. Но разве нельзя быть патриотом-биологом, а не патриотом-разведчиком? Я для разведки не подхожу, не тот у меня характер.
Рысь уставился на меня в изумлении. Потом, уже совсем не так приветливо, велел:
– Вот что, Познер, поди-ка ты в коридор, посиди там и подумай. И имей в виду – такое предложение, какое мы сделали тебе, получает не каждый.
Я вышел и сел на один из стульев, стоявших вдоль длинной стены. Минут через пять ко мне подошла девушка в гражданском и довольно резко сказала:
– Вас ждет военком.
Это был полковник, человек громадного роста с седой гривой. Разговор у нас состоялся короткий и совершенно не дружелюбный. Он задал мне несколько вопросов, я повторил, что не собираюсь быть разведчиком, и он отправил меня вновь к майору. На сей раз у Рыси появились зубы и когти.
– Значит, отказываешься? Значит, так. Тебе предложили выбор, но у тебя, дурака, не хватило ума сообразить, что к чему. Дураков учить надо. Ты будешь служить, но не три года в пехоте, а пять лет на флоте. Понял? Что теперь скажешь?
От этой перспективы мне стало худо, но мое нью-йоркское прошлое научило меня никогда не показывать свой страх. Поэтому я довольно нагло ответил:
– Закон есть закон. Зря пугаете. Меня примут на биофак раньше, чем успеете мобилизовать.
К счастью, так оно и случилось. Благодаря стараниям отца мое дело было решено положительно.
* * *
Задним числом понимаю, что помощь пришла не из ЦК, куда якобы ходил отстаивать меня папа, а из того учреждения, которое – худо ли, бедно ли – его опекало: из КГБ.

Студент 1-го курса биологопочвенного факультета МГУ им. М. В. Ломоносова.
* * *
Не думаю, что это огорчило кого-либо на биолого-почвенном факультете – в конце концов, решение о моем зачислении было принято более высокой инстанцией, а значит, ответственность за него несла именно она, инстанция. Окажусь хорошим во всех отношениях студентом – тем лучше, а нет – что ж, прозорливое руководство факультета правильно отказало мне в приеме…
Тогда, в военкомате, состоялась первая моя встреча с вооруженными силами. Вторая случилась через год с небольшим, когда я был исключен за академическую неуспеваемость – провалив два экзамена на зимней сессии.
Первый курс я окончил вполне успешно, но когда наступило время летних каникул, мне было некуда деваться. Новички в Союзе, мы не имели представления о том, как здесь проводят отпуск, можно ли снять дом за городом или на море и как вообще это делается. Вскоре мы всему эту научились, но в то, второе наше московское лето все еще набирались опыта. Примерно тогда же мама начала работать диктором во французской редакции Московского радио. Как-то она пожаловалась коллеге на то, что не знает, «куда девать Вову», и тот сказал, что сестра его жены живет в Ленинграде и будет рада принять меня. Так, за неимением лучшего, я поехал в Ленинград. «Красная стрела» ничем меня не удивила, и ничто не свидетельствовало о том, что впереди – незабываемая встреча.
Ровно в восемь двадцать пять утра поезд прибыл на Московский вокзал. Утро было ослепительным и редким для Ленинграда: казалось, небо и солнце только что умылись – чистая голубизна и чистое золото, да чуть прохладный воздух, от одного вдоха которого хотелось взмахнуть крыльями и полететь. Я постоял на перроне, подставив лицо солнцу, и вдруг меня окликнули: «Володя?» Голос был чуть глуховатый и низкий, даже слишком. Я обернулся и уставился в лицо, от вида которого потерял дар речи. Я и сейчас вижу его: совершенно серые глаза (слишком широко расставленные), высокие скулы (слишком высокие), маленький чуть приплюснутый нос (слишком маленький), большой рот (слишком большой – очень пухлые губы, причем верхняя губа шла одной сплошной линией, словно арка, без углубления), решительный подбородок (немного тяжеловатый) и голова, увенчанная короной каштановых волос (слишком вьющихся), посаженная на шее, ради которой Модильяни продал бы душу дьяволу. Я смог бы и тело ее описать подробно, ибо познал его детально, но предоставлю это воображению читателя. Такой оказалась сестра жены коллеги. Ей было тридцать четыре года, она была замужем за морским офицером, с которым, как я вскоре узнал, находилась в процессе развода. Так что время моего приезда пришлось – в зависимости от точки зрения – на самый подходящий или самый неподходящий момент.
Этот месяц в Ленинграде был одним из счастливейших в моей жизни. Женя, так ее звали, не просто водила меня по городу, она, если можно так сказать, учила меня Ленинграду, открывая и раскрывая мои глаза и сердце на его редкую красоту, волшебные пропорции и симметрию. Мы шли по улицам Северной Пальмиры, а она уводила меня в прошлое. Я видел, как Петр, широко шагая, будто журавль по болотистой топи, тяжелым взглядом окидывает Финский залив, видел, как он своей железной волей строит город, загоняя себя до предела, не жалея никого, ставит город там, где городу стоять невозможно, возводит его на костях бесчисленных русских мужиков, умиравших от заразы, голода, безнадежья и проклинавших день и час, когда родились на свет божий. Я видел, как поднимается Петропавловская крепость, бросая своим золотым шпилем вызов свинцовым небесам. Я видел, как дворцы и особняки выстроились вдоль Невы, как река, восстав, выходит из гранитных берегов, не подчиняясь руке человеческой. Я видел Пушкина, словно ртуть подвижного, невысокого, изящного, с лицом, в чертах которого явственного просматривались следы мавританских предков, самого нерусского из русских поэтов в его жажде жизни, в умении наслаждаться каждой минутой существования, в легкости его прикосновения, в том, как гармонично и просто уживались в его стихах чувственное и духовное – в стихах столь же прозрачных, как капля дождя, и столь же непостижимых, как бесконечность; Пушкина, этого самого русского из русских поэтов в его мудрости, в его понимании людских обстоятельств и в его сострадании к ним.
Я видел Гоголя, крадущегося по Невскому, завернувшегося в плащ, с лисьим лицом, оглядывающегося через правое плечо на торопящегося петербуржца, которому неведомо: именно ему предстоит бессмертие среди всех тех, кто населяет гоголевский мир. Я слышал, как задыхается под подушками император Павел, пока сын его, Александр, ждет известий от его убийц. Я чуял кислый запах пороха на Сенатской площади, где николаевская артиллерия разгоняет восстание декабристов и тем самым перечеркивает только начатую главу, которая могла бы привести Россию к демократии, и открывал одну из самых темных и мрачных страниц в тяжелой истории России.
Все это и многое другое я видел, слышал, осязал, и все это время я всматривался в эти совершенно серые глаза и слушал этот голос, слишком хриплый, слишком низкий, слишком меня пленивший.
Я был влюблен.
Мы вернулись в Москву вместе. Ей предстояло жить здесь со своей сестрой и ее мужем, а мне, студенту второго курса, – с родителями и младшим братом в только что полученной двухкомнатной квартире. Но слухи нас опередили, и нам оказали «теплый» прием. Женю ее родственники распяли за совращение малолетних, а мне, малолетнему, отец заявил: либо я прекращаю все отношения с этой потаскухой, либо он выгонит меня из дома. В результате Женя сняла комнату в коммуналке на Малой Бронной, и я фактически переехал к ней. Надо ли говорить, что у меня не было ни желания, ни времени учиться. То есть я ходил на лекции и на лабораторные занятия, но присутствовал там лишь физически: душа витала в комнатушке, где жила женщина, ради которой я легко расстался бы с жизнью. Я мечтал о той минуте, когда вернусь в эту коммунальную конуру, превращенную моей любимой в сказочное царство. Все прочее не имело значения, ничто другое не существовало.
Наступило время зимней сессии, и я провалил два первых экзамена – за что и был исключен. Я ничего Жене не сказал. Я понимал, что она узнает, что каким-то образом подвел ее, но не мог заставить себя признаться в этом. Как-то вечером я пришел, неся коробочку с пирожными «картошка», которые она обожала. Я открыл дверь в нашу комнату – и остановился, будто уперся в стену. Женя сидела на диване и смотрела на меня с презрением.
– Так ты – лжец? – сказала она. – Ты к тому же трус. Не просто трус, но безмозглый трус, раз считаешь, что из-за экзаменов можешь врать и обманывать меня. Я презираю тебя. Поди вон. И чтобы я больше не видела тебя никогда.
Я не ответил ничего. Под угрозой расстрела я не смог бы вымолвить ни слова. Я повернулся и вышел, закрыв за собой дверь.
Вспоминая все это, я подозреваю, что Женя решила прекратить наши отношения задолго до того, подходящего, момента. Видно, она пришла к выводу, что у нас нет совместного будущего, и поставила точку. Может быть…
Спустя десять лет на каком-то мероприятии в Кремлевском дворце съездов я встретил ее. Это было в антракте, на втором этаже – она стояла метрах в тридцати от меня, но не видела (Женя была близорукой и категорически отказывалась носить очки) – за что я благодарю судьбу. У меня задрожали колени, язык присох к небу, сердце заколотилось так, что я, казалось, вот-вот потеряю сознание. Время остановилось. Помани она меня пальчиком, и я пошел бы за ней, как крысы пошли за гаммельнским крысоловом. Но она повернулась и исчезла в толпе.
Прошло еще десять лет, прежде чем я вновь увидел ее. Я поднимался по эскалатору станции метро, глядя и в то же время не глядя в лица проплывавших мимо меня людей, когда вдруг заметил ее. Жене должно было быть пятьдесят пять, но передо мной было все то же лицо, которое заворожило меня двадцать лет тому назад. Она смотрела куда-то в пространство, погруженная в собственные мысли и не замечающая ничего вокруг… Это случилось пятнадцать лет назад. С тех пор я не видел ее. Вероятно, никогда больше не увижу. И никогда не забуду…
Всем этим и объясняется моя вторая встреча с вооруженными силами.
Как только меня исключили из университета, я получил повестку из военкомата. Когда я явился на сборочный пункт, то оказался в компании нескольких десятков юношей моего приблизительно возраста, которых скорее всего либо не приняли в вузы, либо, вроде меня, исключили. Среди последних был мой приятель и однокурсник по биофаку. Ныне это личность известная всей стране и весьма уважаемая, поэтому назову его просто Колей.