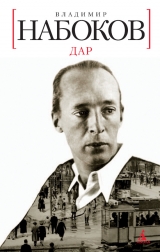
Текст книги "Дар"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Классическая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 26 страниц) [доступный отрывок для чтения: 10 страниц]
«Говорят, – писал Сухощоков, – что человек, которому отрубили по бедро ногу, долго ощущает ее, шевеля несуществующими пальцами и напрягая несуществующие мышцы. Так и Россия еще долго будет ощущать живое присутствие Пушкина. Есть нечто соблазнительное, как пропасть, в его роковой участи, да и сам он чувствовал, что с роком у него были и будут особые счеты. В дополнение к поэту, извлекающему поэзию из своего прошедшего, он еще находил ее в трагической мысли о будущем. Тройная формула человеческого бытия: невозвратимость, несбыточность, неизбежность, – была ему хорошо знакома. А как же ему хотелось жить! В уже упомянутом альбоме моей “академической” тетки им было собственноручно записано стихотворение, которое до сих пор помню умом и глазами, так что вижу даже положение его на странице:
О, нет, мне жизнь не надоела,
Я жить хочу, я жить люблю
Душа не вовсе охладела,
Утратя молодость свою.
Еще судьба меня согреет,
Романом гения упьюсь,
Мицкевич пусть еще созреет,
Кой-чем я сам еще займусь.
Ни один поэт, кажется, так часто, то шутя, то суеверно, то вдохновенно-серьезно, не вглядывался в грядущее. До сих пор у нас в Курской губернии живет, перевалив за сто лет, старик, которого помню уже пожилым человеком, придурковатым и недобрым, – а Пушкина с нами нет. Между тем, в течение долгой жизни моей встречаясь с замечательными талантами и переживая замечательные события, я часто задумывался над тем, как отнесся бы он к тому, к этому: ведь он мог бы увидеть освобождение крестьян, мог бы прочитать “Анну Каренину”!.. Возвращаясь теперь к этим моим мечтаниям, вспоминаю, что в юности однажды мне даже было нечто вроде видения. Этот психологический эпизод сопряжен с воспоминанием о лице, здравствующем поныне, которое назову Ч., – да не посетует оно на меня за это оживление далекого прошлого. Мы были знакомы домами, дед мой с его отцом водили некогда дружбу. Будучи в 36 году за границей, этот Ч., тогда совсем юноша (ему и семнадцати не было), повздорил с семьей, тем ускорив, говорят, кончину своего батюшки, героя Отечественной войны, и в компании с какими-то гамбургскими купцами преспокойно уплыл в Бостон, а оттуда попал в Техас, где успешно занимался скотоводством. Так прошло лет двадцать. Нажитое состояние он проиграл в экарте на миссисипском кильботе, отыгрался в притонах Нового Орлеана, снова все просадил и после одной из тех безобразно-продолжительных, громких, дымных дуэлей в закрытом помещении, бывших тогда фешенебельными в Луизиане, – да и многих других приключений, он заскучал по России, где его кстати ждала вотчина, и с той же беспечной легкостью, с какой уезжал, вернулся в Европу. Как-то в зимний день, в 1858 году, он нагрянул к нам на Мойку; отец был в отъезде, гостя принимала молодежь. Глядя на этого заморского щеголя в черной мягкой шляпе и черной одежде, среди романтического мрака коей особенно ослепительно выделялись шелковая, с пышными сборками, рубашка и сине-сиренево-розовый жилет с алмазными пуговицами, мы с братом едва могли сдержать смех, и тут же решили воспользоваться тем, что за все эти годы он ровно ничего не слыхал о родине, точно она куда-то провалилась, так что теперь сорокалетним Рип-ван-Винкелем проснувшись в изменившемся Петербурге, Ч. был жаден до всяческих сведений, которыми мы и принялись обильно снабжать его, причем врали безбожно. На вопрос, например, жив ли Пушкин, и что пишет, я кощунственно отвечал, что “как же, на днях тиснул новую поэму”. В тот же вечер мы повели нашего гостя в театр. Вышло, впрочем, не совсем удачно. Вместо того, чтобы его попотчевать новой русской комедией, мы показали ему “Отелло” со знаменитым чернокожим трагиком Ольдриджем в главной роли. Нашего плантатора сперва как бы рассмешило появление настоящего негра на сцене. К дивной мощи его игры он остался равнодушен и больше занимался разглядыванием публики, особливо наших петербургских дам (на одной из которых вскоре после того женился), поглощенных в ту минуту завистью к Дездемоне.
“Посмотрите, кто с нами рядом, – вдруг обратился вполголоса мой братец к Ч. – Да вот, справа от нас”.
В соседней ложе сидел старик… Небольшого роста, в поношенном фраке, желтовато-смуглый, с растрепанными пепельными баками и проседью в жидких, взъерошенных волосах, он преоригинально наслаждался игрою африканца: толстые губы вздрагивали, ноздри были раздуты, при иных пассажах он даже подскакивал и стучал от удовольствия по барьеру, сверкая перстнями.
“Кто же это?” – спросил Ч.
“Как, не узнаете? Вглядитесь хорошенько”.
“Не узнаю”.
Тогда мой брат сделал большие глаза и шепнул:
“Да ведь это Пушкин!”.
Ч. поглядел… и через минуту заинтересовался чем-то другим. Мне теперь смешно вспомнить, какое тогда на меня нашло странное настроение: шалость, как это иной раз случается, обернулась не тем боком, и легкомысленно вызванный дух не хотел исчезнуть; я не в силах был оторваться от соседней ложи, я смотрел на эти резкие морщины, на широкий нос, на большие уши… по спине пробегали мурашки, вся отеллова ревность не могла меня отвлечь. Что если это и впрямь Пушкин, грезилось мне, Пушкин в шестьдесят лет, Пушкин, пощаженный пулей рокового хлыща, Пушкин, вступивший в роскошную осень своего гения… Вот это он, вот эта желтая рука, сжимающая маленький дамский бинокль, написала “Анчар”, “Графа Нулина”, “Египетские Ночи”… Действие кончилось; грянули рукоплескания. Седой Пушкин порывисто встал и все еще улыбаясь, со светлым блеском в молодых глазах, быстро вышел из ложи».
Сухощоков напрасно рисует моего деда пустоголовым удальцом. Интересы последнего находились просто в другой плоскости, чем мысленный быт молодого петербургского литератора-дилетанта, каким был тогда наш мемуарист. Если Кирилл Ильич и кудесил в молодости, то, женившись, не только остепенился, но поступил на государственную службу, заодно удвоил удачными операциями унаследованное состояние, затем, удалясь в свою деревню, выказал необыкновенное умение в хозяйстве, изобрел мимоходом новый сорт яблок, оставил любопытную «Записку» (плод зимних досугов) о «Равенстве перед законом в царстве животных», да предложение остроумной реформы под модным тогда замысловатым заглавием «Сновидения Египетского Бюрократа», а уже стариком принял важный торгово-дипломатический пост в Лондоне. Он был добр, смел, правдив, с причудами и страстями, – чего еще надобно? В семье осталось предание, что заклявшись играть, он физически не мог пребывать в комнате, где лежала колода карт. Старинный кольт, хорошо послуживший ему, и медальон с портретом таинственной женщины притягивали неизъяснимо мечты моего отрочества. Он мирно завершил жизнь, сохранившую до конца свежесть своего грозового начала. В 1883 году, воротясь в Россию, уже не луизианским бретёром, а российским сановником, он, в июльский день на кожаном диване, в маленькой, синей угловой комнате, где потом я держал собрание моих бабочек, без мучений скончался, в предсмертном бреду все говоря о каких-то огнях и музыке на какой-то большой реке.
Мой отец родился в 1860 году. Любовь к бабочкам ему привил немец-гувернер (кстати: куда девались нынче эти учившие русских детей природе чудаки, – зеленый сачок, жестянка на перевязи, уколотая бабочками шляпа, длинный ученый нос, невинные глаза за очками, – где они все, где их скелетики, – или это была особая порода немцев, на русский вывод, или я плохо смотрю?). Рано, в 1876 году, окончив в Петербурге гимназию, он университетское образование получил в Англии, в Кембридже, где занимался биологией под руководством профессора Брайта. Первое свое путешествие, кругосветное, он совершил еще до смерти своего отца, и с тех пор до 1918 года вся его жизнь состоит из странствий и писания ученых трудов. Главные эти труды суть: «Lepidoptera Asiatica» (8 томов, выпусками с 1890 года по 1917 год), «Чешуекрылые Российской Империи» (вышли первые 4 тома из предполагавшихся 6-ти, 1912–1916 гг.) и, наиболее известные широкой публике, «Путешествия Натуралиста» (7 томов, 1892–1912 гг.). Эти труды были единогласно признаны классическими, и еще в молодые годы имя его заняло одно из первых мест в изучении состава русско-азиатской фауны, наряду с именами зачинателей, Фишера фон Вальдгейма, Менетрие, Эверсмана.
Он работал в тесной связи со своими замечательными русскими современниками. Холодковский называет его «конквистадором русской энтомологии». Он был сотрудником Шарля Обертюра, вел. кн. Николая Михайловича, Лича, Зайтца. В специальных журналах рассеяны сотни его статей, из коих первая – «Об особенностях появления некоторых бабочек в Петербургской губернии» (Horae Soc. Ent. Ross.) относится к 1877 году, а последняя, – «Austautia simonoides n. sp., a Geometrid moth mimicking a small Parnassius» (Trans. Ent. Soc. London) – к 1916-му. Он едко и веско полемизировал со Штаудингером, автором пресловутого «Katalog». Он был вице-президентом Русского Энтомологического Общества, действительным членом Московского Об-ва Испытателей Природы, членом Императорского Русского Географического О-ва, почетным членом множества ученых обществ за границей.
Между 1885-ым годом и 1918-ым он обошел пространство невероятное, производя съемки пути в пятиверстном масштабе на протяжении многих тысяч верст и собирая поразительные коллекции. За эти годы он совершил восемь крупных экспедиций, длившихся в общей сложности восемнадцать лет; но между ними было еще множество мелких путешествий – «диверсий», как он их называл, причем этой мелочью почитал не только поездки в наименее исследованные европейские страны, но и то кругосветное путешествие, которое проделал в молодости. Взявшись серьезно за Азию, он исследовал Восточную Сибирь, Алтай, Фергану, Памир, Западный Китай, «острова Гобийского моря и его берега», Монголию, «неисправимый материк» Тибета – и в точных, полновесных словах описал свои странствия.
Такова общая схема жизни моего отца, выписанная из энциклопедии. Она еще не поет, но живой голос я в ней уже слышу. Остается сказать, что в 1898 году, имея 38 лет от роду, он женился на Елизавете Павловне Вежиной, двадцатилетней дочке известного государственного деятеля, что у него было от нее двое детей, что в промежутках между его путешествиями…
Мучительный, едва выразимый словами, чем-то кощунственный вопрос: хорошо ли ей жилось с ним, врозь и вместе? Затронуть ли этот внутренний мир, или ограничиться лишь описанием дорог – arida quaedam viarum descripto? «Дорогая мама, у меня уже есть к тебе большая просьба. Сегодня 8-ое июля, его день рождения. В другой день я бы не решился об этом обращаться к тебе. Напиши мне что-нибудь о нем и себе. Не такое, что могу найти в нашей общей памяти, а такое, что ты одна перечувствовала и сохранила». И вот ответный отрывок: «…представь себе – свадебное путешествие, Пиренеи, дивное блаженство от всего, от солнца, от ручьев, от цветов, от снежных вершин, даже от мух в отелях, – и оттого что мы каждое мгновение вместе. И вот, как-то утром, у меня разболелась, что ли, голова, или было уж чересчур для меня жарко, он сказал, что до завтрака выйдет на полчаса прогуляться. Почему-то запомнилось, что я сидела на балконе отеля (кругом тишина, горы, чудные скалы Гаварни) и в первый раз читала книгу не для девиц, “Une Vie”[18]18
«Жизнь» (франц.).
[Закрыть] Мопассана, мне тогда она очень понравилась, помню. Смотрю на часики, вижу уже пора завтракать, прошло больше часа с тех пор, как он ушел. Жду. Сперва немножко сержусь, потом начинаю тревожиться. Подают на террасе завтрак, не могу ничего съесть. Выхожу на лужайку перед отелем, возвращаюсь к себе, опять выхожу. Еще через час я уже была в неописуемом состоянии ужаса, волнения, Бог знает чего. Я путешествовала впервые, была неопытна и пуглива, а тут еще “Une Vie”… Я решила, что он бросил меня, самые глупые и страшные мысли лезли в голову, день проходил, мне казалось, что служащие смотрят на меня с каким-то злорадством, – ах, не могу тебе описать, что это было! Я даже начала совать платья в чемоданы, чтобы уехать немедленно в Россию, а потом решила вдруг, что он умер, выбежала, начала что-то безумное лепетать людям, посылать в полицию. Вдруг вижу, он идет по лужайке, лицо веселое, каким я его еще не видала, хотя все время был весел, идет, машет мне, как ни в чем не бывало, светлые штаны в мокрых зеленых пятнах, панама исчезла, пиджак на боку порван… Я думаю, ты уже понимаешь, что случилось. Слава Богу по крайней мере, что он ее наконец все-таки поймал, – в платок, на отвесной скале, – а то заночевал бы в горах, как он мне и объяснил преспокойно… Но теперь я хочу тебе рассказать другое, из немного более позднего времени, когда я уже знала, что такое всамделишная разлука. Вы были тогда совсем маленькими, тебе шел третий годок, ты не можешь этого помнить. Он весной уехал в Ташкент. Оттуда первого июня должен был отправиться в путешествие и отсутствовать не меньше двух лет. Это уже был второй большой отъезд за наше с ним время. Я теперь часто думаю, что если сложить все те годы, которые он со дня нашей свадьбы провел без меня, то выйдет в общем не больше его теперешнего отсутствия. И еще я думаю о том, что мне тогда казалось иногда, что я несчастна, но теперь я знаю, что я была всегда счастлива, что это несчастие было одной из красок счастья. Словом, я не знаю, что со мной случилось в ту весну, я всегда была как шалая, когда он уезжал, но тогда нашло что-то прямо неприличное. Я вдруг решила, что догоню его и поеду с ним хоть до осени. Я тайком от всех накупила тысячу вещей, я абсолютно не знала, что нужно, но мне казалось, что закупаю все очень хорошо и правильно. Я помню бинокль, и альпеншток, и походную койку, и шлем от солнца, и заячий тулупчик из “Капитанской дочки”, и перламутровый револьверчик, и какую-то брезентовую махину, которой я боялась, и какую-то сложную фляжку, которую не могла развинтить. Одним словом, вспомни снаряжение Tartarin de Tarascon! Как я могла вас маленьких оставить, как я прощалась с вами, – это в каком-то тумане, и я уж не помню, как выскользнула из-под надзора дяди Олега, как добралась до вокзала. Но мне было и страшно и весело, я себя чувствовала молодцом, и на станциях все смотрели на мой английский дорожный костюм с короткой (entendons-nous[19]19
Согласимся (франц.).
[Закрыть]: по щиколотку) клетчатой юбкой, с биноклем через одно плечо и сакошкой через другое. Такой я выскочила из тарантаса в поселке за Ташкентом, когда увидела, при ярком солнце, никогда не забуду, в ста шагах от дороги, твоего отца: он стоял, поставив ногу на белый камень, а локоть на изгородь, и разговаривал с двумя казаками. Я побежала по щебню, крича и смеясь, он медленно обернулся, и когда я вдруг как дура остановилась перед ним, то всю меня осмотрел, прищурился и сказал ужасным неожиданным голосом, всего два слова: марш домой. И я сразу повернулась, и пошла к своей повозке, и села, и видела, как он совершенно так же опять поставил ногу, и облокотился, продолжая разговор с казаками. И вот я ехала назад, в оцепенении, каменная, и только где-то далеко внутри меня шли уже приготовления к буре слез. Ну а через версты три (и тут в строке письма вдруг пробивалась улыбка) он меня догнал, в облаке пыли на белом коне, и уж простились мы с ним совсем иначе, так что потом я ехала обратно в Петербург почти такая же бодрая, как уезжала, только все волновалась, что с вами, как вы, но ничего, были здоровеньки».
Нет, мне почему-то кажется, что я все-таки помню все это, может быть потому, что впоследствии о нем часто говорилось. Вообще весь наш быт был проникнут рассказами об отце, тревогой о нем, ожиданием его возвращения, скрытой грустью проводов и дикой радостью встреч. Отсвет его страсти лежал на всех нас, по-разному окрашенный, по-разному воспринимаемый, но постоянный и привычный. Его домовый музей, где стояли рядами узкие дубовые шкапы с выдвижными стеклянными ящиками, полными распятых бабочек (остальное – растения, жуков, птиц, грызунов и змей – он отдавал на изучение коллегам), где пахло так, как пахнет, должно быть, в раю, и где у столов вдоль цельных окон работали препараторы, был как бы таинственным срединным очагом, освещавшим снутри весь наш петербургский дом, – и только гул Петропавловской пушки мог вторгаться в его тишину. Наши родственники, не энтомологические друзья, прислуга, смиренно-обидчивая Ивонна Ивановна говорили о бабочках, не как о чем-то действительно существующем, а как о некоем аттрибуте моего отца, существующем только поскольку он сам существует, или как о недуге, с которым все давно привыкли считаться, так что энтомология у нас превращалась в какую-то обиходную галлюцинацию, вроде домашнего, безвредного привидения, которое, никого уже не удивляя, каждый вечер садится у камелька. И вместе с тем никто среди наших несметных дядьев и теток не только не интересовался его наукой, но вряд ли даже прочел тот его общедоступный труд, который десятки тысяч интеллигентных русских людей читали и перечитывали. Я-то сам и Таня с самого раннего детства оценили отца, и он нам казался еще волшебнее, чем, скажем, Гаральд, о котором он же рассказывал нам, Гаральд, который дрался со львами на Цареградской арене, преследовал разбойников в Сирии, купался в Иордане, брал штурмом восемьдесят крепостей в Африке, «Синей Стране», спасал исландцев от голода, – и был славен от Норвегии до Сицилии, от Йоркшира до Новгорода. Затем, когда и я подпал под обаяние бабочек, в душе у меня что-то раскрылось, и я переживал все путешествия отца, точно их сам совершал, видел во сне вьющуюся дорогу, караван, разноцветные горы, завидовал отцу безумно, мучительно, до слез – горячих и бурных, которые вдруг вырывались у меня за столом, при обсуждении писем от него с дороги или даже при простом упоминании далекой-далекой местности. Каждый год, с приближением весны, перед переездом в деревню я чувствовал в себе бедную частицу того, что испытал бы перед отбытием в Тибет. На Невском проспекте, в последних числах марта, когда разлив торцов синел от сырости и солнца, высоко пролетала над экипажами вдоль фасадов домов, мимо городской думы, липок сквера, статуи Екатерины, первая желтая бабочка. В классе было отворено большое окно, воробьи садились на подоконник, учителя пропускали уроки, оставляя вместо них как бы квадраты голубого неба, с футбольным мячом, падавшим из голубизны. Почему-то по географии у меня был всегда дурной балл, а ведь с каким выражением наш географ, случалось, упоминал имя моего отца, как при этом обращались ко мне любопытные глаза моих товарищей, как у меня самого от стесненного восторга и боязни восторг выказать приливала и отливала кровь, – и ныне, когда я думаю о том, как мало знаю, как легко могу совершить где-нибудь дурацкий промах, описывая исследования отца, я вспоминаю себе на пользу и утешение его смешнейший смешок, когда, посмотрев мимоходом книжонку, рекомендованную нам в школе тем же географом, нашел очаровательный ляпсус, сделанный компиляторшей (некой госпожой Лялиной), которая, невинно обрабатывая Пржевальского для среднеучебных заведений, приняла, видимо, солдатскую прямоту слога в одном из его писем за орнитологическую деталь: «Жители Пекина льют все помои на улицу, и здесь постоянно можно видеть, идя по улице, сидящих орлов, то справа, то слева».
В начале апреля, открывая охоту, члены Русского Энтомологического Общества по традиции отправлялись за Черную Речку, где, в березовой роще, еще голой и мокрой, еще в проплешинах ноздреватого снега, водилась на стволах, плашмя прижимаясь к бересте прозрачными слабыми крыльцами, излюбленная нами редкость, специальность губернии. Раза два они брали с собой и меня. Среди этих пожилых, семейных людей, сосредоточенно и осторожно колдующих в апрельском лесочке, был и старый театральный критик, и врач-гинеколог, и профессор международного права, и генерал, – я почему-то особенно ясно запомнил фигуру этого генерала (Х.В. Барановского – в нем было что-то пасхальное), низко согнувшего толстую спину, одну руку за нее заложившего, рядом с фигурой отца, как-то легко, по-восточному, присевшего на корточки, – оба со вниманием рассматривают вырытую совком горсточку рыжей земли, – и до сих пор меня занимает мысль, что думали обо всем этом ожидавшие на дороге кучера.
Случалось, летним утром, вплывала в нашу классную бабушка, Ольга Ивановна Вежина, полная, свежая, в митенках и кружевах: «Bonjour, les enfants»[20]20
Здравствуйте, дети! (франц.)
[Закрыть], – выпевала она звучно, и затем, делая сильное ударение на предлогах, сообщала: «Je viens de voir dans le jardin, près du cèdre, sur une rose de toute beauté: il était bleu, vert, pourpre, doré, – et grand comme ça[21]21
Я только что видела в саду, около кедра, на прекрасной розе синюю, зеленую, пурпурную, золотистую – и вот такую большую (франц.).
[Закрыть]. Живо бери рампетку, – продолжала она, обращаясь ко мне, – и ступай в сад. Может, еще застанешь», – и уплывала, совершенно не поняв, что попадись мне такое сказочное насекомое (даже не стоило гадать, какую садовую банальность так украсило ее воображение), то я бы умер от разрыва сердца. Случалось, француженка наша, желая мне сделать особое удовольствие, выбирала мне для выучивания наизусть басню Флориана о столь же неестественно нарядном пти-метре[22]22
Щеголь (франц. petit_maître).
[Закрыть] мотыльке. Случалось, какая-нибудь тетка мне дарила книгу Фабра, к популярным трудам которого, полным болтовни, неточных наблюдений и прямых ошибок, отец относился с пренебрежением. Помню еще: хватился я однажды сачка, вышел искать его на веранду и встретил откуда-то возвращавшегося с ним на плече, раскрасневшегося, с ласковой и лукавой усмешкой на малиновых губах, денщика моего дяди: «Ну уж и наловил я вам», – сообщил он довольным голосом, как-то свалив на пол сачок, сетка которого была поближе к обручу перехвачена какой-то веревочкой, так что получился мешок, в котором кишела и шуршала всякая живность, – и Боже мой, что тут была за дрянь: штук тридцать кузнечиков, головка ромашки, две стрекозы, колосья, песок, обитая до неузнаваемости капустница да еще подосиновый гриб, замеченный по пути и на всякий случай прибавленный. Русский простолюдин знает и любит родную природу. Сколько насмешек, сколько предположений и вопросов мне доводилось слышать, когда, превозмогая неловкость, я шел через деревню со своей сеткой! «Ну это что, – говорил отец, – видел бы ты физиономии китайцев, когда я однажды коллекционировал на какой-то священной горе, или как на меня посмотрела передовая учительница в городе Верном, когда я объяснил ей, чем занят в овраге».
Как описать блаженство наших прогулок с отцом по лесам, полям, торфяным болотам, или постоянную летнюю мысль о нем, если был в отъезде, вечное мечтание сделать какое-нибудь открытие, встретить его этим открытием, – как описать чувство, испытываемое мной, когда он мне показывал все те места, где сам в детстве ловил то-то и то-то, – бревно полусгнившего мостика, где в 71-ом поймал павлиний глаз, спуск дороги к реке, на котором однажды упал на колени, плача и молясь: промахнулся, и навсегда улетела! А что за прелесть была в его речи, в какой-то особой плавности и стройности слога, когда он говорил о своем предмете, какая ласковая точность в движении пальцев, вертящих винт расправилки или микроскопа, какой поистине волшебный мир открывался в его уроках! Да, я знаю, что так не следует писать, – на этих возгласах вглубь не уедешь, – но мое перо еще не привыкло следовать очертаниям его образа, мне самому противны эти вспомогательные завитки. О, не смотри на меня, мое детство, этими большими, испуганными глазами.
Сладость уроков! В теплый вечер он водил меня на прудок наблюдать, как осиновый бражник маячит над самой водой, окунает в нее кончик тела. Он показывал мне препарирование генитальной арматуры для определения видов, по внешности неразличимых. Он с особенной улыбкой обращал внимание мое на черных бабочек в нашем парке, с таинственной и грациозной неожиданностью появлявшихся только в четные года. Он мешал для меня патоку с пивом, чтобы в страшно холодную, страшно дождливую осеннюю ночь ловить у смазанных стволов, блестевших при свете керосиновой лампы, множество больших, нырявших, безмолвно спешивших на приманку ночниц. Он то согревал, то охлаждал золотые куколки моих крапивниц, чтобы я мог получать из них корсиканских, полярных и вовсе необыкновенных, точно испачканных в смоле, с приставшим шелковым пушком. Он учил меня, как разобрать муравейник, чтобы найти гусеницу голубянки, там заключившую с жителями варварский союз, и я видел, как, жадно щекоча сяжками один из сегментов ее неповоротливого, слизнеподобного тельца, муравей заставлял ее выделить каплю пьяного сока, тут же поглощаемую им, – а за то предоставлял ей в пищу свои же личинки, так, как если б коровы нам давали шартрез, а мы – им на съедение младенцев. Но сильная гусеница одного экзотического вида до этого обмена не снисходит, запросто пожирая муравьиных детей, и затем обращаясь в непроницаемую куколку, – которую наконец, к сроку вылупления, муравьи (эти недоучки опыта) окружают, выжидая появления беспомощно сморщенной бабочки, чтобы броситься на нее; бросаются, – а все-таки она не гибнет: «Никогда я так не смеялся, – говорил отец, – как когда убедился, что ее снабдила природа клейким составом, от которого слипались усики и лапки рьяных муравьев, теперь уже валявшихся и корчившихся вокруг нее, пока у нее самой, равнодушной и неуязвимой, крепли и сохли крылья».
Он рассказывал о запахах бабочек – мускусных, ванильных; о голосах бабочек: о пронзительном звуке, издаваемом чудовищной гусеницей малайского сумеречника, усовершенствовавшей мышиный писк нашей адамовой головы; о маленьком звучном тимпане некоторых арктид; о хитрой бабочке в бразильском лесу, подражающей свиресту одной тамошней птички. Он рассказывал о невероятном художественном остроумии мимикрии, которая не объяснима борьбой за жизнь (грубой спешкой чернорабочих сил эволюции), излишне изысканна для обмана случайных врагов, пернатых, чешуйчатых и прочих (мало разборчивых, да и не столь уж до бабочек лакомых), и словно придумана забавником-живописцем как раз ради умных глаз человека (догадка, которая могла бы далеко увести эволюциониста, наблюдавшего питающихся бабочками обезьян); он рассказывал об этих магических масках мимикрии: о громадной ночнице, в состоянии покоя принимающей образ глядящей на вас змеи; об одной тропической пяденице, окрашенной в точное подобие определенного вида денницы, бесконечно от нее отдаленной в системе природы, причем ради смеха иллюзия оранжевого брюшка, имеющегося у одной, складывается у другой из оранжевых пахов нижних крыльев; и о своеобразном гареме знаменитого африканского кавалера, самка которого летает в нескольких мимических разновидностях, цветом, формой и даже полетом подражающих бабочкам других пород (будто бы несъедобным), являющимся моделью и для множества других подражательниц. Он рассказывал о миграции, о том, как движется по синеве длинное облако, состоящее из миллионов белянок, равнодушное к направлению ветра, всегда на одном и том же уровне над землей, мягко и плавно поднимаясь через холмы и опять погружаясь в долины, случайно встречаясь быть может с облаком других бабочек, желтых, просачиваясь сквозь него без задержки, не замарав белизны, – и дальше плывя, а к ночи садясь на деревья, которые до утра стоят как осыпанные снегом, – и снова снимаясь, чтобы продолжить путь, – куда? зачем? природой еще не досказано – или уже забыто. «Наша репейница, – рассказывал он, – “крашеная дама” англичан, “красавица” французов, в отличие от родственных ей видов, не зимует в Европе, а рождается в африканской степи; там, на заре, удачливый путник может услышать, как вся степь, блистая в первых лучах, трещит и хрустит от несчетного количества лопающихся хризалид». Оттуда без промедления она пускается в северный путь, ранней весной достигая берегов Европы, вдруг на день, на два оживляя крымские сады и террасы Ривьеры; не задерживаясь, но всюду оставляя особей на летний развод, поднимается дальше на север и к концу мая, уже одиночками, достигает Шотландии, Гельголанда, наших мест, а там и крайнего севера земли: ее ловили в Исландии! Странным, ни на что не похожим полетом, бледная, едва узнаваемая, обезумелая бабочка, избрав сухую прогалину, «колесит» между лешинских елок, а к концу лета, на чертополохе, на астрах, уже наслаждается жизнью ее прелестное, розоватое потомство. «Самое трогательное, – добавлял отец, – это то, что в первые холодные дни наблюдается обратное явление, отлив: бабочка стремится на юг, на зимовку, но разумеется гибнет, не долетев до тепла».
Одновременно с англичанином Tutt, в швейцарских горах наблюдавшим то же, что и он на Памире, мой отец открыл истинную природу роговистого образования, появляющегося под концом брюшка у оплодотворенных самок аполлонов, выяснив, что это супруг, работая парой шпадлевидных отростков, налагает на супругу лепной пояс верности собственной выделки, получающийся другим у каждого из видов этого рода, то лодочкой, то улиткой, то – как у редчайшего темно-пепельного orpheus Godunov – наподобие маленькой лиры. И как frontispiece к моему теперешнему труду мне почему-то хотелось бы выставить именно эту бабочку, – ах, как он говорил о ней, как вынимал из шести плотных треугольных конвертов шесть привезенных экземпляров, приближал к брюшку единственной самочки лупу, вставленную в глаз, – и как набожно его препаратор размачивал сухие, лоснистые, тесно сложенные крылья, чтобы потом гладко пронзить булавкой грудку бабочки, воткнуть ее в пробковую щель и широкими полосками полупрозрачной бумаги плоско закрепить на дощечках как-то откровенно беззащитно-изящно распахнутую красоту, да подложить под брюшко ватку, да выправить черные сяжки, – чтобы она так высохла навеки. Навеки? В берлинском музее многочисленные бабочки отцовского улова так же свежи сегодня, как были в восьмидесятых, девяностых годах. Бабочки из собрания Линнея хранятся в Лондоне с восемнадцатого века. В пражском музее есть тот самый экземпляр популярной бабочки-атлас, которым любовалась Екатерина Великая. Отчего же мне стало так грустно?
Его поимки, наблюдения, звук голоса в ученых словах, все это, думается мне, я сберегу. Но это так еще мало. Мне хотелось бы с такой же относительной вечностью удержать то, что быть может я всего более любил в нем: его живую мужественность, непреклонность и независимость его, холод и жар его личности, власть над всем, за что он ни брался. Точно играючи, точно желая мимоходом запечатлеть свою силу на всем, он, там и сям выбирая предмет из области вне энтомологии, оставил след почти во всех отраслях естествоведения: есть только одно растение, описанное им из всех им собранных, но это зато – замечательный вид березы; одна птица – дивнейший фазан; одна летучая мышь – но самая крупная в мире. И во всех концах природы бесконечное число раз отзывается наша фамилия, ибо другие натуралисты именем его называли кто паука, кто рододендрон, кто горный хребет, – последнее, кстати сказать, его сердило: «Выяснить и сохранить давнее туземное название перевала, – писал он, – всегда и научнее и благороднее, чем нахлобучить на него имя доброго знакомого».








