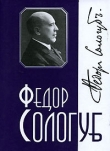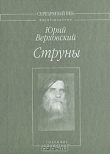Стихотворения, не вошедшие в сборники

Текст книги "Стихотворения, не вошедшие в сборники"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 6 (всего у книги 7 страниц)
К РОССИИ
Мою ладонь географ строгий
разрисовал: тут все твои
большие, малые дороги,
а жилы – реки и ручьи.
Слепец, я руки простираю
и все земное осязаю
через тебя, страна моя.
Вот почему так счастлив я.
И если правда, что намедни
мне померещилось во сне,
что час беспечный, час последний
меня найдет в чужой стране,
как на покатой школьной парте,
совьешься ты подобно карте,
как только отпущу края,
и ляжешь там, где лягу я.
23 июня 1928
ОСА
Твой панцирь, желтый и блестящий,
булавкой я проткнул
и слушал плач твой восходящий,
прозрачнейший твой гул.
Тупыми ножницами жало
я защемил – и вот
отрезал… Как ты зажужжала,
как выгнула живот!
Теперь гуденье было густо,
и крылья поскорей
я отхватил, почти без хруста,
у самых их корней.
И обеззвученное тело
шесть вытянуло ног,
глазастой головой вертело…
И спичку я зажег —
чтоб видеть, как вскипишь бурливо,
лишь пламя поднесу…
Так мучит отрок терпеливый
чудесную осу;
так, изощряя слух и зренье,
взрезая, теребя, —
мое живое вдохновенье,
замучил я тебя!
<24 июня 1928>
ТОЛСТОЙ
Картина в хрестоматии: босой
старик. Я поворачивал страницу,
мое воображенье оставалось
холодным. То ли дело – Пушкин: плащ,
скала, морская пена… Слово «Пушкин»
стихами обрастает, как плющом,
и муза повторяет имена,
вокруг него бряцающие: Дельвиг,
Данзас, Дантес, – и сладостно звучна
вся жизнь его – от Делии лицейской
до выстрела в морозный день дуэли.
К Толстому лучезарная легенда
еще не прикоснулась. Жизнь его
нас не волнует. Имена людей,
с ним связанных, звучат еще незрело:
им время даст таинственную знатность,
то время не пришло; назвав Черткова,
я только б сузил горизонт стиха.
И то сказать: должна людская память
утратить связь вещественную с прошлым,
чтобы создать из сплетни эпопею
и в музыку молчанье претворить.
А мы еще не можем отказаться
от слишком лестной близости к нему
во времени. Пожалуй, внуки наши
завидовать нам будут неразумно.
Коварная механика порой
искусственно поддерживает память.
Еще хранит на граммофонном диске
звук голоса его: он вслух читает,
однообразно, торопливо, глухо,
и запинается на слове «Бог»,
и повторяет: «Бог», и продолжает
чуть хриплым говорком, – как человек,
что кашляет в соседнем отделенье,
когда вагон на станции ночной,
бывало, остановится со вздохом.
Есть, говорят, в архиве фильмов ветхих,
теперь мигающих подслеповато,
яснополянский движущийся снимок:
старик невзрачный, роста небольшого,
с растрепанною ветром бородой,
проходит мимо скорыми шажками,
сердясь на оператора. И мы
довольны. Он нам близок и понятен.
Мы у него бывали, с ним сидели.
Совсем не страшен гений, говорящий
о браке или о крестьянских школах…
И, чувствуя в нем равного, с которым
поспорить можно, и зовя его
по имени и отчеству, с улыбкой
почтительной, мы вместе обсуждаем,
как смотрит он на то, на се… Шумят
витии за вечерним самоваром;
по чистой скатерти мелькают тени
религий, философий, государств —
отрада малых сих… Но есть одно,
что мы никак вообразить не можем,
хоть рыщем мы с блокнотами, подобно
корреспондентам на пожаре, вкруг
его души. До некой тайной дрожи,
до главного добраться нам нельзя.
Почти нечеловеческая тайна!
Я говорю о тех ночах, когда
Толстой творил, я говорю о чуде,
об урагане образов, летящих
по черным небесам в час созиданья,
в час воплощенья… Ведь живые люди
родились в эти ночи… Так Господь
избраннику передает свое
старинное и благостное право
творить миры и в созданную плоть
вдыхать мгновенно дух неповторимый.
И вот они живут; всё в них живет —
привычки, поговорки и повадка;
их родина – такая вот Россия,
какую носим мы в той глубине,
где смутный сон примет невыразимых, —
Россия запахов, оттенков, звуков,
огромных облаков над сенокосом,
Россия обольстительных болот,
богатых дичью… Это всё мы любим.
Его созданья, тысячи людей,
сквозь нашу жизнь просвечивают чудно,
окрашивают даль воспоминаний, —
как будто впрямь мы жили с ними рядом.
Среди толпы Каренину не раз
по черным завиткам мы узнавали;
мы с маленькой Щербацкой танцевали
заветную мазурку на балу…
Я чувствую, что рифмой расцветаю,
я предаюсь незримому крылу…
Я знаю, смерть лишь некая граница;
мне зрима смерть лишь в образе одном:
последняя дописана страница,
и свет погас над письменным столом.
Еще виденье, отблеском продлившись,
дрожит, и вдруг – немыслимый конец…
И он ушел, разборчивый творец,
на голоса прозрачные деливший
гул бытия, ему понятный гул…
Однажды он со станции случайной
в неведомую сторону свернул,
и дальше – ночь, безмолвие и тайна…
<16 сентября 1928>
КИНЕМАТОГРАФ
Люблю я световые балаганы
всё безнадежнее и всё нежней.
Там сложные вскрываются обманы
простым подслушиваньем у дверей.
Там для распутства символ есть единый —
бокал вина, а добродетель – шьет.
Между чертами матери и сына
острейший глаз там сходства не найдет.
Там, на руках, в автомобиль огромный
не чуждый состраданья богатей
усердно вносит барышень бездомных,
в тигровый плед закутанных детей.
Там письма спешно пишутся средь ночи:
опасность… трепет… поперек листа
рука бежит… И как разборчив почерк,
какая писарская чистота!
Вот спальня озаренная. Смотрите,
как эта шаль упала на ковер.
Не виден ослепительный юпитер,
не слышен раздраженный режиссер;
но ничего там жизнью не трепещет:
пытливый гость не может угадать
связь между вещью и владельцем вещи,
житейского особую печать.
О да! Прекрасны гонки, водопады,
вращение зеркальной темноты.
Но вымысел? Гармонии услада?
Ума полет? О, Муза, где же ты?
Утопит злого, доброго поженит,
и снова, через веси и века,
спешит роскошное воображенье
самоуверенного пошляка.
И вот – конец… Рояль незримый умер,
темно и незначительно пожив.
Очнулся мир, прохладою и шумом
растаявшую выдумку сменив.
И со своей подругою приказчик,
встречая ветра влажного напор,
держа ладонь над спичкою горящей,
насмешливый выносит приговор.
10 ноября 1928
СТАНСЫ О КОНЕ
На полотнищах, озаренных
игрой малиновых лучей,
условный выгиб окрыленных
наполеоновых коней.
И цирковое полнолунье,
огромный снежный круп, оплот
сосредоточенной плясуньи;
песок, и музыка, и пот.
И всадник, по лесу спешащий,
седла поскрипыванье, хруст;
волною счастия шуршащий
по голенищу влажный куст.
И ты, лирическое имя
в газете уличной, скакун,
гнедым огнем летящий мимо
тобою вспыхнувших трибун.
И столь покорный конь манежный,
и Фальконетов конь живой.
Но самый жалостный и нежный,
невыносимый образ твой:
обросший шерстью с голодухи,
не чующий моей любви,
и без конца щекочут мухи
ресницы длинные твои.
26 ноября 1928
НА СМЕРТЬ Ю. И. АЙХЕНВАЛЬДА
Перешел ты в новое жилище,
и другому отдадут на днях
комнату, где жил писатель нищий,
иностранец с книгою в руках.
Тихо было в комнате: страница
изредка шуршала; за окном
вспыхивала темная столица
голубым трамвайным огоньком.
В плотный гроб судьба тебя сложила,
как очки разбитые в футляр…
Тихо было в комнате, но жило
в ней волненье, сокровенный жар.
Ничего не слышали соседи,
а с тобою голос говорил,
то как гул колышущейся меди,
то как трепет ласточкиных крыл,
голос муз, высокое веселье…
Для тебя тот голос не потух
там, где неземное новоселье
ныне празднует твой дух.
Берлин, 1929 г.
«Для странствия ночного мне не надо…»
Для странствия ночного мне не надо
ни кораблей, ни поездов.
Стоит луна над шашечницей сада.
Окно открыто. Я готов.
И прыгает с беззвучностью привычной,
как ночью кот через плетень,
на русский берег речки пограничной
моя беспаспортная тень.
Таинственно, легко, неуязвимо
ложусь на стены чередой,
и в лунный свет, и в сон, бегущий мимо,
напрасно метит часовой.
Лечу лугами, по лесу танцую —
и кто поймет, что есть один,
один живой на всю страну большую,
один счастливый гражданин.
Вот блеск Невы вдоль набережной длинной.
Все тихо. Поздний пешеход,
встречая тень средь площади пустынной,
воображение клянет.
Я подхожу к неведомому дому,
я только место узнаю…
Там, в темных комнатах, все по-другому
и все волнует тень мою.
Там дети спят. Над уголком подушки
я наклоняюсь, и тогда
им снятся прежние мои игрушки,
и корабли, и поезда.
20 июля 1929
ВОЗДУШНЫЙ ОСТРОВ
Средь пустоты, над полем дальним,
пласты закатных облаков
казались призраком зеркальным
океанических песков.
Как он блистает, берег гладкий,
необитаемый… Толчок,
дно поднимается под пяткой,
и выхожу я на песок.
Дрожа от свежести и счастья,
стою я, новый Робинзон,
на этой отмели блестящей,
пустой лазурью окружен.
И странно вспоминать минуту
недоумения, когда
нащупала мою каюту
и хищно хлынула вода;
когда она, вращаясь зыбко
в нетерпеливости слепой,
внесла футляр от чьей-то скрипки
и фляжку унесла с собой.
О том, как палуба трещала,
приняв смертельную волну,
о том, как музыка играла,
пока мы бурно шли ко дну,
пожалуй, будет и нетрудно
мне рассказать когда-нибудь…
Да что ж мечтать, какое судно
на остров мой направит путь.
Он слишком призрачен, воздушен.
О нем не знают ничего.
К нему создатель равнодушен.
Он меркнет, тает… нет его.
И я охвачен темнотою,
и, сладостно в ушах звеня
и вздрагивая под рукою,
проходят звезды сквозь меня.
Август 1929
ОБЛАКА
Насмешлива, медлительна, легка
их мимика средь синего эфира.
Объятьям подражают облака.
Ленивая небесная сатира
на тщание географа, на лик
изменчивый начертанного мира;
грызет лазурь морская материк.
И – масками чудовищными – часто
проходят образы земных владык:
порою, в профиль мертвенно-лобастый
распухнет вдруг воздушная гора,
и тает вновь, как тает коренастый
макроцефал, которого вчера
лепили дети красными руками,
а нынче точит оттепель с утра.
И облака плывут за облаками.
25. 8. 29.
«Вздохнуть поглубже и, до плеч»
Вздохнуть поглубже и, до плеч
в крылья вдев расправленные руки,
с подоконника на воздух лечь
и лететь, наперекор науке,
с переменным трепетом стрижа;
вдоль сада пронестись, и метить прямо
в стену, и, перешагнув, над самой
землей скользнуть, и в синеву, дрожа,
взмыть…
Боюсь, не вынесу полета.. —
Нет, вынес. На полу сижу впотьмах,
и в глазах пестро, и шум в ушах,
и блаженная в плечах ломота.
1929 г.
БУДУЩЕМУ ЧИТАТЕЛЮ
Ты, светлый житель будущих веков,
ты, старины любитель, в день урочный
откроешь антологию стихов,
забытых незаслуженно, но прочно.
И будешь ты как шут одет на вкус
моей эпохи фрачной и сюртучной.
Облокотись. Прислушайся. Как звучно
былое время – раковина муз.
Шестнадцать строк, увенчанных овалом
с неясной фотографией… Посмей
побрезговать их слогом обветшалым,
опрятностью и бедностью моей.
Я здесь с тобой. Укрыться ты не волен.
К тебе на грудь я прянул через мрак.
Вот холодок ты чувствуешь: сквозняк
из прошлого… Прощай же. Я доволен.
<7 февраля> 1930
ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ
В листве березовой, осиновой,
в конце аллеи у мостка,
вдруг падал свет от платья синего,
от василькового венка.
Твой образ легкий и блистающий
как на ладони я держу
и бабочкой неулетающей
благоговейно дорожу.
И много лет прошло, и счастливо
я прожил без тебя, а всё ж
порой я думаю опасливо:
жива ли ты и где живешь.
Но если встретиться нежданная
судьба заставила бы нас,
меня бы, как уродство странное,
твой образ нынешний потряс.
Обиды нет неизъяснимее:
ты чуждой жизнью обросла.
Ни платья синего, ни имени
ты для меня не сберегла.
И всё давным-давно просрочено,
и я молюсь, и ты молись,
чтоб на утоптанной обочине
мы в тусклый вечер не сошлись.
12 февраля 1930
«Шел поезд между скал в ущелии глубоком»
Шел поезд между скал в ущелии глубоком,
поросшем золотым утесником и дроком;
порой влетал в туннель с отрывистым свистком:
сначала – чернота гремящая, потом —
как будто отсветы сомнительные в гроте,
и снова – яркий день; порой на повороте
был виден из окна сгибающийся змей
вагонов позади и головы людей,
облокотившихся на спущенные рамы.
Сочился апельсин очищенный.
Но самый
прелестный, может быть, из случаев в пути,
когда, без станции, как бы устав идти,
задумывался вдруг мой поезд. Как спокойно,
как солнечно кругом… С назойливостью знойной
одни кузнечики звенят наперебой.
Ища знакомых черт, мне ветерок слепой
потрагивает лоб, и мучась беззаконным
желаньем, я гляжу на вид в окне вагонном
и упустить боюсь возможную любовь,
и знаю – упущу. Едва ль увижу вновь,
едва ль запомню я те камни, ту поляну,
и вон на ту скалу я никогда не встану.
10–11. 3. 30.
УЛЬДАБОРГ
(перевод с зоорландского)
Смех и музыка изгнаны. Страшен
Ульдаборг, этот город немой.
Ни садов, ни базаров, ни башен,
и дворец обернулся тюрьмой:
математик там плачется кроткий,
там – великий бильярдный игрок.
Нет прикрас никаких у решетки.
О, хотя бы железный цветок,
хоть бы кто-нибудь песней прославил,
как на площади, пачкая снег,
королевских детей обезглавил
из Торвальта силач-дровосек.
И какой-то назойливый нищий
в этом городе ранних смертей,
говорят, всё танцмейстера ищет
для покойных своих дочерей.
Но последний давно удавился,
сжег последнюю скрипку палач,
и в Германию переселился
в опаленных лохмотьях скрипач.
И хоть праздники все под запретом
(на молу фейерверки весной
и балы перед ратушей летом),
будет праздник, и праздник большой.
Справа горы и Воцберг алмазный,
слева сизое море горит,
а на площади шепот бессвязный:
Ульдаборг обо мне говорит.
Озираются, жмутся тревожно.
Что за странные лица у всех!
Дико слушают звук невозможный:
я вернулся, и это мой смех —
над запретами голого цеха,
над законами глухонемых,
над пустым отрицанием смеха,
над испугом сограждан моих.
Погляжу на знакомые дюны,
на алмазную в небе гряду,
глубже руки в карманы засуну
и со смехом на плаху взойду.
Апрель 1930
ОКНО
Соседний дом в сиренях ночи тонет,
и сумраком становится он сам.
Кой-где забыли кресло на балконе,
не затворили рам.
Внезапно, как раскрывшееся око,
свет зажигается в одном из окон.
К буфету женщина идет.
А тот уж знает, что хозяйке надо,
и жители хрустальные ей рады,
и одного она берет.
Бесшумная, сияя желтым платьем,
протягивает руку, и невнятен
звук выключателя: трик-трак.
Сквозь темноту наклонного паркета
уходит силуэт тропинкой света,
дверь закрывается, и – мрак.
Но чем я так пронзительно взволнован,
откуда эта радость бытия?
И опытом каким волшебно-новым
обогатился я?
<5 мая> 1930
ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
Еще темно. В оркестре стеснены
скелеты музыки, и пусто в зале.
Художнику еще не заказали
густых небес и солнечной стены.
Но толстая растерзана тетрадь,
и розданы страницы лицедеям.
На чердаках уже не холодеем.
Мы ожили, мы начали играть.
И вот сажусь на выцветший диван
с невидимой возлюбленною рядом,
и голый стол следит собачьим взглядом,
как я беру невидимый стакан.
А утром собираемся в аду,
где говорим и ходим, громыхая.
Еще темно. Уборщица глухая
одна сидит в тринадцатом ряду.
Настанет день. Ты будешь королем.
Ты – поселянкой с кистью винограда.
Вы – нищими. А ты, моя отрада,
сама собой, но в платье дорогом.
И вот настал. Со стороны земли
замрела пыль. И в отдаленье зримы,
идут, идут кочующие мимы,
и музыка слышна, и вот пришли.
Тогда-то небожителям нагим
и золотым от райского загара,
исполненные нежности и жара,
представим мир, когда-то милый им.
6 октября 1930
ПРОБУЖДЕНИЕ
Спросонья вслушиваюсь в звон
и думаю: еще мгновенье —
и вновь забудусь я… Но сон
уже утратил дар забвенья —
не может дочитать строку,
восстановить страну ночную,
обратно съехать по ледку…
Куда там! – в оттепель такую.
Звон в отопленье по утрам —
необычайно музыкальный:
удар или двойной тра-рам,
как по хрустальной наковальне.
Март, ветреник и скороход,
должно быть, облака пугает:
свет абрикосовый растет
сквозь веки и опять сбегает.
Тут, перелившись через край,
вся нежность мира накатила:
пса молодого добрый лай,
а в комнате – твой голос милый.
<Январь 1931>
ПОМПЛИМУСУ
Прекрасный плод, увесистый и гладкий,
ты светишься, как полная луна;
глухой сосуд амброзии несладкой,
душистый холод белого вина.
Лимонами блистают Сиракузы,
Миньону соблазняет апельсин,
но ты один достоин жажды Музы,
когда она спускается с вершин.
<24 января> 1931
ИЗ КАЛМБРУДОВОЙ ПОЭМЫ «НОЧНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ»
(Vivian Calmbrood's «The Night Journey»)
От Меррифильда до Ольдгрова
однообразен перегон:
всё лес да лес со всех сторон.
Ночь холодна, луна багрова.
Тяжелым черным кораблем
проходит дилижанс, и в нем
спят пассажиры, спят, умаясь:
бессильно клонится чело
и вздрагивает, поднимаясь,
и снова никнет тяжело.
И смутно слышатся средь мрака
приливы и отливы снов,
храпенье дюжины носов.
В ту ночь осеннюю, однако,
был у меня всего один
попутчик: толстый господин
в очках, в плаще, в дорожном пледе.
По кашлю судя, он к беседе
был склонен, и пока рыдван
катился грузно сквозь туман,
и жаловались на ухабы
колеса, и скрипела ось,
и все трещало и тряслось,
разговорились мы.
"Когда бы
(со вздохом начал он) меня
издатель мой не потревожил,
я б не покинул мест, где прожил
все лето с Троицына дня.
Вообразите гладь речную,
березы, вересковый склон.
Там жил я, драму небольшую
писал из рыцарских времен;
ходил я в сюртучке потертом,
с соседом, с молодым Вордсвортом,
удил форелей иногда
(его стихам вредит вода,
но человек он милый), – словом,
я счастлив был – и признаюсь,
что в Лондон с манускриптом новым
без всякой радости тащусь.
В лирическом служенье музе,
в изображении стихий
люблю быть точным: щелкнул кий,
и слово правильное в лузе;
а вот изволь-ка, погрузясь
в туман и лондонскую грязь,
сосредоточить вдохновенье:
все расплывается, дрожит,
и рифма от тебя бежит,
как будто сам ты привиденье.
Зато как сладко для души
в деревне, где-нибудь в глуши,
внимая думам тиховейным,
котенка за ухом чесать,
ночь многозвездную вкушать
и запивать ее портвейном,
и, очинив перо острей,
все тайное в душе своей
певучей предавать огласке.
Порой слежу не без опаски
за резвою игрой стиха:
он очень мил, он просит ласки,
но далеко ли до греха?
Так одномесячный тигренок
по-детски мягок и пузат,
но как он щурится спросонок,
какие огоньки сквозят…
Нет, я боюсь таких котят.
Вам темным кажется сравненье?
Пожалуй, выражусь ясней:
есть кровожадное стремленье
у музы ласковой моей —
пороки бичевать со свистом,
тигрицей прядать огневой,
впиваться вдруг стихом когтистым
в загривок пошлости людской.
Да здравствует сатира! Впрочем,
нет пищи для нее в глухом
журнальном мире, где хлопочем
мы о бессмертии своем.
Дни Ювенала отлетели.
Не воспевать же, в самом деле,
как за крапленую статью
побили Джонсона шандалом?
Нет воздуха в сем мире малом.
Я музу увожу мою.
Вы спросите, как ей живется,
привольно ль, весело? О, да.
Идет, молчит, не обернется,
хоть пристают к ней иногда
сомнительные господа.
К иному критику в немилость
я попадаю оттого,
что мне смешна его унылость,
чувствительное кумовство,
суждений томность, слог жеманный,
обиды отзвук постоянный,
а главное – стихи его.
Бедняга! Он скрипит костями,
бренча на лире жестяной,
он клонится к могильной яме
адамовою головой.
И вообще: поэты много
о смерти ныне говорят;
венок и выцветшая тога —
обыкновенный их наряд.
Ущерб, закат… Петроний новый,
с полуулыбкой на устах,
с последней розой бирюзовой
в изящно сложенных перстах,
садится в ванну. Все готово.
Уж вольной смерти близок час.
Но погоди! Чем резать жилу,
не лучше ль обратиться к мылу,
не лучше ль вымыться хоть раз?"
………………………………..
Сей разговор литературный
не занимал меня совсем.
Я сам, я сам пишу недурно,
и что мне до чужих поэм?
Но этот облик, этот голос…
Нет, быть не может…
Между тем
заря с туманами боролась,
уже пронизывала тьму,
и вот к соседу моему
луч осторожный заструился,
на пальце вспыхнуло кольцо,
и подбородок осветился,
а погодя и все лицо.
Тут я не выдержал: "Скажите,
как ваше имя?" Смотрит он
и отвечает: «Я – Ченстон».
Мы обнялись.
1 июля 1931
«Сам треугольный, двукрылый, безногий…»
Сам треугольный, двукрылый, безногий,
но с округленным, прелестным лицом,
ижицей быстрой в безумной тревоге
комнату всю облетая кругом,
страшный малютка, небесный калека,
гость, по ошибке влетевший ко мне,
дико метался, боясь человека,
а человек прижимался к стене,
все еще в свадебном галстуке белом,
выставив руку, лицо отклоня,
с ужасом тем же, но оцепенелым:
только бы он не коснулся меня,
только бы вылетел, только нашел бы
это окно и опять, в неземной
лаборатории, в синюю колбу
сел бы, сложась, ангелочек ночной.
2 сентября 1932
"Иосиф Красный, – не Иосиф"
Иосиф Красный, – не Иосиф
прекрасный: препре —
красный, – взгляд бросив,
сад вырастивший! Вепрь
горный! Выше гор! Лучше ста Лин —
дбергов, трехсот полюсов
светлей! Из под толстых усов
Солнце России: Сталин!
(Марина Цветаева, пародия)
1937 г.
«Вот это мы зовем луной»
Вот это мы зовем луной.
Я на луне, и нет возврата.
Обнажена и ноздревата…
А, здравствуйте – и вы со мной.
Мы на луне. Луна, Селена.
Вы слышите? Эл, у, эн, а…
Я говорю: обнажена,
как после праздника арена.
Иль поле битвы: пронеслись
тут бегемоты боевые,
и бомбы бешено впились,
воронки вырыв теневые.
И если, мучась и мыча,
мы матовые маски снимем,
потухнет в этом прахе синем
и ваша, и моя свеча.
Наш лунный день не будет долог
среди камней и гор нагих.
Давайте ж, если вы геолог,
займемся изученьем их.
В ложбине мрак остроугольный
ползет по белизне рябой.
У нас есть шахматы с собой,
Шекспир и Пушкин. С нас довольно.
1942