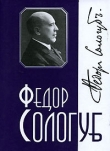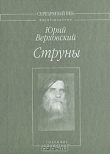Стихотворения, не вошедшие в сборники

Текст книги "Стихотворения, не вошедшие в сборники"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Поэзия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 4 (всего у книги 7 страниц)
«Ночь свищет, и в пожары млечные»
Ночь свищет, и в пожары млечные,
в невероятные края,
доваливаясь в бездны вечные,
идет по звездам мысль моя,
как по волнам во тьме неистовой,
где манит Господа рука
растрепанного, серебристого,
скользящего ученика…
2. 9. 23.
РОДИНА
Когда из родины звенит нам
сладчайший, но лукавый слух, —
не празднословью, не молитвам
мой предается скорбный дух.
Нет, – не из сердца, вот отсюда,
где боль неукротима, вот —
крылом, окровавленной грудой,
обрубком костяным – встает
мой клекот, клокотанье: Боже,
Ты, отдыхающий в раю, —
на смертном, на проклятом ложе
тронь, воскреси – ее… мою!..
<23 сентября 1923>
ОЛЕНЬ
Слова – мучительные трубы,
гремящие в глухом лесу, —
следят, перекликаясь грубо,
куда я пламя пронесу.
Но что мне лай Дианы жадной,
ловитвы топот и полет?
Моя душа – олень громадный —
псов обезумевших стряхнет.
Стряхнет – и по стезе горящей
промчится, распахнув рога,
сквозь черные ночные чащи
на огненные берега!
<23 сентября 1923>
«Я помню в плюшевой оправе»
Я помню в плюшевой оправе
дагерротипную мечту
и очи в северной дубраве,
и губы в громовом порту.
Но ты… Прямой и тонкой тенью,
как бы ступая по стеклу,
внимая призрачному пенью,
вникая пристально во мглу,
– во мглу, где под железным кленом
я ждал, где, завернув с угла,
сквозные янтари со стоном
текли в сырые зеркала —
безгласно в эту мглу вошла ты,
и все, что скучно стыло встарь,
все сказкой стало: клен зубчатый,
геометрический фонарь…
Ты… Платье черное мне снится,
во взгляде сдержанный огонь,
мне тихо на рукав ложится
продолговатая ладонь.
И вдруг, улыбкою нежданной
блеснув, указываешь мне:
клин теневой, провал обманный
на бледной, на косой стене.
Да, правда: город угловатый
играет жизнью колдовской
с тех пор, как в улицу вошла ты
своей стеклянною стопой.
И в этом мире небывалом
теней и света мы одни.
Вчера нам снились за каналом
венецианские огни.
И Гофман из зеркальной двери
вдруг вышел и в плаще прошел,
а под скамьею в темном сквере
я веер костяной нашел.
И непонятный выступ медный
горит сквозь дальнее стекло,
а на стене, косой и бледной —
откуда? – черное крыло.
Гадая, все ты отмечаешь,
все игры вырезов ночных,
заговорю ли – отвечаешь,
как бы доканчивая стих.
Таинственно скользя по гласным,
ты шепчешь, замираешь ты,
и на лице твоем неясном
ловлю я тень моей мечты.
А там над улицею сонной,
черты земные затая,
стеною странно освещенной
стоит за мною жизнь моя.
Берлин, 25. 9. 23.
«Санкт-Петербург – узорный иней,»
Мой Пушкин бледной ночью, летом,
сей отблеск объяснял своей
Олениной, а в пенье этом
сквозная тень грядущих дней.
И ныне: лепет любопытных,
прах, нагота, крысиный шурк
в книгохранилищах гранитных;
и ты уплыл, Санкт-Петербург.
И долетая сквозь туманы
с воздушных площадей твоих,
меня печалит музы пьяной
скуластый и осипший стих.
Берлин, 25. 9. 23.
АВТОБУС
Расшатывая сумрак бурый
огнями, жестяным горбом,
на шинах из слоновой шкуры
гремящий прокатился дом.
И вслед качнувшейся громаде,
как бы подхвачен темнотой,
я кинулся и вспрыгнул сзади,
и взмыл по лестнице витой.
И там, придерживая шляпу,
в свистящей сырости ночной
я видел: выбросила лапу
и скрылась ветка надо мной.
И вспомнил допотопный ужас,
бег, топот, выгибы клыков…
Пускай в гранатовые лужи
стекают стекла кабаков,
– пожарище тысячелетий,
душа дремучая моя,
отдай же мне огонь и ветер,
грома иного бытия!
Когда я легкий, низколобый
на ветке повисал один
над обезумевшею злобой
бегущих мамонтовых спин.
5. 10. 23
«И в Божий рай пришедшие с земли…»
И в Божий рай пришедшие с земли
устали, в тихом доме прилегли…
Летают на качелях серафимы
под яблонями белыми. Скрипят
веревки золотые. Серафимы
кричат взволнованно…
А в доме спят, —
в большом, совсем обыкновенном доме,
где Бог живет, где солнечная лень
лежит на всем; и пахнет в этом доме,
как, знаешь ли, на даче – в первый день…
Потом проснутся; в радостной истоме
посмотрят друг на друга; в сад пройдут —
давным-давно знакомый и любимый…
О, как воздушно яблони цветут!..
О, как кричат, качаясь, серафимы!..
<Ноябрь 1923>
«Милая, нежная – этих старинных»
Милая, нежная – этих старинных,
песенных слов не боюсь, и пою…
О, наклоняйся из сумерек длинных
в светлую бездну мою!
Я подарю тебе солнечной масти
рьяных коней, колесницу в цветах,
ибо сейчас я не пристальный мастер,
я – изумленье и взмах.
Милая, нежная, я не ошибся,
часто мне женские снились черты.
Все они были из ломкого гипса,
золото легкое – ты.
Это, пойми, не стихи, а дыханье,
мреющий венчик над страстью моей,
переходящий в одно колыханье
неизмеримых зыбей.
17. 10. 23.
«Из мира уползли – и ноют на луне…»
Из мира уползли – и ноют на луне
шарманщики воспоминаний…
Кто входит? Муза, ты? Нет, не садись ко мне:
я только пасмурный изгнанник.
Полжизни – тут, в столе; шуршит она в руках;
тетради трогаю, хрустящий
клин веера, стихи – души певучий прах, —
и грудью задвигаю ящик…
И вот уходит всё, и я – в тенях ночных,
и прошлое горит неяро,
как в черепе сквозном, в провалах костяных
зажженный восковой огарок…
И ланнеровский вальс не может заглушить…
Откуда?.. Уходи… Не надо…
Как были хороши… Мне лепестков не сшить,
а тлен цветочный сладок, сладок…
Не говори со мной в такие вечера,
в часы томленья и тумана,
когда мне чудится невнятная игра
ушедших на луну шарманок…
18 ноября 1923
ВЛАСТЕЛИН
Я Индией невидимой владею:
приди под синеву мою.
Я прикажу нагому чародею
в запястье обратить змею.
Тебе, неописуемой царевне,
отдам за поцелуй Цейлон,
а за любовь – весь мой роскошный, древний,
тяжелозвездный небосклон.
Павлин и барс мой, бархатно-горящий,
тоскуют; и кругом дворца
шумят, как ливни, пальмовые чащи,
все ждем мы твоего лица.
Дам серьги – два стекающих рассвета,
дам сердце – из моей груди.
Я царь, и если ты не веришь в это,
не верь, но все равно, приди!
7 декабря 1923
РОЖДЕСТВО
Свеча прозрачная мигает.
В окно синеет Рождество.
Где ты живешь? Где пробегает
дыханье платья твоего?
И у шарахнувшейся двери
какого гостя средь гостей
встречают бархатные перья
твоих стремительных бровей?
А помнишь – той зимой старинной, —
как жадно ты меня ждала,
как елка выросла в гостиной
и лапой в зеркало вросла.
На лесенке, чуть прикасаясь
рукою к моему плечу,
другую тянешь, зажигая
свечу на ветке об свечу.
Горят под золотистым газом
лучи раскинутых ключиц,
а елка – в дымчатых алмазах,
в дрожанье льющихся зарниц.
И спрыгиваешь со ступени —
как бы вдоль сердца моего, —
и я один… Мигают тени.
В окно синеет Рождество.
Свеча сияющая плачет,
и уменьшенный образ твой
течет жемчужиной горячей,
жемчужиною восковой.
<25 декабря 1923>
ВИДЕНИЕ
В снегах полуночной пустыни
мне снилась матерь всех берез,
и кто-то – движущийся иней —
к ней тихо шел и что-то нес.
Нес на плече, в тоске высокой,
мою Россию, детский гроб;
и под березой одинокой
в бледно-пылящийся сугроб
склонился в трепетанье белом,
склонился, как под ветром дым.
Был предан гробик с легким телом
снегам невинным и немым.
И вся пустыня снеговая,
молясь, глядела в вышину,
где плыли тучи, задевая
крылами тонкими луну.
В просвете лунного мороза
то колебалась, то в дугу
сгибалась голая береза,
и были тени на снегу —
там, на могиле этой снежной,
сжимались, разгибались вдруг,
заламывались безнадежно,
как будто тени Божьих рук.
И поднялся, и по равнине
в ночь удалился навсегда
лик Божества, виденье, иней,
не оставляющий следа…
16 января 1924
НА РАССВЕТЕ
Я показывал твой смятый снимок
трем блудницам. Плыл кабак ночной.
Рассвело. Убогий город вымок
в бледном воздухе. Я шел домой.
Освещенное окно, где черный
человечек брился, помню; стон
первого трамвая; и просторный,
тронутый рассветом небосклон.
Боль моя лучи свои простерла,
в небеса невысохшие шла.
Голое переполнялось горло
судорогой битого стекла.
И окно погасло: кончил бриться.
День рабочий, бледный, впереди.
А в крови все голос твой струится:
«навсегда», сказала, «уходи».
И подумала; и где-то капал
кран; и повторила: «навсегда».
В обмороке, очень тихо, на пол
тихо соскользнула, как вода.
Берлин, 8. 2. 24.
СКИТАЛЬЦЫ
За громадные годы изгнанья,
вся колючим жаром дыша,
исходила ты мирозданья,
о, косматая наша душа.
Семимильных сапог не обула,
и не мчал тебя чародей,
но от пыльных зловоний Стамбула
до парижских литых площадей,
от полярной губы до Бискры,
где с арабом прильнула к ручью,
ты прошла и сыпала искры,
если трогали шерсть твою.
Мы, быть может, преступнее, краше,
голодней всех племен мирских.
От языческой нежности нашей
умирают девушки их.
Слишком вольно душе на свете.
Встанет ветер всея Руси,
и душа скитальцев ответит,
и ей ветер скажет: неси.
И по ребрам дубовых лестниц
мы прикатим с собой на пир
бочки солнца, тугие песни
и в рогожу завернутый мир.
27 февраля 1924
ОКНО
При луне, когда косую крышу
лижет металлический пожар,
из окна случайного я слышу
сладкий и пронзительный удар
музыки; и чувствую, как холод
счастия мне душу обдает;
кем-то ослепительно расколот
лунный мрак; и медленно в полет
собираюсь, вынимаю руки
из карманов, трепещу, лечу,
но в окне мгновенно гаснут звуки,
и меня спокойно по плечу
хлопает прохожий: "Вы забыли, —
говорит, – летать запрещено".
И, застыв, в венце из лунной пыли,
я гляжу на смолкшее окно.
6 марта 1924
Берлин
СТИХИ
Блуждая по запущенному саду,
я видел – в полдень, в воздухе слепом,
двух бабочек глазастых, до упаду
хохочущих над бархатным пупом
подсолнуха. А в городе однажды
я видел дом: был у него такой
вид, словно он смех сдерживает; дважды
прошел я мимо, и потом рукой
махнул и рассмеялся сам; а дом, нет,
не прыснул: только в окнах огонек
лукавый промелькнул. Всё это помнит
моя душа, всё это ей намек,
что на небе по-детски Бог хохочет,
смотря, как босоногий серафим
вниз перегнулся и наш мир щекочет
одним лазурным перышком своим.
9 марта 1924
ГАДАНЬЕ
К полуночи, в Сочельник,
под окнами воскрес
повырубленный ельник,
серебряный мой лес.
Средь лунного тумана
я залу отыскал.
Зажги, моя Светлана,
свечу между зеркал.
Заплавает по тазу
волшебный огонек;
причаливает сразу
ореховый челнок.
И в сумерках, где тает
под люстрою паркет,
пускай нам погадает
наш седенький сосед.
На выцветшей лазури
ты карты приготовь…
И дедушка то хмурит,
то вскидывает бровь.
И траурные пики
накладывает он
на лаковые лики
оранжевых бубен.
Ну что ж, моя Светлана,
туманится твой взгляд.
Прелестного обмана
нам карты не сулят.
Сам худо я колдую,
а дедушка в гробу,
и нечего седую
допрашивать судьбу.
В сморкающемся блеске
все уплывает вдаль,
хрустальные подвески
и белая рояль.
Огонь в скорлупке малой
потух… И ты исчез,
мой ельник небывалый,
серебряный мой лес.
1924 г.
КУБЫ
Сложим крылья наших видений.
Ночь. Друг на друга дома углами
валятся. Перешиблены тени.
Фонарь – сломанное пламя.
В комнате деревянный ветер косит
мебель. Зеркалу удержать трудно
стол, апельсины на подносе.
И лицо мое изумрудно.
Ты – в черном платье, полет, поэма
черных углов в этом мире пестром.
Упираешься, траурная теорема,
в потолок коленом острым.
В этом мире страшном, не нашем, Боже,
буквы жизни и целые строки
наборщики переставили. Сложим
крылья, мой ангел высокий.
<9 марта 1924>
ЛЕНИНГРАД
Великие, порою,
бывают перемены…
Но, пламенные мужи,
что значит этот сон?
Был Петроград – он хуже,
чем Петербург, – не скрою, —
но не походит он —
как не верти – на Трою:
зачем же в честь Елены —
так ласково к тому же —
он вами окрещен?
<23 марта 1924>
СТАНСЫ
Ничем не смоешь подписи косой
судьбы на человеческой ладони,
ни грубыми трудами, ни росой
всех аравийских благовоний.
Ничем не смоешь взгляда моего,
тобой допущенного на мгновенье.
Не знаешь ты, как страшно волшебство
бесплотного прикосновенья.
И в этот миг, пока дышал мой взгляд,
издалека тобою обладавший,
моя мечта была сильней стократ
твоей судьбы, тебя создавшей.
Но кто из нас мечтать не приходил
к семейственной и глупой Мона Лизе,
чей глаз, как всякий глаз, составлен был
из света, жилочек и слизи?
О, я рифмую радугу и прах.
Прости, прости, что рай я уничтожил,
в двух бархатных и пристальных мирах
единый миг как бог я прожил.
Да будет так. Не в силах я тебе
открыть, с какою жадностью певучей,
с каким немым доверием судьбе
невыразимой, неминучей…
24 марта 1924
АВТОМОБИЛЬ В ГОРАХ (сонет)
Как сон, летит дорога, и ребром
встает луна за горною вершиной.
С моею черной гоночной машиной
сравню – на волю вырвавшийся гром!
Все хочется – пока под тем бугром
не стала плоть личинкою мушиной, —
слыхать, как прах под бешеною шиной
рыдающим исходит серебром…
Сжимая руль наклонный и упругий,
куда лечу? У альповой лачуги —
почудится отеческий очаг;
и в путь обратный – вдавливая конус
подошвою и боковой рычаг
переставляя по дуге – я тронусь.
<20 апреля 1924>
МОЛИТВА
Пыланье свеч то выявит морщины,
то по белку блестящему скользнет.
В звездах шумят древесные вершины,
и замирает крестный ход.
Со мною ждет ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.
Пылай, свеча, и трепетные пальцы
жемчужинами воска ороси.
О милых мертвых думают скитальцы,
о дальней молятся Руси.
А я молюсь о нашем дивьем диве,
о русской речи, плавной, как по ниве
движенье ветра… Воскреси!
О, воскреси душистую, родную,
косноязычный сон ее гнетет.
Искажена, искромсана, но чую
ее невидимый полет.
И ждет со мной ночь темно-голубая,
и вот, из мрака, церковь огибая,
пасхальный вопль опять растет.
Тебе, живой, тебе, моей прекрасной,
вся жизнь моя, огонь несметных свеч.
Ты станешь вновь, как воды, полногласной,
и чистой, как на солнце меч,
и величавой, как волненье нивы.
Так молится ремесленник ревнивый
и рыцарь твой, родная речь.
3 мая 1924
ПОДРУГА БОКСЕРА
Дрожащая, в змеином платье бальном,
и я пришла смотреть на этот бой.
Окружена я черною толпой:
мелькает блеск по вырезам крахмальным,
свет льется, ослепителен и бел,
посередине залы, над подмостком.
И два бойца в сиянье этом жестком
сшибаются… Один уж ослабел.
И ухает толпа. Могуч и молод,
неуязвим, как тень, – противник твой.
Уж ты прижат к веревке круговой
и подставляешь голову под молот.
Все чаще, все короче, все звучней
бьет снизу, бьет и хлещет этот сжатый
кулак в перчатке сально-желтоватой,
под сердце и по челюсти твоей.
Сутулишься и екаешь от боли,
и напряженно лоснится спина.
Кровь на лице, на ребрах так красна,
что я тобой любуюсь поневоле.
Удар – и вот не можешь ты вздохнуть, —
еще удар, два боковых и пятый —
прямой в кадык. Ты падаешь. Распятый,
лежишь в крови, крутую выгнув грудь.
Волненье, гул… Тебя уносят двое
в фуфайках белых. Победитель твой
с улыбкой поднимает руку. Вой
приветственный, – и смех мой в этом вое.
Я вспоминаю, как недавно, там,
в гостинице зеркальной, встав с обеда, —
за взгляд и за ответный взгляд соседа
ты бил меня наотмашь по глазам.
<11 мая 1924>
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ
Ко мне, туманная Леила!
Весна пустынная, назад!
Бледно-зеленые ветрила
дворцовый распускает сад.
Орлы мерцают вдоль опушки.
Нева, лениво шелестя,
как Лета льется. След локтя
оставил на граните Пушкин.
Леила, полно, перестань,
не плачь, весна моя былая.
На вывеске плавучей – глянь —
какая рыба голубая.
В Петровом бледном небе – штиль,
флотилия туманов вольных,
и на торцах восьмиугольных
все та же золотая пыль.
26 мая 1924
Берлин
СМЕРТЬ ПУШКИНА
Он первый подошел к барьеру; очи
так пристально горели, что Дантес
нажал курок. И был встревожен лес:
сыпучий снег, пугливый взмах сорочий…
Пробита печень. Мучился две ночи.
На ране – лед. В бреду своем он лез
по книжным полкам, – выше… до небес…
ах, выше!.. Пот блестел на лбу.
Короче, —
он умирал: но долго от земли
уйти не мог. "Приди же, Натали,
да покорми моченою морошкой"…
И верный друг, и жизни пьяный пыл,
и та рука с протянутою ложкой —
отпало всё. И в небо он поплыл.
<8 июня 1924>
СМЕРТЬ
Утихнет жизни рокот жадный,
и станет музыкою тишь,
гость босоногий, гость прохладный,
ты и за мною прилетишь.
И душу из земного мрака
поднимешь, как письмо, на свет,
ища в ней водяного знака
сквозь тени суетные лет.
И просияет то, что сонно
в себе я чую и таю, —
знак нестираемый, исконный,
узор, придуманный в раю.
О, смерть моя! С землей уснувшей
разлука плавная светла:
полет страницы, соскользнувшей
при дуновенье со стола…
13 июня 1924
ОБ АНГЕЛАХ
1
Неземной рассвет блеском облил…
Миры прикатили: распрягай!
Подняты огненные оглобли.
Ангелы. Балаган. Рай.
Вспомни: гиганты промахивают попарно,
торгуют безднами. Алый пар
от крыльев валит. И лучезарно
кипит божественный базар.
И, в этом странствуя сиянье,
там я купил – за песнь одну —
женскую душу и в придачу нанял
самую дорогую весну.
24 апреля 1924
2
Представь: мы его встречаем
вот там, где в лисичках пень,
и был он необычаен,
как радуга в зимний день.
Он хвойную занозу
из пятки босой тащил.
Сквозили снега и розы
праздно склоненных крыл.
Наш лес, где была черника
и телесного цвета грибы,
вдруг пронзен был дивным криком
золотой, неземной трубы.
И, он нас увидел; замер,
оглянул людей, лес
испуганными глазами
и, вспыхнув крылом, исчез.
Мы вернулись домой с сырыми
грибами в узелке
и с рассказом о серафиме,
встреченном в сосняке.
8 июля 1924
ВЕЧЕР
Я в угол сарая кирку и лопату
свалил с плеча и пот отер,
и медленно вышел навстречу закату
в прохладный розовый костер.
Он мирно пылал за высокими буками,
между траурных ветвей,
где вспыхнул на миг драгоценными звуками
напряженный соловей.
И сдавленный гам, жабий хор гуттаперчевый
на пруду упруго пел.
Осекся. Пушком мимолетным доверчиво
мотылек мне лоб задел.
Темнели холмы: там блеснул утешительный
трепет огоньков ночных.
Далече пропыхивал поезд. И длительно
свистнул… длительно утих… —
И пахло травой. И стоял я без мысли.
Когда же смолк туманный гуд,
заметил, что смерклось, что звезды нависли,
что слезы по лицу текут.
10. 7. 24.
ПЕТЕРБУРГ (три сонета)
1
Единый путь – и множество дорог;
тьма горестей – и стон один: «когда же?..»
Что город мой? я забываю даже
названья улиц… Тонет. Изнемог.
Безлюдие. Остались только Бог,
рябь под мостом, да музы в Эрмитаже,
да у ворот луна блестит все та же
на мраморных ногтях гигантских ног.
И это все. И это все на свете…
В зеркальные туманы двух столетий
гляделся ты, мой город, мой Нарцисс…
Там, над каналом, круглыми камнями
взбухал подъем, и – с дребезжаньем – вниз…
Терзаем я утраченными днями…
<24 августа 1924>
2
Терзаем я утраченными днями,
и тленом тянет воздух неродной.
Я сжал в алмаз невыплаканный зной,
я духом стал прозрачный и упрямый.
Но сны меня касаются краями
орлиных крыл, – и снова, в час ночной,
Нева чернеет, вздутая весной,
и дышит маслянистыми огнями.
Гранит шероховат. Внизу вода
чуть хлюпает под баржами, когда
к их мерному прислушаешься тренью.
Вот ветерок возник по волшебству, —
и с островов как будто бы сиренью
повеяло… Прошедшим я живу.
<24 августа 1924>
3
Повеяло прошедшим… Я живу
там… далеко… в какой-то тьме певучей…
Под аркою мелькает луч пловучий, —
плеснув веслом, выходит на Неву.
Гиганты ждут… Один склонил главу,
всё подпирая мраморные тучи.
Их четверо. Изгиб локтей могучий
звездистую пронзает синеву.
Чего им ждать? Что под мостами плещет?
Какая сила в воздухе трепещет,
проносится?.. О чем мне шепчет Бог?
Мы странствуем, – а дух стоит на страже;
единый путь – и множество дорог;
тьма горестей – и стон один: когда же?
<24 августа 1924>
ИСХОД
Муза, возгласом, со вздохом шумным,
у меня забилась на руках.
В звездном небе тихом и безумном
снежный поднимающийся прах
очертанья принимал, как если
долго вглядываться в облака:
образы гранитные воскресли,
смуглый купол плыл издалека.
Через Млечный Путь бледно-туманный
перекинулись из темноты
в темноту – о, муза, как нежданно! —
явственные невские мосты.
И, задев в седом и синем мраке
исполинским куполом луну,
скрипнувшую как сугроб, Исакий
медленно пронесся в вышину.
Словно ангел на носу фрегата,
бронзовым протянутым перстом
рассекая звезды, плыл куда-то
Всадник в изумленье неземном.
И по тверди поднимался тучей,
тускло озаренной изнутри,
дом; и вереницею текучей
статуи, колонны, фонари
таяли в просторах ночи синей,
и, неспешно догоняя их,
к Господу несли свой чистый иней
призраки деревьев неживых.
Так проплыл мой город непорочный,
дивно оторвавшись от земли.
И опять в гармонии полночной
только звезды тихие текли.
И тогда моя полуживая
маленькая муза, трепеща,
высунулась робко из-за края
нашего широкого плаща.
11 сентября 1924
Берлин
«Отдалась необычайно…»
Отдалась необычайно
на крыле тупом и плоском
исполинского Бехштайна,
и живая наша тайна
в глубине под черным лоском
глухо струны колебала.
Это было после бала, —
и, подобные полоскам
густо вытканной гуаши,
лунные лучи во мраке
отражались в черном лаке,
и глухие вопли наши
упоительно пронзали
бездны струнные Бехштайна,
нас принявшего случайно
после бала, в темном зале…
<24 сентября 1924>
«Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем…»
Откуда прилетел? Каким ты дышишь горем?
Скажи мне, отчего твои уста, летун,
как мертвые, бледны, а крылья пахнут морем?
И демон мне в ответ: "Ты голоден и юн,
но не насытишься ты звуками. Не трогай
натянутых тобой нестройных этих струн.
Нет выше музыки, чем тишина. Для строгой
ты создан тишины. Узнай ее печать
на камне, на любви и в звездах над дорогой".
Исчез он. Тает ночь. Мне Бог велел звучать.
27 сентября 1924
Берлин