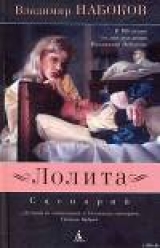
Текст книги "Лолита: Сценарий"
Автор книги: Владимир Набоков
Жанр:
Драматургия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 11 страниц) [доступный отрывок для чтения: 5 страниц]
8
«Вот нервная система книги. Вот тайные точки, подсознательные координаты ее начертания», – писал Набоков в Послесловии к роману. И вот таковые же сценария. Сон Гумберта, этот краткий конспект грядущего, предвосхищает не только его приезд с Лолитой в отель «Зачарованные Охотники», но также конную прогулку в заповеднике «Розовых Колонн» и ту сцену в конце второго акта, в которой он наблюдает за Лолитой и двумя другими девочками (у одной из которых длинная ссадина на ноге), сидящими под солнцем на краю бассейна в «Райской Хижине». Впрочем, три взаимосвязанных сновидения трех главных действующих лиц не много стоят по отдельности, зато, будучи сведены вместе, они способны потрясти онтологические основы породившей их реальности – поскольку сама эта связанность указывает на закулисного постановщика, увлеченного куда более замысловатой игрой, чем та, в которой заняты и Гумберт, и Лолита, и даже таинственный Куильти, кем бы он ни был на самом деле.
У Набокова не бывает собственно театра, но всегда театр в театре. В 1940 году, сочиняя по заказу Михаила Чехова пьесу по «Дон Кихоту», Набоков предложил ввести в круг действующих лиц одно особенное, которое, изредка появляясь, «как бы руководит действием».[34]34
Письмо М.Чехова Набокову от 12 декабря 1940 г. Цит. по: Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. С. 548.
[Закрыть] Такой распорядитель есть и в сценарии «Лолиты», но его присутствие незримо, он подряжает на мелкую работу своих приказчиков (как это происходит во многих его романах) – доктора Браддока, Куильти с его спутницей Вивиан Даркблум (Vivian Darkbloom), энтомолога «Владимира Набокова», объясняющего Гумберту разницу между видом и индивидом, и это они увлекают и зачаровывают Гумберта и Лолиту и принуждают их играть в пьесе, замысел которой им неведом. В инсценировке «Дон Кихота» одни персонажи должны были «странным образом напоминать других и как бы снова и снова представать перед Кихотом». «Это просвечивание лиц представляется мне как сон», – писал Чехов Набокову.[35]35
Письмо М.Чехова Набокову от 12 декабря 1940 г. Цит. по: Владимир Набоков. Трагедия господина Морна. С. 548.
[Закрыть]
Не так ли в сценарии «Лолиты» Гумберта обступают разные маски одного и того же мистера Ку?[36]36
В романе и сценарии знакомые Клэра Куильти (Quilty) называют его «Mr. Cue», обыгрывая различные значения этого слова: буква «q», театральная реплика, намек, режиссерское указание и др.
[Закрыть] Не так ли повторяются, а лучше сказать, просвечивают одни и те же положения?
В «Зачарованных Охотниках» Гумберту говорят, что в отеле проходит собрание «экспертов по розам». Затем ему в номер приносят букет роз (подарок Куильти, как сообщается в ремарке); затем, после ужина среди фресок и фокуса со снотворной пилюлей, Гумберт оказывается на темной веранде гостиницы, где его втягивает в довольно инфернальную беседу подвыпивший незнакомец (Куильти), под конец замечающий: «Этой вашей девочке нужно много сна. Сон – роза, как говорят в Персии. Хотите папиросу?» Для Гумберта этот ряд навязчивых намеков остается раздражающе непонятным, оттого что он, в отличие от читателя, не знает ни его экспозиции, ни пуанты. Вот почему он не вспоминает об этом разговоре, когда, несколько недель спустя, уже в Бердслее, мимоходом знакомясь с Куильти, слышит от него тот же вопрос: «Хотите папиросу?» Вслед за тем Куильти произносит фразу, которой едва не выдает себя: «Это сигареты очень редкого испанского сорта, специально для меня изготовленные, для удовлетворения моих неотложных нужд». Но Гумберт не понимает, к чему клонит Куильти. Он не знает, что его Лолита для Куильти всегда Долорес и именно это звучное испанское имя Куильти силится вспомнить (или делает вид, будто силится вспомнить) во время разговора с Шарлоттой в Рамздэле на школьном балу:
КУИЛЬТИ: Скажите, это ведь у вас была маленькая дочь? Погодите. С чудесным именем. Чудное, мелодичное, лирическое имя…
ШАРЛОТТА: Лолита. Уменьшительное от Долорес.
КУИЛЬТИ: Да, конечно: Долорес. Слезы и розы»[37]37
Английские «Dolores» и «roses» созвучны, как «Лолита – розами увита». Говоря о слезах, Куильти, по-видимому, имеет в виду латинское значение dolores – «мучение».
[Закрыть]
Вот где, стало быть, истоки «розового» мотива в «Зачарованных», вот почему Куильти сначала посылает Долорес розы, а потом на веранде говорит Гумберту, что сон – это роза, и вот почему в их вторую встречу в Бердслее он рассказывает ему о сигаретах редкого испанского сорта.[38]38
В финале романа Куильти говорит Гумберту: «Une femme est une femme, mais un Caporal est une cigarette» («Женщина – это женщина, но Капрал – это сорт папиросы»).
[Закрыть]
Такими неприметными нитями скреплены многие отстоящие эпизоды сценария. Чтобы заметить одни из них, довольно перечитать книгу, другие требуют вдумчивого исследования и проступают лишь на известной глубине оного. Пример тому – две решающие сцены пьесы, два главных поворотных пункта действия, отделенных и временем, и пространством, и обстоятельствами их участников. Первая (в конце первого акта) – это сцена разоблачения Шарлоттой Гумберта после их возвращения с озера, в котором она едва не утонула. Вторая (середина третьего акта) – это последнее свидание Гумберта с Лолитой в Эльфинстонской больнице в день ее бегства с Куильти. Что же соединяет обе сцены, какие тайные знаки на этот раз пропадают втуне?
Вернувшись с Шарлоттой домой, Гумберт обнаруживает, что забыл на озере солнечные очки. «Я купил их в Сен-Топазе и никогда нигде не забывал», – говорит он. Шарлотта отправляет его назад на поиски, а сама, пользуясь его отсутствием, вскрывает давно интригующий ее ящичек стола, в котором Гумберт прячет свой заповедный дневник. Не отыскав очки, Гумберт вскорости возвращается – в тот момент, когда обманутая и обреченная жена строчит свои гневные письма.
В палате Лолиты в Эльфинстонской больнице Гумберт замечает на ночном столике стакан с розой. Лолита уверяет его, что цветок принесла ее сиделка Мария, с которой она сговорилась морочить Гумберта. Затем он обращает внимание на пару мужских солнечных очков на комоде, забытых, разумеется, Куильти, недавним посетителем Лолиты. «Я нашла их в коридоре, – поясняет Гумберту лживая сиделка, – и подумала, что они, может быть, ваши». Натюрморт довершает третья деталь этого многозначительного набора – не замеченный Гумбертом топазовый перстенек на ночном столике – тот самый, что он подарил Лолите в Лепингвиле на другой день после того, как она стала его любовницей в «Зачарованных Охотниках». Для Гумберта это колечко было лишь сантиментальным рефреном к его первой любви (кольцо с топазом носила Аннабелла) и не много значило («книжки комиксов, туалетные принадлежности, маникюрный набор, дорожные часы, колечко с настоящим топазом, бинокль…»), но для Лолиты оно было дорого. Это был подарок ее первого мужчины (лагерный сатир не в счет), знак его любви, и теперь, оставляя Гумберта ради другого, она оставляла и подаренное им кольцо.
9
«Для меня рассказ или роман существует, только поскольку он доставляет мне то, что попросту назову эстетическим наслаждением, а это, в свой черед, я понимаю как особое состояние, при котором чувствуешь себя – как-то, где-то, чем-то – связанным с другими формами бытия, где искусство (т. е. любознательность, нежность, доброта, стройность, восторг) есть норма», – заметил Набоков в Послесловии к роману.
Чувство причастности к иным сферам посещает и Гумберта, сознающего, что с окружающей его явью что-то неладно, что «метины не те». И мне кажется, что речь у Набокова идет о смутном ощущении, что действительность имеет эстетическую организацию, а это в свою очередь намекает на Автора, которого, быть может, и нет в зале, но чье участие в судьбах героев оттого не менее деятельно.
Спустя три года после бегства Лолиты, в Бердслее, Гумберт принимает экзамен по литературе (аудитория 342). Вопрос: «Как Эдгар По определил поэтическое чувство?» – приводит в замешательство одного из студентов. Участливый сосед передает ему записку с неполным и оттого неверным ответом: «Поэзия – это чувство интеллектуального блаженства».[39]39
Edgar А. Рое. Drake-Halleck Review, 1836.
[Закрыть]
Правильный ответ можно найти в последних строках романа и сценария: «Говорю я о турах и ангелах, о тайне прочных пигментов, о предсказании в сонете, о спасении в искусстве. И это – единственное бессмертие, которое мы можем с тобой разделить, моя Лолита».
***
Обстоятельства сочинения сценария «Лолиты» подробно изложены Набоковым в Предисловии к нему и в письмах к Стэнли Кубрику и другим адресатам, перевод которых я прилагаю к настоящему изданию вместе с несколькими отвергнутыми сценами, сохранившимися в нью-йоркском архиве писателя.
Нет нужды вдаваться и в разъяснения особенностей предлагаемого первого перевода сценария «Лолиты» на русский язык.[40]40
Приношу искреннюю признательность Геннадию Александровичу Барабтарло за ценные указания и тонкие замечания, уберегшие меня от многих промахов и неудач.
[Закрыть] Тем, кто знаком с книгами Набокова (другие едва ли начнут свое знакомство со сценария), должна быть ясна его цель: по возможности избегать швов и неровностей в тех местах, где заёмные части и частности из его собственноручного перевода романа на русский язык (1965) переходят в чужие, но, надеюсь, не чуждые руки.
Андрей Бабиков
ЛОЛИТА: Сценарий
Посвящаю моей жене
ПРЕДИСЛОВИЕ
Как-то в конце июля 1959 года (в моей записной книжке точная дата не значится), когда мы с женой ловили бабочек в Аризоне (со штаб-квартирой в «Лесных Дворах», что между Флагстафом и Седоной), я получил через своего импресарио Ирвинга Лазаря[41]41
И. Пол Лазарь («Живчик») (1907–1993) – знаменитый импресарио, представлявший интересы многих известных актеров и писателей. Его клиентами были, среди прочих, Э. Хемингуэй, Т. Капоте, Т. Уильямс. – Здесь и далее примечания переводчика.
[Закрыть] письмо от господ Гарриса и Кубрика.[42]42
Д.Б. Гаррис (р. 1928) – сценарист, кинематографический постановщик, выпустивший совместно с режиссером С.Кубриком (1928 1999) в 50—60-е гг. несколько фильмов.
[Закрыть] Годом ранее они приобрели права на кинопостановку «Лолиты» и теперь приглашали меня в Голливуд сочинять сценарий. Они предложили внушительный гонорар, но сама мысль, что придется перекраивать собственный роман, вызывала отвращение. Вместе с тем некоторое снижение активности местных чешуекрылых намекало на то, что мы с тем же успехом могли бы переехать на Западное побережье. После совещания в Беверли-Хиллз (на котором мне внушали, что ради умиротворения цензора в последнюю сцену нужно ввести некий откровенно выпирающий намек на то, что Гумберт все это время был тайно женат на Лолите), я провел неделю в бесплодных раздумьях на озере Тахо (где из-за вредоносного разрастания толокнянки хороших бабочек не было) и решил отказаться от предложенной работы и вернуться в Европу.
Мы побывали в Париже, Лондоне, Риме, Таормине, Генуе и 9 декабря приехали в Лугано, где остановились на неделю в «Гранд Отеле» (комнаты 317–318 – докладывает мой ежедневник 1959 года, ставший теперь более словоохотливым). Я уже давно перестал думать о фильме, как однажды меня вдруг посетило скромное ночное вдохновение, возможно дьявольского происхождения, но при этом совершенно неотразимое по своей подлинной яркой силе, и тогда я необыкновенно ясно увидал ту чарующую стезю, что ведет к экранному воплощению «Лолиты». Раскаявшись в том, что отклонил предложение Гарриса и Кубрика, я принялся праздно составлять в уме части воображаемых диалогов, и в это самое время чудесным образом из Голливуда пришла телеграмма, призывавшая меня пересмотреть свое прежнее решение и обещавшая мне большую свободу действий.
Остаток зимы мы провели в Милане, Сан-Ремо и Ментоне, и 18 февраля 1960 года, в четверг, выехали на поезде в Париж (два билета в одну сторону «Ментона – Париж», места 6 и 8, вагон 9, отправление в 19:15, прибытие в 8:55 – эти и другие подробности из записной книжки упоминаются мною не только ради мнемонического комфорта, но еще оттого, что не могу решиться оставить их не у дел). Первый этап долгого путешествия в Лос-Анджелес начался довольно злою шуткой: проклятый спальный вагон не дополз до перрона, застыв посреди мимоз и кипарисов в акварельно-прозрачном вечернем воздухе Ривьеры, так что нам с женой и близкому к помешательству носильщику пришлось в него забираться с уровня земли.
Следующим вечером мы были уже на борту «Соединенных Штатов» в Гавре. У нас была зарезервирована каюта (номер 61) на верхней палубе, но стараньями очаровательных распорядителей, без дополнительной платы, да еще с угощением в виде фруктов и бутылки виски, мы были перемещены в очаровательный люкс (номер 65) – одно из многих подношений, принимаемых Американским писателем. В субботу, 27 февраля, после четырех кипучих дней в Нью-Йорке, мы поездом отбыли в Чикаго (в 22 часа, вагон 551, смежные купе Д—Е – милые пометки, бесхитростные подробности давно минувших дней!) и следующим вечером пересели на «Лидера»,[43]43
Имеется в виду роскошный и легендарный экспресс «Super Chief», курсировавший между Чикаго и Лос-Анджелесом.
[Закрыть] где в купе нас ожидало очередное новшество: потоки музыки, изливавшиеся из двух источников, которые мы тут же бросились затыкать, страстно желая уничтожить, подавить, истребить гнусное устройство, но, не найдя выключателя, принуждены были звать на помощь (в советских поездах положение дел, конечно же, несравнимо хуже, ведь там строго-настрого запрещено выключать «товарища Песню»[44]44
У Набокова написано «выключать музаковича» (со строчной буквы), но я посчитал возможным заменить его неологизм названием пропагандистской дешевки из фильма «Как закалялась сталь», повсюду звучавшей в Триэсэр в 70-е гг.
[Закрыть]).
1 марта мы с Кубриком на его студии в Универсал-Сити в дружеской перепалке, состоявшей из аргументов и контраргументов, решали, как надлежит фильмовать роман. Он согласился со всеми моими первостепенной важности положениями, я принял несколько из его менее существенных требований. Утром следующего дня, сидя на скамейке под восхитительно-ярким, желто-зеленым деревом Pyrospodia в городском саду рядом с гостиницей «Беверли-Хиллз» (один из коттеджей которой для нас снял господин Лазарь), я уже внимательно следил за репликами и пантомимой, возникавшими у меня в голове. 9 марта Кубрик представил нам Тьюздей Вельд (грациозную инженю[45]45
Инженю (от фр. ingénue – «наивная») – актёрское (сценическое) амплуа – наивная девушка.
Актриса, соответствующая образу инженю непременно должна была обладать определенным набором физических данных и манерой исполнения, к которым относятся: небольшой рост, стройность, нежный голос, сдержанность в проявлении чувств, особая манера декламации и т.п.
[Закрыть], которая, на мой взгляд, не подходила на роль Лолиты). 10 марта мы сняли у покойного Джона Фрэнсиса Фея чудную виллу (номер 2088 по Мандэвилль-Каньон). 11 марта посыльный от Кубрика принес мне предварительный план утвержденных нами сцен, охватывающий первую часть романа. К тому времени из поведения Кубрика уже явствовало, что он намерен скорее следовать моим фантазиям, нежели причудам цензора.
В последующие месяцы мы встречались довольно редко – приблизительно раз в две недели, у него в доме или у меня; совместная работа над планом сцен прекратилась, обсуждения постановки становились все более лаконичными, и к середине лета я уже не мог с уверенностью сказать: то ли Кубрик безмятежно соглашается со всем, что я делаю, то ли молчаливо все это отвергает.
Я работал с жадностью, и пока ежеутренне, с восьми до полудня, ловил на знойных холмах бабочек, сочинял в голове сцену за сценой. Ничего достойного внимания ловитва не принесла, если не считать несколько замечательно-игривых экземпляров малоизвестной бархатницы, зато холмы кишели гремучими змеями, истеричные выходки которых в подлеске или прямо посреди тропы были скорее комичными, чем пугающими. После неспешного обеда, приготовленного поваром-немцем, доставшимся нам вместе с домом, я проводил следующий четырехчасовой отрезок времени в садовом кресле среди роз и пересмешников, записывая и переписывая, стирая ластиком и восстанавливая сызнова на линованных карточках Блэквинговым карандашом те сцены, что я придумывал утром.
По натуре я не драматург, и даже не сценарист-поденщик; но если бы я отдавал сцене или кинематографу столь же много, сколько тому роду сочинительства, при котором ликующая жизнь заключается под обложку книги, я бы применял и отстаивал режим тотальной тирании, лично ставил бы пьесу или картину, подбирал бы декорации и костюмы, стращал бы актеров, оказываясь среди них в роли эпизодического Тома или фантома, суфлировал бы им, – одним словом, пропитывал бы все представление искусством и волей одного человека, самого себя: на свете нет ничего столь же мне ненавистного, как коллективная деятельность, эта коммунальная помывочная, где скользкие и волосатые мешаются друг с другом, только увеличивая общий знаменатель бездарности. Единственное, что я мог сделать в данном случае, это обеспечить словам первенство над действием, настолько ограничивая вмешательство постановщиков и исполнителей, насколько это вообще возможно. Я упорно продолжал отделывать сцены, до тех пор, пока не удовлетворялся ритмом диалогов и должным образом налаженным течением фильма – от мотеля к мотелю, от одного миража к другому, от кошмара до кошмара. Задолго до того, в Лугано, я наметил ряд кадров для действия в «Зачарованных Охотниках», но теперь работу безупречного механизма оказалось страшно трудно отладить таким образом, чтобы через сквозное взаимодействие звуковых эффектов и комбинированных съемок можно было передать и будничную серость утра, и переломный момент в жизни отъявленного извращенца и несчастного ребенка. Несколько сцен (как, например, иллюзорный дом Мак-Ку, три нимфы, сидящие на краю бассейна, или та, где Диана Фаулер начинает новый виток рокового цикла, пройденного Шарлоттой Гейз) основаны на неиспользованном материале, оставшемся у меня после уничтожения рукописи романа – поступок, о котором я сожалею меньше, чем о том, что исключил из него эти эпизоды.
Исписав свыше тысячи карточек и закончив на этом сценарий, я в конце июня получил его машинописный текст, отослал эти четыреста страниц Кубрику и, нуждаясь в отдыхе, поехал с женой, управлявшей арендованной «Импалой», в округ Иньо. Там мы ненадолго остановились в гостинице «Глетчер», что на берегу Биг Пайн Крик, проводя время в окрестных горах за ловлей голубянок Иньо и других славных насекомых. После нашего возвращения в Мандэвилль-Каньон нас посетил Кубрик, чтобы сказать, что мой сценарий слишком пространный, содержит множество ненужных эпизодов и что фильм по нему будет длиться около семи часов. Он просил кое-что исключить и изменить, и я кое-что из этого сделал, придумав к тому же новую последовательность кадров и эпизодов для укороченной редакции сценария, которую он получил в сентябре и которой остался доволен. Этот заключительный этап был самым трудным, но также и самым вдохновенным за все шесть месяцев работы. Десять лет спустя, впрочем, перечитав свою пьесу, я восстановил несколько исключенных сцен.
В последний раз мы с Кубриком встретились, должно быть, 25 сентября 1960 года в его доме в Беверли-Хиллз: в тот день он показал мне фотокарточки Сью Лайон, застенчивой нимфетки лет четырнадцати, которую он только что утвердил на роль Лолиты, заметив, что ее легко можно будет сделать более юной и менее опрятной. В целом я был скорее доволен тем, как шли дела, когда вечером 12 октября мы с женой отправились на «Лидере» в Чикаго (купе Д + Е, вагон 181), а оттуда, пересев на «Двадцатый век» (купе З—К, вагон 261), – в Нью-Йорк, куда мы прибыли 15 октября в 8:30. Во время этого великолепного путешествия – и следующая запись из моего ежедневника может взволновать лишь того, кто знает толк в сверхчувственном, – мне приснился сон (13 октября), в котором я увидел запись такой фразы: «По радио сказали, что она так же естественна, как и Сара Футер». Я никого не знаю с таким именем.
Довольство собой – это душевное состояние, которое существует лишь в ретроспективе: ему свойственно улетучиваться прежде, чем успеваешь его констатировать. У меня оно продолжалось полтора года. Уже 28 октября (Нью-Йорк, гостиница «Гэмпшир», номер 503) в моей записной книжке был записан карандашом следующий замысел: «роман, жизнь, любовь – как тщательно составленные примечания, постепенно раскрывающие суть небольшой поэмы». Вскоре после того, как 7 ноября «Королева Елизавета» («купить зубную нить, новое пенсне, бонамин, перед погрузкой удостовериться вместе с ответственным за багаж, что большой черный кофр цел, палуба А, каюта 71») доставила нас в Шербур, «небольшая поэма» стала превращаться в довольно длинную. Четыре дня спустя в миланском «Савойском принце» и в продолжение зимы, проведенной в Ницце, где мы сняли квартиру (в доме номер 57 по Promenade des Anglais), и затем в Тессине, Вале и Во («1 октября 1961 года переехали в Montreux-Palace») я был поглощен «Бледным огнем», который закончил 4 декабря 1961 года. Весной 1962 года, проведенной главным образом в Монтрё, я был занят энтомологией, гранками моего колоссального «Евгения Онегина» и исправлением английского перевода сложного романа («Дар»), так что (хотя никто и не желал видеть меня в «Эльстри»[46]46
Киностудия в Англии, где проходили съемки фильма.
[Закрыть]) съемки «Лолиты» в Англии начались и завершились без моего участия.
31 мая 1962 года (почти ровно через двадцать два года после того, как на «Шамплене» из Сен-Назара мы эмигрировали в Америку) «Королева Елизавета» доставила нас в Нью-Йорк на премьеру «Лолиты». Наша каюта (номер 95, главная палуба) была столь же благоустроенной, как на «Шамплене» в 1940 году, и, мало того, на коктейльной вечеринке, устроенной корабельным казначеем (или врачом – записано неразборчиво), этот человек повернулся ко мне и сказал: «А вас, как американского коммерсанта, должна позабавить следующая история» (история осталась незаписанной). 6 июня я навестил свое старое логово – энтомологический отдел в музее Естественной истории – и оставил там на хранение экземпляры голубянки Чепмана, пойманные мною в апреле предыдущего года между Ниццой и Грассом под земляничными деревьями. Премьера фильма состоялась 13 июня (кинотеатр Лое, 4-й ряд партера, «ужасные места», сообщает мой прямолинейный дневник). Люди толпились в ожидании подъезжавших один за другим лимузинов, и потом я тоже подъехал, нетерпеливый и наивный, как эти поклонники и поклонницы, заглядывавшие в мой автомобиль в надежде хотя бы мельком увидеть Джеймса Мейсона, но находившие там лишь мирный профиль дублера Хичкока. За несколько дней до того на закрытом показе я уже имел возможность убедиться в том, что Кубрик великий режиссер, что его «Лолита» – первоклассный фильм с блистательными актерами и что только искромсанные обрывки моего сценария были использованы в картине. Всех этих переделок, искажений, подмен моих лучших маленьких находок, изъятий целых сцен и включения новых, может быть, и не было довольно для того, чтобы совсем убрать мое имя из титров, но они, несомненно, превращали картину в нечто настолько же отличное от моего сценария, насколько отличается от оригинала перевод стихотворения Пастернака или Рембо, сделанный американским поэтом.
Спешу добавить, что мои нынешние суждения, разумеется, не должны быть истолкованы как выражение запоздалого недовольства, как отголосок визгливых протестов по отношению к творческому подходу Кубрика. Экранизируя «Лолиту», он видел мой роман в одном свете, я видел его в другом – и только; нельзя отрицать, что беспредельная точность воспроизведения может быть идеалом автора, но может вместе с тем разорить владельца кинематографической компании.
Моим первым впечатлением от картины была смесь раздражения, сожаления и – неожиданно – удовольствия. Немало Кубриковых находок (как, например, жуткая игра в настольный теннис или та сцена, когда Гумберт восторженно прихлебывает виски, сидя в ванной) показались мне уместными и очаровательными. Другие (неподатливая раскладная койка или оборки на изысканной ночной сорочке мисс Лайон) были нестерпимы. В большинстве своем новые эпизоды оказались менее удачными, чем те, что я изложил с такой тщательностью, и я остро пожалел о том, что, восхищаясь стойкостью Кубрика, полгода терпеливо ожидавшего от меня сценария, потратил так много времени на написание и исправление произведения, не получившего применения.
Но я заблуждался. Стоило только мне вспомнить вдохновение на холмах, садовое кресло под палисандром, интеллектуальное возбуждение, пыл, без которого я бы не смог довести начатое до конца, как досада и сожаление тут же улетучились. Я сказал себе, что, в конце концов, ничего не делается впустую, что мой сценарий остается целым и невредимым в своей папке и что однажды я смогу его издать – не в виде раздраженного опровержения роскошной картины, но только как живую разновидность старого романа.
Владимир Набоков
Монтрё
Декабрь, 1973







