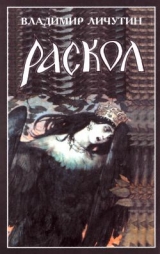
Текст книги "Раскол. Книга II. Крестный путь"
Автор книги: Владимир Личутин
Жанр:
Историческая проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 14 (всего у книги 48 страниц) [доступный отрывок для чтения: 18 страниц]
С такою смутою и на всенощную пришел патриарх. Но и здесь немилостивец достал. Государь, увидев старца Григория (Иоанна Неронова), подошел к монаху и милостиво, со смущенной полуулыбкою, словно бы вину какую за собою чуял, сказал: «Не удаляйся от нас, старец Григорий, не чурайся и не бегай. Мы тебя с матушкой любим». На что монах воззрился подслеповато, побагровел крохотным тусклым лицом и сразу перешел на крик, чтобы патриарх, облачавшийся в ту минуту, услышал: «Доколе, государь, тебе терпеть такого Божию врага? Смутил Никон всю землю Русскую и твою царскую честь попрал, и уже твоей власти не слышит. От него, врага, всем страх!»
Государь воровато отвел взгляд и скоро отошел от старца, ничего не сказав.
Глава пятая
– А детей-то куда?..
Вернулся-таки юродивый, не успев добежать до ворот богопротивных келий. Он, запыхавшись, распахнул двери и в проем, не переступая через порог, повторил:
– Дитешонок-то куда, коли наплодятся? Они ведь ангелы рождаются. Мы, грешники, через них ко Христу стучимся. – Феодор приударил посошком, подпрыгнул зачем-то, и роговые задубевшие пятки его каменно брякнули о половицы. Глаза же, обычно блекло-голубые, какие-то водянистые, тут налились той нестерпимо жаркой синевою, в кою окунувшись случайно, можно и обжечься. – У них не ручки, у них махалки. Они летают. Сам видел. – И вдруг потускнел Феодор, сивая бороденка мелко затряслась, задрожали губы, приготовился монах заплакать от горя.
Настоятель не удивился, ибо верно знал, что сын духовный вернется. На росстани однажды стакнулись надолго, и нынче в таком внезапном сполохе не могла порваться так просто меж ними непроторженная вервь. Настоятель видел и сквозь стену, как убегает юродивый длинным коридором прочь из общежитья, плюясь и фукая, как натыкается лбом на тяжелые створки ворот, слепо шарит рукою по кованому с насечкою кольцу, отыскивая щеколду, тут падает в траву ключка, и нагнувшись за нею, Феодор опомнивается и спешит обратно. Ближе, ближе чугунные шаги, резко откатилась дверь, и духовный сын воззвал, тоже все ведая наперед: «А детей-то куда?»
– Чего вернулся-то? Дошло? – усмехнулся настоятель Александр. – Да… да… да… Рождаются ангелы, а только батьку-матку закличут, там и залучат их еретики. Пусть сразу летят, пока без грехов. Легше папарты подымут. Верно, старцы, баю?
Преклонные иноки согласно закивали головами, согбенно опершись на ключки. Старые грехи давно позабыты, а новых поздно наживать, сил нет. Эконом осклабился, заворочался на лавке, громадный, как рогозный куль с солью, победно запоглядывал на келейщиков.
– Но ты же сказал даве, что отсылаешь их в мир, – не отступался Феодор.
– Это я для прилики баял, чтобы тебя не выпугать. Ишь какой мозгляк. Одна кость. – Настоятель утвердился в креслице, обласкал поручи ладонями, словно бы в бархатных подлокотниках наискивал тайную плывучую связь для мыслей. – Что говорил Златоустый? Дети, может, и совершат после великие дела, если бы не убил их Ирод. Но они могли быть в числе тех, которые кричали Пилату: «Распни, распни его».
– Да так всех дитешонков в мире можно перевесть. И расплоду не будет, – изумился инок Епифаний.
– Можно и всех… Надо всех…
– Но где черта? Может случиться пустыня. Кому нести заветы Христовы? Явится Спаситель судить, возвестят трубы архангеловы, а никто не отзовется.
– И всех, всех… Зачатых во браке и во блуде. И пусть пустыня. И Христос воскресит их, безгрешных. Их тьма тем слетятся с неба на землю, и воздвигнется храм Сионский из одних чистых.
– Златоустый лжет! – воскликнул юродивый. – Все златоустые лжецы. Не мед источаете, а мотыло и жупел. Хуже яду. И ты лжец, и поганые твои уста, как червие. Ты младенцев гложешь и кровь ту пиешь. Как иудей. Сказывают, и младенческие сердчишки толчешь и има прикупляешь народу в свой изврат и гнусную толоку.
Старцы на лавке потупились. Юрод смутил и огорошил их. Устами блаженного вещает Бог. Настоятель припотух, жевал губами, но растерянности не выказывал.
– А что! Иудеи закалывали младенцев и помазывали очи, и уста, и прочие члены тою кровию. Зато они видки, и говорки, и плодовиты, яко саранча. Эвон где разбежались по свету, – вступил Ефимко. – Отчего худо на Руси? Отчего гадко и скудно? Веры нету, и истины не ведают. Им в глаза хоть щепки вставь, а все будто котята слепые. Таков уж наш народ дремучий. Как нынче из берлоги. Правда, батько?
– Верно, сынок. Мочи нету, упругой силы, чтоб раскручивать. Полоротые, пасть отворят, ждут, когда ворона залетит. Такая уж порода, лишние на свете люди. Вон фрыгу, немчина, ежли взять. Из дерьма лепешка, так выкрутят. В руках все горит. Из дырки калач гнутый, из калышки баран. – Настоятель потек словами, призакрыл глаза, брылья опали вниз, как у ищейной собаки. Но вдруг осклабился, подобрался в креслице, напружился телом. Зрачки из припухших век глянули весело, зло, яро, и в них вспыхнули волчьи огоньки. – Иуду клянут, Иудой гнушаются, Иудой пугают. Ха-ха… Да он посильнее нас будет в сто иль в тыщу раз. Он на Бога руку поднял и не устрашился. Рядом встал. Они вместе и на Суд явятся: Христос и брат его Иуда.
– Пойдем, Феодор, отсюдова, – кротко позвал юродивого отшельник. – Кощуны слушать – что и самим блудить.
– От Никона бежали, а от нас не деться! – пригрозил эконом и поднялся с лавки, уперся головою в матицу. В келейке сразу стемнело. Червленые губы Ефимки полыхали в смоляной непролазной волосне, словно бы не просохли еще от недавно испитой крови.
– Пойдем, братец, из блудилища, – снова позвал Епифаний. – Они с чужих берегов, не нашей веры. Не нам с има ратиться…
– Они веру ищут, а надобно искать Господа, – уперся Феодор у порога, раскинул руки крестом, твердо уставясь ладонями в ободверины. – И нашли себе козлища! Вон воссел, трясет бородою, а над головою черный дым. Дьявол, сам дьявол. Тьфу, нечистый! – зафукал юродивый, плюясь через плечо Епифания. Отшельник уже отмяк сердцем, сейчас лучился добрым мятым лицом, и на щеках, на лбу, под глазами играли сотни мелких морщинок. Епифаний выталкивал Феодора прочь и приговаривал:
– Пойдем, братец, из блудилища.
– Вели, учитель, вели! – загремел эконом, накаляясь, угрюмо надвигаясь на сутырщиков, что заявились в чужой дом, да еще и правят суд. Ефимко вроде бы сорвался с цепи, торопливо засучивая рукава. – Дозволь, я истолку их в пыль!
Епифанию удалось-таки выпихнуть Феодора из проема и захлопнуть дверь.
– Надо стоять в вере, а искать Господа! Насмерть стояти! Нету другой веры, окромя православной! Не-ту-у! – вопил юродивый из сеней, пока волок его монах Епифаний прочь из келий.
– Нажил ты себе лютого неизбывного врага, – грустно посетовал отшельник притихшему юроду, ловко заскакивая в челн и отталкиваясь пехальным шестом от бронницы. Быстро пересекли протоку, по заберегам густо обметанную кугою; на илистой бережине замедлили, вглядываясь в прогал меж сопками, где невидимый затаился скит. – Когда неустрой кругом, как червие, лезет наружу всякая гиль из гнилушек, пенья и трухлявых колод, подменяя собою праведников. И всяк Богом клянется и Святым Писанием. Когда подавался с Соловков, хотел подичее забраться. Дай, думаю, уйду, где безлюдно. Много места на Руси, куда нога человечья не ступала. Взял книги в ношу, сухарей, старцы благословили. Четыреста верст брел тайболой, сел на Виданьском острове… И вот третий год уж ратюсь. Как погребли старца Кирилла. Воюю и плачу. Неизбывно в миру бесов.
Епифаний замолк, снял скуфейку, редкие льняные волосы на большой круглой голове как плакун-трава: сквозь тонкую прозрачную поросль просвечивает гладко натянутая, как на репе, по-младенчески чистая кожа. Феодор так жалостливо взглянул на отшельника, будто собрался погладить того по голове.
– Странно мне будто. Бежал он из заточения, а властвует. Знать, демоны пасут, – нарушил молчание Феодор. У него было закостенелое, мертвое лицо, а глаза пустые, творожистые, с накипью в устьях. Словно бы весь истратился там, в кельях, когда ратился с настоятелем. Феодор прислушался к пустынной тишине острова, будто удостоверился, нет ли и здесь наушников и дозорщиков, и продолжил стертым голосом: – Ему бы как ужу в нору. Схоронись и сиди. А в нем ни тоски, ни страху, как заговоренный. Кабыть так и надо. Устроил блудилище, а сам за сатану…
– Враги наши невидимы бысть…
– Всяк враг видим, коли душою бодрствуешь…
– Он вроде бы и видим, а не ухапишь. И стало быть – невидим. Одно чувствие, как сыворотка в горсти. Сожмешь, хорошенько встряхнешь, думаешь, что из него душа вон. Ан нет… После глянешь – пусто в горсти. Уж за окном хохочет, вражина, да рожи корчит… Враги наши всё веру ищут, о ней хлопочут. Библию наперекосяк читают да в то смущение зазывают слабых.
– Верно, отче, – вдруг поклонился Феодор, поймал у отшельника ладонь и поцеловал. – За веру надобне стояти. Она отцами нашими сыскана и нам во всей красоте заповедана.
– Как жил я на Соловках, был к нам сосылан Арсен жидовин и грек еретик, что после стал в справщиках у Никона. И тот Арсен сам признался однажды отцу духовному Мартирию, что он в трех землях был и трижды отрекался от Христа, ища мудрости бесовския. И вот такой переметник стал в наши печатные книги сеять плевелы, переменивать на свой лад. Мы тому Арсену цену истинную ведаем. Как тут не тужить, коли в советчиках у патриарха пропащий, вовсе сгиблый человек, давно душу продавший. Его и земля-то к себе не примет. Ведь не праведника, не честного жития старца себе в подручники выбрал Никон, а самого никудышного, бросового человечишку поселил в келье возле себя, чтобы и Русью-то не пахло. Русаков-то, сказывают, всех в юзы да в колоды да куда подал ее в Сибири угнал… Ох, Царица Небесная, оставляешь ты нас в последние дни…
– Тьфу, тьфу… Иудины дети, крапивное семя, враги Христовые идут по нашим следам, затаптывают их, заливают лжою, чтобы не разглядели, опамятовавшиеся, честного пути. Да что их ковы до нас, братец? разве могут они повязать честного человека, опутать его душу? Не-е… И напрасно ты сетуешь, ибо всякий праведник живет под щитом Спасителя и Пречистой Девы, а всякий грешник под разящим мечом их. Не оставила нас Пресветлая, но ежедень тужит по нам и гневается преизлиха на нас, прелюбы творящих. Была у меня даве, вот как тебя видел и разговаривал с нею. Гостила, миленькая, у меня, но грозилась наслать камение… Вот ужо, погоди-тко, дерзновенные! – погрозил Феодор в сторону скита, скрытого за холмушками. – От честного народу укрылись, яко мыша в норе, но от призору Спасителева не запереться. Везде настиг-ну-ут, во всякое время сразят его архангелы! – И Феодор притопнул ногою, вода пырскнула из-под ступни на обремкавшийся кабат, на грудь юродивого. Как бы собаками был дран блаженный…
Тут небо разредилось, глянул сквозь облачную сизую муть огненный зрак, золотушный, как бы сывороткой облитый. И сразу степлило. И ветер, дотоль уныло, монотонно свистевший над островом, присмирел, залег в ложбинах, вода в реке заиграла просверками, залучилась, словно бы сотни серебряных рыб всплыли из глубин. Много ли матери-земле нашей надобно: чуть приласкали, пригрели, обнадежили, она и обрадела, готовая плодиться.
Но откуда тут, на травяных низинных лайдах, бесам-то быть? Всякую чертовщину сдует сквозняком в реку под кряжи, в домашнюю сторону, под стены пустыньки, а там уж, под прислоном греха, посреди блуда, лешачей силе самый праздник. Зимой на острову – другое дело: завалит снегами, заметет келеицу под самую крышу, наставит сугробов, да ежли под крещенскую ночь в самую глухую темь, когда и петуха нет поблизости, чтобы выпутать нечистую силу, тут бесам и луканькам самое счастие блажить и сумятить сердце одинокого отшельника.
Иноки стояли, полуотвернувшись, озирая клок родимой северной землицы, окруженный водою; и хотя каждый смотрел в свою сторону, но даже в наступившем молитвенном молчании они вели неслышимый сердечный разговор, доступный лишь истинно верующим. В младых летах они покинули родителей своих по обету и ушли в церковь спасати душу свою, и волею рока, неизъяснимыми путями (надолго ли?) сыскались, прильнули друг к дружке на совместное житье. В какую бы пустыньку, в уединенный скит ни забирался бы наш монах, он невольно, в мыслях ли, в молитвах ли, но поминает о том неведомом брате по подвигу, коего может приобрести в особное житье даже глухой ночью, а переночевавши и вдруг найдя сердечное согласие, надолго задержаться для служения Господу…
Однажды попадал вот так же по комариной тайболе соловецкий монах Епифаний с легким кошулем на спине, где были старопечатные святые книги, своеручные записки о церковных догматах да горсть сухарей; и не дойдя до озера Онего двенадцати верст, тайною неторною тропою набрел скиталец на пустыньку старца Кирилла. Держал тот монах в пустыни мельницу и толчею, но сам лишь крохами довольствовался, отщипывая от ломтя, жил в суровом монашеском посту, а весь прибыток отдавал крестьянам Христа ради. И старец принял Епифания с великой радостью и удержал у себя…
– Вот ты молвишь, брат Феодор, де, враг сатанин всегда видим. Э-эх, главная борьба с врагом невидимым, – вдруг вернулся к прошлому разговору Епифаний. Он еще не мог остыть от недавней при, гремевшей в скиту. Какой-то неизбывной тоскою внезапно обдавало, как жаром, его незлобивое сердце, и Епифаний с ужасом вспоминал тех, кто в эти минуты оставались в блудилище, не представляя, к какому гибельному краю, споспешествуя, поя псалмы, сталкивает их настоятель с вожата?ем Ефимкою. Ишь ли, хитрован: сам на кресте виснет, ежедень вымаливает у Господа рая себе, а слабых, никошных, малодушных отправляет в бесконечную погибель. Плетет-заплетает вкруг несчастного ближнего паучьи сети свои невидимым словесным челноком. Как тот лещ, побарахтается христовенький в нетях, попытается выбраться из сетного полотна, отыскивая прореху для спасения, а после и сдастся с облегчением и с особой охотою, со сладострастием погрузится в алкание грехов.
– А я говорю, всяк ворог видим. Лишь настрополись узреть. А иначе против кого стояти? С дымом, с туманом ратиться? Он, вражина, как и мы, о руках обеих и ногах, и голове. А ежли сказывают, де, хвост видели иль рога, так это блазнит. И все. Он – как мы, только без души. Но ест и пьет ротом и всяких благ преизлиха ищет обманом. Если праведник Христа исповедует, то вражина – Иуду. Но ты не устрашись темного взгляда его, тлетворного дыхания его, когда Господь призовет на бой. А уязвить его трудно. Раз души нет, дырка там, то и совести негде взяться. А коли совести нет, то куда уязвить?
– Может, и твоя правда, прости, брат, – смиренно поклонился Епифаний. – Ты безгрешный, тебе видче. Но там, где моленная настоятеля Александра, поселился я по воле старца Кирилла. А еще до меня мучил его бес лют и неотступно творил пакости во сне и наяву. Может, от страха того и уломал он меня жить с ним…
Вот послушай-ка в поучение. Однажды, значит, старец Кирилл отправился в Александров монастырь и приказал свою пустынь надзирать отцу своему Ипатию и зятю Ивану, в деревне живущим в двенадцати верстах от его пустыни. «А в келию мою не ходите», – остерег, боясь за ближних. А зять же его Иван сблудил с женою своею и, не обмывся, взял соседа своего Ивана же и пошел пустыню дозрети, как бы чего не пропало. И не послушались старцева наказания, вошли они в келью и легли спать. Бес же поганой Ивана до смерти удавил, волосы долгие, кудрявые с головы содрал и надул его, яко бочку, а другого Ивана вынес из кельи в сени и выломил ему руку. И тот Иван, что живой остался, спал в сенях кельи день да нощ. Через сутки лишь пробудился, яко пьян, и, рукою своею не владея, приполз к Ивану удавленному, к зятю старца Кирилла, и хотел его разбудить, и увидел того мертвым, отекшим и надутым, а ужаснувшись, из кельи выполз на брюхе и на коленях кое-как добрался до другой странноприимной кельи, где с полсуток с умом собирался. И по сем сволокся в карбас и пустился вниз по реке. И принесла его вода в деревню к Ипатию, отцу старца Кирилла. Он же взял людей и вернулся в пустыню и принес зятя. И треснула кожа на Иване удавленном, так надул его бес шибко крепко, и истек он весь кровию. Они же ужищем связали покойнику брюхо и на стяге принесли его в карбас, как бочку, да привезли на погост и в яму в четыре доски положили, да так и погребли.
И после того келья стояла пустая, а старец Кирилл в странноприимной келье остался. И послал он меня в эту пустынь жить, где бес хозяиновал. Я же, грешный, старца прошу: «Отче святый, помози мне в своих молитвах, да не сотворит мне дьявол пакостей». И с благословения старцева направился я сюда с бесами ратиться. И стало сердце мое трепетать во мне, а кости и тело дрожали, а волосы на голове моей поднялись, в такой ужас я пришел. Я же, грешный, положил книги на налой, а образ медный Пречистой Богородицы поставил в киоте. Потом покадил книги, и образы, и келью, и сени и начал вечерню пети, и псалмы, и каноны, и поклоны, и иное правило келейное. И продолжил правило до полунощи (а было то до крещения Христова за два дни). И утомяся довольно, возлег починути и живоносным крестом оградил себя трижды. И спал до заутрени мирно, ни страха, ни духа бесовского не ощутил. И так с неделю спокойно жил.
Но однажды после трудов взял меня сон тонок, и явились ко мне в келию два беса, один наг, а другой в кафтане. И взяли доску мою, на ней же почиваю, и начали меня качати, как младенца. Я же, осердясь, встал с одра моего и взял беса нагого поперек. Он же перегнулся, яко мясище некое бесовское, и начал я его бить о лавку, о коничек. И завопил великим голосом: «Господи, помози мне!»
И видится мне, будто потолок келейный открывается, и пришла сила Божия на беса. А другой бес прямо у дверей стоит в ужасе и хочет вон бежать из келий, да не может; ноги его приклеились, и не вем, как бес из рук моих исчезнул. Я же очнулся, будто от сна, зело устал, бия беса, а руки мои от мясища бесовского мокры. И после того больше году не бывали бесы ко мне в келию.
До Покрова за две недели после правила моего лег на месте обычном на голой доске, а голова ко образу. И еще не уснул, как дверь в келью отворилась и вскочил ко мне бес, яко разбойник, и ухватил меня, согнул вдвое и сжал туго, что невозможно ни дышать, ни пищать, только смерть. И еле-еле, на великую силу пропищал я в тосках: «Николае, помози мне!» – так бес меня и покинул, и не вем, куды делся. Я же, грешный, начал к Богородице: «О, Пресвятая Владычица моя! Почто меня презираешь и не бережешь меня, бедного и грешного! Я ведь на Христа-света и на Тебя-света надеялся, мир оставил, и монастырь оставил, и пришел в пустынь работати Христу и Тебе…»
И от печали напал на меня сон. И вижу себя седяща посреди келеицы на скамейке, на ней же рукоделие мое. А Богородица от образа пришла, яко чистая девица, и наклонилась лицом ко мне, а в руках у себя беса мучит, коий меня мучил. А я зрю на Богородицу и дивлюся, а сердце мое великой радостью наполнено, что Богородица злодея моего мучит. И отдала мне Богородица беса уже мертвого. Я же взял его и начал мучити: «О, злодей мой, меня мучил, а сам и пропал!» И бросил его в окно на улицу. Он же ожил и восстал на ноги, яко пьян, и грозится: «Ужо я опять к тебе не буду ходить, а пойду на Вытегру». Я же сказал: «Не ходи на Вытегру, иди туда, где людей нету!» Он же, яко сонный, побрел от кельи прочь. Я же от сна пробудился и прославил Христа.
А живя в пустыни, сподобился я питаться от рукоделия. А иные боголюбцы приносили Христа ради. А в пустыни жити без рукоделия невозможно, ибо находит уныние, и печаль, и тоска великая. Добро в пустыни – псалмы, молитва, рукоделие и чтение. О, пустынь моя прекрасная!
– Не мара, не кудесы. Не дым и не сон. Бес видим и оборим. Вот он разжидился, рассопливел пред тобою, подался прочь на Вытегру, утянулся, ненавистник твой. Пусть и не до смерти, но одолел же ты его, проклятущего?
– Видим-то он видим, пожалуй. Но вот как тень. Вроде и мясища его потные держал и гнул беса, как кочедык, и об лавку лупцевал, и сок из него жал, как сыворотку из творога. Вроде бы помереть ему должно на том месте. Жалконький от меня побрел, как чахоткой съеден. И опять набрался силы… Он, вражина, на Вытегре набедокурил, меня не послушался, и назад в пустыньку вернулся в новом обличье нас доканывать. Думал, не признаю его. А я признал… Да и ты его ведаешь, старца Александра. Лжепророк, лжеплемяш царев, слуга антихристов, обольститель лукавый, он всех очаровал на Суне-реке и под Онего, бедных христиан под себя подпятил, посулами улестил, наобещал, как слаже жизнь бренную коротать; де, упивайтеся вином, блудите всяко, наушничайте, тираньте слабых; де, малый грех покрывается большим, а набольший грех покрывается Иудой, которого всегда пасет верный брат Исус. До чего договорился, анчутка, язык не повернется такое молвить. А народ потянулся издалека, наслышав, потек на его сладкие речи, будто сахарными пряниками умостил он тропу в пустыньку. Иные и жен с детьми побросали, другие мужевьев своих, как с ума посходили. Воистину скончание света… Вот он будто и видим в яви, и повадки все вражьи напоказ, но отчего очи-то у христовеньких помутились? В этом бесе они нового Христа видят и двоят его вместях с Иудою. Тьфу-тьфу… От него я сошел на Видань-остров, дак и здесь достают, не дают уединения, завистники. А я на них не гневаюсь, не. Ибо возлюби врага своего пуще брата своего. Я ведь для прилики ратюсь, чтобы опомнились. И на Голгофу поведут, и копием прободают под ребра, и венец терновый с шипами возложат на грешную мою голову, но и тогда и словечушком горьким не упрекну их вин и прощу во всяком грехе. Так ли я говорю, братец? – Епифаний испытующе посмотрел на юрода, глаза отшельника стали талые, прозрачные, влажные от близкой слезы. Феодор же упрямо вскинул голову, сгорстал верижный кованый крест, словно бы сулицу боевую ухватил, чтобы вернее ополчиться на ворога. И почуял, как живая горячая сила притекла от креста в сердце. Но отшельник и не ждал ответа, ибо заповедями Христовыми был полон он, как криница гремучего студенца прозрачной влаги…
– Что молвить? Смиренному иноку мои слова – как ржа железу, как искра соломе. Разного мы пути, Епифаний, и разного обету. Ты, монасе, молишь Бога, чтобы дал тебе дольше жизни для спасения других. И в том твой подвиг. А я молю Господа, чтобы дал мне страданий и смерти в страданиях. Я к Христу спешу, чтобы замолвить слово за вас. Мне все видимо, от тебя же все скрыто…
– Закоим так, братец! Мы же воины Христовы, – слегка пообидясь, воскликнул Епифаний и, словно бы боясь потерять юродивого, цепко ухватил его за обтерханный рукав холщового кабата, сквозь прорехи которого светилось измозглое тело. – Где тебе ишо бродить? Оставайся-ка у меня. Будем вместе терпеть нужу.
И отшельник, помолясь, гостеприимно отпахнул низенькую дверь в жило. И еще не войдя в монашеское житье, Феодор услышал сердцем, что здесь ему быть.
Светлый домок у Епифания о пяти стенах на две келеицы, сам с любовию ставил. Одна келейка будет с локтем сажень меж углы, а в другой, поди, с полсажени; в одной клети моленная и для книг, в другой мастерская, рукоделий для, и опочивальня тут же; стены со тщанием, гладко скоблены теслом, в углу печура из речного камня, по стенам лавки, у порога коник с рундуком для скарба; в обеих келеицах лампадки горят, травы пучками в углах, в низкое волоковое оконце струит с реки сквознячок, наполняет житье каким-то чудным, святым запахом. И неуж сюда бесы прихаживают? Эко-нако, подумал Феодор, ревниво озирая уединенную хижину: пахло липовыми стружками, смолою, рыбьим клеем – всем тем духом, что обычно обживается у столяра и древодела. Но не поселилось тут монашеской постной прогорклости и старческой затхлости. Потому и прихаживают сюда бесы, что земными чувствиями еще полон монах, и сердце его почасту прельщается привадами грешного мира…
– Не остануся у тебя. Не уламывай, – упрямо супился юродивый. – У тебя дух чижолый, грудь спирает. Негде мне у тебя спать.
– Ты что, Феодор? Окстись! – взволновался отшельник – На мою лавку ляжешь, а я под порог. От бесов боронить. И больно хорошо.
– Это я под порог, – неуступчиво возразил Феодор. – А лучше того с той стороны, где Бог скитается. Душно мне в избе.
Тело юродивого вдруг затомилось, запросило бани. Феодор почувствовал, как запаршивел он, закоснел, окоростовел всякой телесной волотью и мосоликом, и даже сердце-то вроде бы обросло мхом.
«Соблазн кругом. Приваживают бесы, и дражнят, и поманывают», – испугался Феодор неожиданной слабости, царапнувшей сердце.








