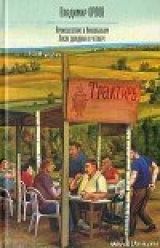
Текст книги "После дождичка в четверг"
Автор книги: Владимир Орлов
Жанр:
Современная проза
сообщить о нарушении
Текущая страница: 7 (всего у книги 25 страниц)
10
– Терехов! Терехов!
– А?
– Вставай, Терехов!
– Я проспал?
– Ночь еще! Что делается-то!
– Что? Где?
– Ветер…
– Кинь сапоги…
– Сосну, знаешь, которая у крыльца…
– Ну?
– Начисто. Поломал.
– Сосну?
– На крышу бросило…
– Мне война снилась…
– Она и упала, как бомба… Тайгу, наверно, пометелит ветерок, понаделает буреломов…
– А-а, черт! Всегда с этими пуговицами…
– Свет зажечь?
– Не надо, глаза лучше привыкнут.
– И дождь со снегом… Для разнообразия…
– Пошли…
– Плащ-то надень…
– Да, плащ…
– Сколько на твоих светящихся?
– Три часа, четвертый…
– Уже светать пора, а такая темень…
Шагали по коридору, ступали тяжело, шуршали плащами, как будто сухие дубовые листья в весеннем лесу давили. Маленький, плотный, спешил рядом с Тереховым Рудик Островский, электрик и комсорг их поселка. «Спокойной ночи, спокойной ночи, – пришептывал он, – до полуночи, а с полуночи кирпичи ворочать…» Привязалась к нему эта детская приговорка и отстать уже не хотела. Шумно было в коридоре, выскакивали из комнат разбуженные парни, шутили и орали, слова находили грубоватые, ветер желая попугать, да и сами старались оправиться от испуга. Дергали Терехова за рукав и спрашивали о чем-то, но он махал рукой, давал понять, что он сам еще ничего не видел и проснуться как следует не успел.
Небо все же синело, и сопки надвигались отовсюду мрачно, как танки. Черный снег падал и падал и таял на лице Терехова. Сосна, корни пустившая пол крыльцо общежития, лежала на крыше, и ветви ее шевелил ветер. Ствол ее ветер перекусил, наверное, слом был неровен и клыкаст. Высыпали за Тереховым все из общежития, одетые наспех, с черными булыжными лицами, стояли молча, смотрели. Валили люди из других домов и у крыльца застывали в синеве.
– А ветер-то стих, – сказал Терехов.
– Ураганом прошелся.
– Петляет, еще вернется…
– Улеглась она аккуратно, – зло сказал Терехов. – Труба ее держит.
Все думали о сосне и уже высказывали соображения, как ее сбросить, а Терехов хотел лезть на крышу, но тут он подумал, что сосна эта, может быть, только цветочки и надо пройтись по поселку и поглядеть, нет ли ягодок. Он отыскал в толпе Сергея Кислицына, принявшего испольновскую бригаду, и сказал ему: «Займись ею». Кислицын кивнул и сразу же послал парней за топорами, пилами, слегами, проволокой и веревками. Было бы просто дернуть сосенку трактором, но тракторы сейчас мирно спали в автобазе за Сейбой, в Сосновке. Терехов шагал к столовой и к стенам завтрашнего клуба и слышал, как шумели у крыльца ребята, словно очнувшиеся от оцепенения, разбуженные делом. Терехов и сам чувствовал, что его собственная растерянность исчезает и испуг вместе с ней. Рудик семенил за Тереховым, иногда прыгал, потому что шаги у Терехова были большие и быстрые, и еще несколько парней спешили за ними.
– Так, – остановился Терехов, – так.
Три столба валялись на земле, один за другим, очень вежливо уложенные ветром, а провода были запутаны и порваны.
– Так, – обернулся Терехов к Рудику, – значит, свет у нас не горит и по телефону поговорить нельзя…
– Я даже выключателем не щелкнул, не проверил, – смутился Рудик, словно он и был виноват во всей этой истории, недоглядел.
– Поставить их не трудно, – сказал один из парней.
– Думаешь, только эти валяются? – разнервничался Рудик.
– Дальше, – позвал Терехов.
С крыши третьего общежития ураган сорвал пару листов кровельного железа и, поиграв с ними, отбросил их к столовой. Свалены были деревья за дорогой, ели, вовсе и не хилые, а те, что попались ветру на глаза, и он покуролесил над ними. Легонькую березку подбросил вверх, зацепил ее за еловые ветви и так оставил болтаться. «Все же надо повырубить деревья в поселке, – подумал Терехов, – красота красотой, а все грязи поменьше будет да и крыши целее…» По мысль эта была мимолетная, она ушла, как и пришла, и другие мысли мелькали и уходили, оставляя, однако, о себе зарубки, а тревогой жила в мозгу Терехова одна – о Сейбе и мосте. Он и шагал теперь к Сейбе, не оборачивался, слышал, как сзади шлепались в грязь Рудик и парни, как они матерились и потом бежали, догоняя его. Спустившись по съезду, встали в березовой рощице, дальше идти было нельзя, Сейба захватила дорогу. Темень, уплотненная сыплющимся снегом, скрывала мост, и пробираться к нему было бессмысленно. Постояли с минуту, хотя и не видели ничего, и Терехов сказал:
– Придется подождать рассвета.
– Столбы и тут свалены, – расстроился Рудик.
Провода тянулись по земле и ныряли в шумящую воду.
– Ну пошли, – сказал Терехов.
Наверху с сосной еще возились, лапы ей пилили и топорами их сшибали, а толстые канатные веревки и проволочный трос уже оплели ее комель, и внизу ребята держали их концы, как звонари, ждали сигнала, чтобы дернуть медные языки, колоколами заглушить разгулявшуюся Сейбу. Кислицын махнул рукой, и звонари стали бурлаками, «Дубинушку» вспомнили, «зеленая сама пошла», Терехов не удержался, подскочил к ним, и ему без слов передали трос, а потом, когда подправленная слегами сосна сползла вниз, получилось так, что Терехов первым подставил под нее плечо и осел, крякнув, поволок ее вместе с парнями поздоровее, руки его ощупывали деревянные клыки слома, у обочины дороги посчитали для приличия: «Раз, два! Уронили!», сбросили сосну в грязь. Руки ныли, под дождем бинты у Терехова стали мокрыми, и надо было пойти к Илге и сменить их.
– На дрова пустим, – предположил Кислицын. – Лето у нас по печке скучает.
– Лучше ее тут оставить, – задумался Чеглинцев. – Вечерком, знаешь, на ней покурить или на солнце погреться.
– Тебе-то что, – сказал Островский, – тебе-то какое дело до нашей сосны… Будешь в своей Тмутаракани загорать…
– А ты помолчи, – разозлился Чеглинцев.
– Был бы тут Севка, – сказал Терехов, – он бы все объяснил, что никакой Тмутаракани нет, была когда-то, а теперь на ее месте Тамань, деревушка и Черное море рядом плещется…
– Помолчал бы он, этот Рудик-то, – проворчал Чеглинцев, – мы свое тут сделали, и дом этот, на который сосна свалилась, мы ставили…
– Знаем, слышали…
Вернулись к общежитию, народ все толпился у крыльца, покуривал и шумел понемножку, лица чуть светлели в синеве, и глаза блестели, и были они встревоженные, словно у людей во влахермском бомбоубежище, которых Терехов запомнил навсегда.
– Дело плохое, – сказал Терехов, – день будет трудный. Света нет, связи тоже… Что с мостом, пока не видно, но всякое может быть… – В душе он считал, что с мостом все обойдется, но говорить людям бодрые слова не хотелось, лучше, если они будут подготовлены к беде. – Может, и отрежет нас Сейба от Большой земли…
В толпе шумели, все были возбуждены и все желали делать что-нибудь штурмовое.
– Вот что, – сказал Терехов сурово, – всем сейчас спать. До семи. Сейчас четвертый. Я не шучу. Нет хуже вареных, непроспавшихся людей. День будет трудный.
Все были недовольны, Терехов это чувствовал, парни шумели, и фонарики нервно покачивались прямо перед его глазами, слепили их, и Терехов щурился. «Это глупо, кто же сейчас заснет», – слышал Терехов; на самом деле распоряжение его могло казаться неразумным, но он знал, что не откажется от своих слов, потому что был убежден в их необходимости.
– Я прощу всех быть спокойнее и идти спать, – сказал Терехов глуше. – В конце концов я приказываю это сделать. Я и сам пойду сейчас спать.
Он говорил это и чувствовал, что между ним и толпой вырастает ватная стена отчуждения и для них, близких ему людей, он становится какой-то злой силой и они не понимают его. «Какой из меня прораб, – думал Терехов, – шутку бы сейчас ввернуть, и все было бы ладно, а я…»
– Дежурными остаются Островский, Кислицын, Макаров, Зернов. – Он увидел сердитые лица Нади и Олега и добавил: – И Плахтин. Всем расходиться. Спокойной ночи.
Не выслушав возражений, не взглянув даже на ребят, Терехов повернулся и решительно пошел к крыльцу. «Спокойной ночи, спокойной ночи, а с полуночи кирпичи ворочать…» Как они там смотрели ему в спину и что думали ему в спину, он не мог знать, а ему хотелось знать, он понимал, что через день, через два эта минута отчуждения забудется, вытравится из памяти, но сейчас Терехову было горько, и он злился на себя.
Он стянул сапоги, лег прямо на одеяло и закрыл глаза. Кому-кому, а ему-то спать сейчас было совсем глупо, надо было идти в контору и разыскать всю документацию моста и, посвечивая фонариком, изучить ее, но он сказал всем: «Я и сам пойду спать» – и врать был не намерен. Он услышал, как застучали в коридоре сапоги и как захлопали двери, значит, послушались его ребята и пусть с ворчанием, но расходились теперь к своим кроватям. Быстрый, шумный вошел в комнату Рудик Островский.
– Терехов, я еще Тумаркина в нашу группу включил. Если что будет, на трубе сыграет: «Слушайте все!»
– Детство вспомнили, – проворчал Терехов. – Погремушки еще разнеси по общежитиям… Знаешь, будь добр, загляни в столовую. Как там с продуктами…
Значит, глаза у Олега и Нади были сердитые, а может быть, даже и злые, значит, так. Ну и хорошо, ну и хорошо. Может, из-за этих глаз он и был сегодня упрямым, уперся на своем, а может, и не из-за них, а из-за того, что не любил устраивать штурмы, был в работе тихоходом, приговаривал: «Так-то мы дальше приедем» – и считал, что самое главное во всяком деле – это правильно распределить силы. Пусть даже у них на Сейбе ничего не случится, пусть дни потянутся будничные, как и прежде, ни к чему было нервничать и суетиться. И хотя причин для бессонницы у Терехова было много, он все же задремал и проспал часа два, до той минуты, пока его не разбудил пронзительный и резкий голос трубы.
11
Труба рвала свое медное горло.
Терехов прыгнул с крыльца и побежал к дороге.
Впереди, выявленные серым полотном неба, он видел подскакивающие мокрые спины и черные брызги грязи, летевшие из-под сапог.
Тумаркин стоял у дороги под сосной, печальный и лохматый, и дождевые капли стучали по желтому металлу. От голоса трубы утро становилось странным и значительным, и Терехов хотел крикнуть Тумаркину: «Прекрати», но не крикнул, а побежал еще резвее.
Он видел, что ребята впереди, неуклюжие и громадные в своих плащах и размокших, не успевших подсохнуть кирзовых сапогах, сворачивают вправо, не добегая до скользкого съезда к Сейбе, несутся к ней напрямик, по крутым склонам сопки, ломая кустарник, падая, помогая друг другу вставать, заставляя камни, годами лежавшие под елями, катиться вниз и подскакивать на буграх. Терехов свернул вправо и спиной почувствовал, что люди, выскочившие из общежитии позже его, тоже прыгают по зеленому боку сопки, у него не было времени оборачиваться и разглядывать, кто бежит за ним, он несся, как слаломист, пролетал мимо деревьев и кустов, готовых поцарапать его и расшибить ему лоб, рисковал, обманывал их в последнюю секунду, уходил от них влево или вправо и только раз не удержался, шлепнулся на землю и несколько метров скользил на ягодицах. Он увидел, что впереди, внизу, парни и девчата по рыжему откосу, как по ледяной дорожке, съезжают с криком, кто на корточках, на отглаженных подошвах сапог, а кто не жалея брюк. Издали все это было похоже на баловство, неуместное в это синее утро, когда тревожно звучала труба, но и Терехова мокрая земля откоса свалила, будто ножку подставила ему, и он покатился вниз, кулаками отталкиваясь для скорости. Он смеялся, и смеялись ребята, скользившие за ним, будто бы только что отстояли очередь в кассу забавного аттракциона и теперь, сунув контролеру билет, веселились вовсю. Но через секунду, когда Терехов уже поднялся на ноги и побежал по ровному, мял траву и цветы, ему от шума Сейбы снова стало не по себе.
Он бежал к бугру с толстой березой. Бугор торчал над сейбинской поймой, и в тихие дни с него можно было стрелять уток, залетавших с Минусинской котловины. От бугра до Сейбы и до моста кочковатым лугом, утыканным кустиками и пахучими сочными цветами, словно оранжерейными, шагать надо было метров сто, не меньше. На бугре стояли товарищи Терехова, утихнув, забыв об измазанных брюках и ватниках.
Терехов подскочил к ним, остановился не сразу, пошел не спеша, и другие ребята догнали его, шагали за ним, а стоявшие на бугре, заметив Терехова, расступились и пропустили его вперед, пропустили не потому, что он со вчерашнего дня стал старшим на Сейбе, просто для каждого из них было бы странно, если бы Терехов оказался вдруг за их спинами, они привыкли видеть его впереди, и теперь он стоял ближе всех к Сейбе, понимал, что все ждут от него слов, а говорить ему не хотелось, он просто стоял и смотрел на Сейбу.
До моста было метров сто, а Сейба била ему в сапоги, счищала с них грязь и холодила ноги. Маленькая речонка метров в тридцать шириной в тихие всегдашние дни была похожа сейчас на Енисей. Мост еще держался, чуть горбатой своей спиной высовывался из воды, плыл и не уплывал, подобраться к нему по насыпи, если не бояться ноги замочить, было можно, но с той, сосновской, стороны насыпь река размыла, вода билась, ревела, как в проране, и деревянная труба, видимо, была истерзана, искалечена Сейбою; не сумев одолеть моста, там река взяла свое, а значит, их поселок стал островом.
– Метеорологи, гидрологи, прогнозы, чтоб их…
Островом, и на сколько дней, неизвестно, хотя бы даже на один сегодняшний, и то сладкого мало, и дело было даже не в том, что работы на объектах могли пойти к черту, а главным образом в том, что остались они на острове без машин, ночевавших на автобазе в Сосновке, без продуктов, которые обычно по утрам возили из сельпо, и без поваров, вместе с частью рабочих квартировавших пока на том берегу.
Все сейбинские, наверное, высыпали на горбатый бугор, последний мыс их не помеченного на картах острова, мыс доброй надежды или недоброй, были тихие, потому что шумела Сейба, глядели на нее, завороженные силой ее и страстью, а коричневая, взбаламученная вода все летела и летела мимо. «Все-таки она молодчина, – думал Терехов, – что позволяет себе такие штуки! Хоть раз в год, хоть раз в двадцать лет, хоть раз в жизни. Молодчина, потому что так и надо – взрываться и прыгать выше себя, иначе скучно; в тихих степных речушках, вызмеенных петлями, нечто сонное и рабское, и наш канал во Влахерме, бетонными и булыжными берегами своими успокоенный, вял, как дряхлый старик, и не сам он, а насосы гонят в нем воду, а Сейба молодчина, злая и смелая…» Думал об этом Терехов, но так и не произнес ни одного слова, все стоял и смотрел на Сейбу и мог бы так долго стоять и смотреть, если бы он был у Сейбы один.
На том берегу, на вчерашнем взлете дороги в Сосновку, тоже толклись люди, маленькие и серые, кто там стоял, разглядеть было невозможно, но, наверное, их рабочие, шоферы и крановщики, да и деревенские вряд ли не пришли поглазеть на наводнение, чтобы потом долгие годы вспоминать о почуявшей волю Сейбе, как вспоминают о боях, детям рассказывать и жителям сухих сел, привирая и веря своим словам.
– В столовой был? – обернулся Терехов к Островскому.
– Мало там… А хлеба вообще нет, – покачал головой Рудик, зашептал, приблизившись к Терехову, словно боялся испугать своими словами ребят: – Стряпухи бы нашлись, а стряпать нечего…
Последнее звучало вопросом «что делать-то?», но Терехов промолчал, он снова повернулся к Сейбе и уставился на ее летящую воду и думал о том, как бы вел себя сегодня прораб Ермаков, что бы он придумал и какие бы слова нашел. Собственно говоря, Терехов думал о том, что делать ему, но получалось так, словно он отыскивал решение для прораба Ермакова. Терехов был растерян и понимал, что инициативу захватила Сейба, она будет делать, что захочет, снесет мост и дорогу размоет, если ей заблагорассудится, а им придется приноравливаться к ее фокусам, насколько возможно, им препятствовать, а главным образом ждать, пока река не обессилеет и не отыграется, тем более что средств бороться с Сейбой у них не было. Терехов стоял, сунув руки в карманы плаща, и уговаривал себя не делать глупостей, он колебался, ему хотелось сейчас раздеться и полезть в коричневую воду, чтобы переплыть Сейбу.
На том берегу были машины и продукты, с того берега можно было бы, если, конечно, связь еще сохранилась, выпросить у начальника поезда трелевочный трактор или даже вертолет, на том берегу был Ермаков. Терехов понимал, что если рабочие, оставшиеся в Сосновке, сами ничего не предпримут и не найдут способа пробраться на остров, кому-то придется переплывать Сейбу; впрочем, Терехов знал кому. Но все же он уговорил себя подождать, быть поспокойнее и плыть только в том случае, если на том берегу ничего не придумают.
– Помните, – обернулся Терехов к ребятам, – такой анекдот есть. Ведут человека на казнь в понедельник, а он ворчит: «Ничего себе неделя начинается…»
– Это не анекдот, – сказал Островский, – это из Швейка.
– Сегодня понедельник… – сказал Терехов. – Ладно. Пошли работать. Слава богу, нам клуб и школу доделывать надо. Рудик, ты со своим дозором останься. Если тот берег так и будет топтаться на месте, все же придется плыть… кому-то…
Последние слова Терехов произнес неуверенно, а ребята вокруг загалдели, все хотели плыть, и Олег туда же, такими все распрекрасными героями оказались, а Терехов стоял и улыбался снисходительно: «Ну пошумите…»
А Сейба не отпускала, и глаза он оторвал от нее с трудом, и повернулся с трудом, и вверх по скользкому откосу сопки взбирался, стараясь не оглядываться. У домика конторы Терехов остановился, выкурил сигарету, а потом, вытащив из кармана связку ермаковских ключей, долго не мог отыскать нужный ключ. Дверь подалась легко, щепкой срезал Терехов грязь с сапог и шагнул в штабную землянку, как ее называл Ермаков. В конторе было темновато, и Терехов невольно щелкнул выключателем, а вспомнив о поваленных столбах, выругался от души. Он пододвинул две табуретки, кривоногие и тяжеловатые, к окну и стал отмыкать рыжую дверцу сейфа. В сейфе лежали зеленоватые и голубые папки скоросшивателей, пухлые и тощие. В папках были спрессованы долгие месяцы работ, штурмы и скучные будни, людские радости и тревоги, меченные приказами, премиями и выговорами. Зеленоватые и голубые истории Терехов выволок из металлической камеры, обожавшей секретность, на серый свет мокрого утра и, разложив на табуретке, принялся их изучать.
Папки он открывал все не те, скользил взглядом по пересыпанным цифрами листкам, запоминал кое-что на всякий случай и откладывал папки на подоконник. В передней комнате он слышал голоса ребят, там хлопала дверь и толклись люди, – видимо, бригадиры проводили коротенькие летучки. Заглянул в тереховскую комнату Сысоев, вожак штукатуров, и Терехов ему улыбнулся и махнул рукой: давай, мол, сам командуй. Сысоев скорчил понимающую рожу: «Ну как же, с таким чутким руководством…» – и скрылся, и тут Терехов, открыв голубую картонную обложку, обрадовался.
Сверху, словно бы титульным листом всей повести о сейбинском мосте, был подколот постаревший приказ. Прораба участка Будкова И.А., трех мастеров и бригадира плотников Испольнова В.Г. благодарили и награждали премиями «за проявленную инициативу и самоотверженный труд на благо…». Приказ был двухлетней давности, когда его отстукивала крупными чернильными буквами на своем «Ундервуде», или что там у нее имелось, секретарша начальника, Терехов тянул провода и щелкал выключателями в Курагине и о сейбинском мосте знал понаслышке. Впрочем, о Будкове тогда говорили много и охотно, писали всюду, где могли, и фамилия Будкова стала звенеть по всей трассе. Будков был совсем юнец, и двух лет не проработавший после выпуска в МИИТе, но вскоре его сделали начальником поезда, и сменил он, к удовольствию ребят, громогласного хозяина Фролова. Фролова не любили за хамство и тупость, а Будков был человек современный. Потом Будкова не раз премировали и благодарили, но о мосте не забывали, припоминали чуть что.
Терехов, перебрав бумажки голубой папки, остановился на одной из них. Там были чертежи и расчеты прочности моста. Терехов поковырялся в цифрах и понял, что пять опор, пять ряжей, пять деревянных срубов, забитых бутовым камнем, стоят крепостью, хоть под Ниагарский водопад их переноси. Перечитав и пересчитав цифры, Терехов успокоился, подумал: «Ну хорошо, ну хорошо, так и должно быть». Бумажки он изучал теперь медленнее и обстоятельнее, а наткнувшись на небольшой рисунок, подклеенный к записке Будкова, откинулся от стола и, покачиваясь, стал этот рисунок рассматривать.
Рисунок был сделан тушью, видимо, рукою Будкова, рукою не очень искусной. Собственно говоря, это был даже и не рисунок, а некое фантазирование на бумаге. Терехов подумал, что бумажку эту Будков изрисовал в споре, чтобы показать непонимающим поточнее, для чего нужен сейбинский мост. До их поселка полотно дороги летело по левому берегу Сейбы, дремучему и безлюдному, а у поселка отскакивало от реки, бросалось к тоннелю, который еще надо было пробить в Трольской сопке. Жизнь с цивилизацией подбиралась от Минусинска к правому берегу Сейбы, на левом же ее берегу не было ни поселений, ни дорог. А именно от Сейбы начинался самый трудный и длинный отрезок трассы. Сейбинский участок был пока головным, дальше шла нетронутая тайга, и забрасывать людей, машины, стройматериалы в ее дебри никаким другим путем, как из Сосновки, было нельзя. Вот потому и перебрасывали через Сейбу мост. Его хотели делать капитальным и бетонным, но Будков ринулся в спор с проектировщиками и убедил всех в своей правоте. Он считал, что старая привычка начинать стройки с конца вредна, теперь вначале прокладывают постоянные дороги и дома ставят на века, а уж потом принимаются за основное. Это разумно, это современно. Но иногда и современное может обернуться штампом, мешающим делу, а надо уметь быть гибким. Вот такой помехой делу и считал Будков стремление во что бы то ни стало перекинуть через Сейбу бетонную громаду: «Всюду я обеими руками голосовал бы за это стремление, но не здесь…» И убедил многих в разумности своих доводов, доказал, что сейчас, когда строительную базу только начинают создавать, с бетонным мостом можно проковыряться очень долго, и на год, а то и на полтора будет задержано форсирование Сейбы и переброска сил на ее левый берег и в глубь тайги. Доводы Будкова решили одобрить и поручили ему с плотниками поставить на Сейбе мост о пяти ряжах. А потом был на стройке праздник, и по мосту, сработанному быстрее, чем думали, шли машины, украшенные флагами и цветами, счастливый Будков по традиции стоял в воде под мостом и словно бы на свои плечи был готов принять машины, если бы они продавили толстенные бревна моста.
Все так и было, и сейбинский мост уже держался два года, подставлял свои отглаженные бревна шинам и гусеницам, и двигались с Большой земли машины в тайгу, поселки сборно-щитовых домиков появлялись на склонах безымянных сопок, дорога подобралась к будущему Трольскому тоннелю, а за ним, за перевалом таежные десанты рубили просеку и ставили первые срубы. Одинокой два года назад была на левом берегу Сейбы изба, где сначала разместили контору, а теперь, по общему мнению, предполагали устроить музей. Жили в этой избе лесник и его жена Пана. Лесник тихо ловил в Сейбе хариусов, жена его стреляла медведей, набивала по пятнадцать штук в год, так и считала штуками, имела право. А когда мост поставили, подались лесники подальше в тайгу, у Сейбы медведи были распуганы. Потом медведи снова бежали уже от Трольской сопки на восток, в тихие места, но надолго ли? Машины все идут и идут по сейбинскому мосту, неторопливые и тяжелые, и на бортах у них написано мелом: «Даешь Тайшет!», сегодня не идут, так завтра пойдут, через три дня, через неделю, вот собьют спесь с обнаглевшей реки.
Терехов взял со стола карандаш, чтобы набросать план их участка до Трольской сопки и дальше, как он его представлял, но в то мгновение, когда потянулся за листком бумаги, он глянул в окно и увидел на улице девчат-штукатуров, пробиравшихся по лужам к клубу, и среди них шла Надя. Девчата заметили Терехова и руками ему замахали, и Надины глаза Терехов разглядел, они были уже не сердитые, а веселые. Терехов опустился на табуретку. Все возвращалось к одному, как возвращается боль, когда вспоминаешь о ней, так и мысли о Наде вернулись к Терехову, дали ему несколько часов передышки и вернулись снова, и Терехов понимал, что в мире есть только он и Надя, и никакой тайги нет, никакого поселка, где он прорабом, нет, никакой Сейбы и никакого моста нет, только он и Надя, и он любит ее, а у нее – другой, остальное же в мире ничего не значит. И так будет всегда, и от этих мыслей ему никуда не уйти. Терехов сидел и рисовал Надю, ее губы и ее глаза и думал о том, что, как только Ермаков выздоровеет и вернется, он уедет с Сейбы куда глаза глядят и будет лечиться расстоянием. «А может, клин вышибается клином, а?» – думал Терехов и старался нарисовать лицо Илги.
Тоненько, откуда-то из-под земли запела труба.
Терехов встал, не торопясь завязал тесемки папок, уложил в сейф и вышел из конторы. Девчата остановились посредине улицы и слушали трубу. Терехов махнул им рукой: давайте, давайте, штукатурка вас ждет и голые стены, обитые дранкой. Сам он не спешил и шагал потихоньку, хотя заботиться о чистоте брюк и сапог уже не было смысла, только на склоне сопки вынужден был побыстрее шевелить ногами, а потом снова съезжать по глиняной дорожке. На свежем сейбинском берегу стояло вовсе не четверо ребят, а больше, и Терехов, рассердившись, хотел было отчитать их, но удержался и только буркнул Тумаркину:
– Нельзя ли потише, тоже мне Армстронг…
– Вон, – показал пальцем Островский.
– Ага, – кивнул Терехов.
Людей на том берегу было уже больше, и они толклись около черной лодки, которую, видимо, приволок трактор, сталкивали ее в воду, сталкивали медленно и осторожно, опасаясь, как бы Сейба не прихватила ее и не утянула к Тубе, а потом и к Енисею. Где они откопали эту лодку, Терехов предположить не мог, неужели привезли из Кошурникова, или, может быть, в сухопутной Сосновке, оказалось, есть такая. Людей, которые возились с лодкой, Терехов не разглядел, но они были молодцы, и Терехов им порадовался.
– Где они ее откопали? – проворчал Терехов.
Лодка уже болталась на воде, и люди, стоявшие на берегу, чего-то ждали, говорили о чем-то или даже спорили, один из них все бегал от лодки к трактору с машинами, нервничал, не соглашался, наверное, с кем-то, а потом первым полез в лодку. За ним неуклюже, боясь оступиться, шагнули в лодку еще двое и уселись в ней, а четвертому люди на берегу помогли переступить борт, поддержали его, словно пьяного. Теперь лодку надо было толкать, но этого не делали, все о чем-то разговаривали и, судя по жестам, кричали, будто бы другое время для спора выбрать не могли. «Ну чего вы, – думал Терехов, – ну давайте, ну что вы тянете, ну решайтесь». Он уже волновался за людей, забравшихся в лодку, и мял пальцами сигарету и зажигалку крутил в кармане.
Черные крошечные люди навалились на лодку, ткнули ее в бешеную Сейбу. Черную щенку крутило несколько минут, и люди в ней все пытались переспорить шумящий поток, веслами бились, как будто стартовали в лодочных гонках на горной порожистой реке. Ребята вокруг Терехова уже шумели, спорили, гадали, умеют ли плавать те четверо и что будет с ними, если лодка перевернется, давали им советы, говорили, что каждый бы из них делал сейчас в лодке, и все получалось здорово, вот только те четверо не слышали их слов, а потому, наверное, и нервничали и толклись на одном месте. И все же лодка начала продвигаться, сначала этого нельзя было видеть, Терехов это почувствовал, лодка дергалась уже меньше, а потом стала чуть-чуть увеличиваться, и тумаркинская труба взревела от радости. «От дает! От дает!» – восторженно закричал кто-то по-солдатски. Терехов буркнул: «Не надо» – и Тумаркину и демобилизованному. Глядя на ковыряющуюся в волнах лодку, он вспомнил о своем намерении переплыть Сейбу, и ему стало смешно, но он понимал, что, если бы не эта лодка, он все же полез бы в Сейбу. Теперь ему было поспокойнее, он и курил неторопливо, но все еще волновался за четверых и испытывал к ним уважение. Он и догадаться не мог, кто сидит в лодке, но хотел бы знать это и еще хотел, чтобы среди четверых оказался Будков.
Сколько прошло времени, Терехов не знал, но, наверное, немало, лодка увеличилась, и теперь уже Терехов видел, что гребут двое, а другие двое сидят, вцепившись в борта лодки, и среди этих двоих не кто иной, как сам прораб Ермаков.
Терехов присвистнул и полез в карман за сигаретой.
Притихли на берегу, Ермакова узнали, и двух других узнали, то были сейбинские поварихи Катя и Тамара. Тамара покрепче и поздоровее, она и гребла на пару с незнакомым сосновским мужиком, видимо хозяином лодки. Значит, Ермаков был слаб, был болен, и никакого чуда не произошло, иначе, конечно, он бы двигал веслами. «Вот старик, вот чертов старик! – проворчал про себя Терехов. – Придумал еще…»
Лодку болтало уже недалеко от берега, и все же она рывками продвигалась, а сосновский мужик и повариха крякали согласно и словно этим звуком, а не веслами толкали лодку вперед. Сейбинские ребята в азарте полезли в воду и снова советы давали, но теперь советы их были пободрее и поехиднее, и адресовались они поварихам, Ермакова из почтения не трогали, а Терехов все стоял сзади, все курил, все молчал и злился.
И только когда черная лодка заплясала в мокрых кустах, Терехов рванулся вперед, и вода была его сапогам «по шею», а Терехов стоял теперь, упершись руками в борт лодки, и кричал на Ермакова. Поварихи молча вылезли из лодки, словно из комнаты ушли, чтобы неприятного разговора не слышать, и Терехов помог им, а Ермаков сделал неуверенное движение, вроде бы привстал, но Терехов осадил его взглядом, и Ермаков, смутившись, пробормотал:
– Молоко… в бидоне… для воротниковского пацана…
Ермаков протянул алюминиевый бидон единственному мальчишке, в метриках которого стояло: «Поселок Сейба»; каждое утро привозили из Сосновки парное молоко, не забыл об этом, старый черт, бидончик прихватил…
– Давай, – сказал Терехов хмуро, но он уже остывал, видел, что прораб спорить не будет, не станет требовать, чтобы его оставили на этом берегу.
– Сбежал, что ли? – грубовато спросил Терехов.
– Ну, сбежал, – хрипло сказал Ермаков. – Врачи, наверное, сейчас мечутся…
– Нам не веришь, – сказал Терехов и понял сразу, что сказал не то.
– Не веришь, не веришь, – заворчал Ермаков обиженно, – поварих вам привез, голодные бы сидели, по Сосновке за лодочником бегал, только один согласился, десять рублей за рейс…








