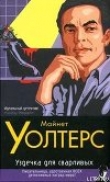Текст книги "Кедровый дух"
Автор книги: Владимир Ветров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 3 (всего у книги 3 страниц)
– Выборные накладывали. Что вы, как псы, стервеете! – пробовал окриком взять Степан.
– Выборные?!
– О-ох! – гневно охнуло по собранью.
– А хто их назначал? Ты?
– Василей ездил.
– Василей да он.
– Он выбирал их, глот!
"...Он их выбрал!.." – рявкнула тайга.
Но и в Стеннове поднялось все. Все человеческое и гордое поднялось против этого нелепого зверя, разинувшего клыковатую пасть:
– Молчать! Колчаковцы вы! Контр-революционеры! Для Советской власти десятину жалеете. Сто тридцать возьмут – еще 500 останется. И то жаль. Ну, Советская власть не така, – не отступит перед вашим брюхом.
– Ага! Брюха-а... а у вас – животы?
– Ишь орет, как урядник.
– Каки пятьсот? А пало сколь за зиму, за весну...
– Не щитат, живорез.
– Корма-те каки были?
– Товарищи... старики... к порядку. Господи! – лепетал побелевший председатель.
Но поселковцы уж закусили удила:
– Како право орать имешь? Кобель ты!
– Ишь чего расписыват!
– Не просили, да давали. А тут – на!
– Кака Совецка влась? Чо он облыживат? Камуния этта.
– Зачем это наша-то влась с винтовками-те тебя, халуя такого, послала? – пропел из задних рядов Хряпов. – Вре-от он, старики.
– А сам-от чо не жретвашь? Псу под хвост, на гулянку этто вам!
– Ты гуляшь, а мы – жретвуй.
– Рабенка без куска оставляй.
"...Без куска... без куска... без куска..." – загремела тайга, и помутнелые от черной злобы глаза, и заскорузлые руки, судорожно скрючиваясь, полезли к агенту Стеннову.
А тот, волнуясь и не попадая, отстегивал кобур. Но когда увидали эти его жесты, еще больше завыло собранье. Жажда крови закипела и поднялась до краев. А тайга тут – машет над ними и красным в глаза дразнит.
Больше всех орал Семен, и Стеннов, – уже бледный и отрезвевший, крикнул:
– А-а... ты народ мутить. Арестуйте-ка этого коновода, товарищи!
Милиционеры было-потянулись к Семену. Но поздно уже было. Прорвало, как плотину, и понесло. Закружились головы, потные, со слипшимися волосами, ругань и желтая пена с оскаленных губ. Раз только и стрелил Стеннов из нагана и повалил Фильку (бедного Фильку!). Раз только и успел крикнуть, прощаясь с жизнью... А там – чуть не на части разорвали Стеннова, и лицо – в кровавый, плоский блин.
Тяжело, наступая друг другу на ноги и на руки, били и топтали тело...
А милиционеры в гуще никого и не задели и винтовок не подняли, а покорно бросили их на пол. Избитых и истерзанных, их свели в пустой амбар, заперли и стражу приставили.
Ночью то, что осталось от кипучего человека, верного революционера Степана Стеннова, стащили за Баксу и там бросили в окна, в топь. Хлюпнула топь со вкусом и равнодушно затихла. Только один, пригнутый стебелек стал потом медленно, с отрывами, выпрямляться...
Но темный страх и оторопь засели с той поры в деревне.
А тут еще техник Иванов, который в тот день с молодняком одним был на болотах, жару подбрасывает, кровью исходя за них, за их темную, как темная ночь в бору, душу.
– Эх, старики, старики. Что вы наделали? Ну – тяжело вам, – послали бы человека от себя в губернию. Выяснили бы. А вы – что? Человека неповинного убили. Как звери – убили.
– Пес – он, а не человек, – храбрились поселковые. – Туда и дорога.
– Кто бы он ни был – но только, как слуга от настоящей власти, от революции послан был.
В отрезвелые на миг сердца – широкие и емкие – от этих душевных, острых слов вползали и гнездились еще большее беспокойство и неуверенность и ужас, колючий, как еж.
Насупился буйный лес – туго обдумывает.
А рыжий, как охра, лавочник Хряпов бегает из избы в избу, сдабривает сельчан, запугивает их и обнадеживает:
– Слышьте. Вы этому технику веры не давайте... День миновал, второй никто из милиции не едет. Должно – самозванца мы спровадили.
А в другом месте нашептывает:
– Не едут голуби. Не до того им, слышь. Народ, замечай, поднялси. И живорезы лыжи навастривают. Верный человек мне сказывал. Свою бы им шкуру спасти – не токмо што. Так-то, други...
И на деревне то-и-се стали появляться какие-то "верные" люди, шептаться с Рублевым и Хряповым. Все чего-то нюхали они, чего-то гоняли вершники какие-то изредка – в сумерки и под рассвет.
А милиция, действительно, как в омут канула. Двое же (агентских) сидели, как зайцы, и участи ждали, питаясь – кто что бросит.
Ячейковцы, не выходя, сидели по домам.
– Не дыхають! – злорадствовал Хряпов.
6.
Старшего техника – за производителя работ который – не было: дня за четыре перед тем уехал в губернию.
За отъездом старшего руководство легло на Иванова.
По омутным из-сера водам широкогрудой Оби – по протокам; по бородатым борам и нарядницам-сограм; по малым речкам-притокам, как рыба, идущая для метания икры в верховья, – шли злобные, воровские слухи. Раскачивали столетние кряжи, ломали-рубили кусты и хворост мельчили; мяли поясные травы в лугах и тропы протаптывали к водопоям; а вечерами костры пылали и над деревнями вскипали облака – смутные и кровавые.
– Эй, мир хресьянской!.. На выручку поспешай!.. Вырывай закопанные-те винтовки. Вилы на копья оборачивай. Не дадим-са-а-а!..
Мужики сиднями засели в деревне, и даже Король свою косьбу бросил. Копошились по двору, кучками сходились, толковали и так и сяк о каких-то глухих событиях, особливо по вечерам. И если кто приближался из техников – куда там из ячейки! – стихали и хитро заводили речь про рыбу, про покос, а исподлобья поблескивали:
– Чо слоняешь... шпиен?
Выехать возможности не было, – имущество изыскательское на шесть подвод не уместишь: инструменты, планы, провиант на три месяца на пять человек. А тут и одной подводы не достанешь. Председатель валил на мужиков – не могу, дескать, сейчас – не властен. А те чесали в затылках и тянули:
– Никак нельзя, Федор Палыч, в эко время от дому отлучаться. Хто яво знат. Вишь ты – дело-то како.
Настаивать, предъявлять свои права на прогон – нечего было и думать: не помиловали бы.
Тайга потчевала:
"...Пе-ей до-дна, гостенек дорогой"...
Но Иванов просто долг думал выполнить. Уезжать ему вовсе не хотелось, страха перед чем-то неясным надвигающимся он не испытывал и жалел этих, таежных, которые сбились с пути и перли теперь целиной – куда вывезет.
На работы Иванову ходить не приходилось – не с кем было. И делал он только полегоньку накладку планов и профилей. Держал себя – в стороне как будто стоял. А, главное, бродил по бурным, грозовитым местам, как охмелелый, и пил в кедровнике каждый вечер – не отрываясь – из свежего берестового жбана оглушающую брагу.
"... Пей, сынок, пей"...
Вечером, когда все стихает, на опушку кедровника (там, где начинаются таловые и смородиновые кусты и – среди них – высокие травы с крупными белыми и фиолетовыми цветами-початками) – приходила Варя. В первый раз после покосного пришла она бледная с тенью в подглазицах и боязливой тревогой в глазах, вымытых пугливыми девичьими думами:
"Улестил, может, токо. Пришел вот, как бурый, разгреб лапой и мед поел. А теперь, поди, смеется: эка – дура девка... Ребятам, может, хвастает – вот де я каков, и Варвара не устояла".
И шла она по тропе, не озираясь, будто за делом каким, сдвинув брови. И увидев его сбоку у кедровины – похолодела, и ноги к земле пристыли...
А он вышел и головой к груди ее, как в смородиновый куст, припал и в самую гущу зарослей повел.
– Люба ли я тебе взаправду? Али так токо путаешься?
Откинулся Иванов:
– Варенька! Как скажу? Вросла ты в мое сердце цепкими корнями. Ношу я тебя в нем день и ночь, а ты туманишь меня запахом вешним, черемуховым... Качаюсь я, как пьяный хожу. Крепче вина ты: от одной думы о тебе голова кружится.
– Хвастаешь ты, Федя. Ну, чо я! Девка простая, необразованная...
– Ах, Варя. Духом бы тебя единым выпить всю!.. И то уж допился я. Все вот мне чудится: тайга – не тайга уж, а хозяйка, старая, добрая и запасливая... Для нас с тобой добрая. А ты будто дочь ее и всеми дарами одарена и цветами засыпана...
– Ну уж ты... говоришь, как книжку читашь. Слушать тебя, што в багульнике лежать...
А Иванов целовал ее в глубокие глаза, как росную траву, и зарумяненные щеки ее, и ноги, окропленные росой, и губы – трепещущие, волглые и горячие...
– Феденька, мучишь ты меня... не могу я...
– Как чаша ты – налитая до краев. И плещешь словом каждым и вздохом через край. Зарыться в тебя, как в кусты, в траву, которая – растет как – слышно! Силой от тебя пахнет и чистотой, какая была допрежь еще и только в тайге осталась.
Таяла она, как мед, от его речей и вся отворялась:
– Люби меня, ненаглядный... цалуй меня...
"...Настали времена, и сроки исполнились. Пирую я свадьбы-детей. Любитесь, ребятушки, так, чтобы земля стонала, и вспыхивали цветы. Так, чтобы слово ласковое смолой янтарной прожигало землю. Так, чтобы яростна ваша радость была, как огонь в горну, а студеное горе – колодезной водой, – в них закаливается ратное сердце. Пусть ударяются губы о губы так, чтобы кровь звонко брызгала в них: крепко взрастает все, политое кровью. Крепко цепляйтесь за землю и пойте песни весени, приходящей каждый год"...
Ночи были сумеречно-светлые.
Однажды, – когда он расстался с девушкой и подождал, пока стукнет за ней калитка, и потом шел по задам, – три тени, прытких, отделились от прясла и преградили ему дорогу.
Шел Иванов, неся в себе переливающуюся радость свиданья и победный крик соленых на губах поцелуев.
В одной фигуре он признал Семена с толстой палкой-корняком, а в двух других – некрутье. Подходя, он видел, как блестели глаза и подергивалось лицо у Семена...
– Ну, што, сволочь. Девок наших портить зачал?
– Вы, ребята, я вижу не с добром, – пробормотал Иванов, ища вокруг чего для обороны.
– Бей его!.. мать-перемать... – взвизгнул Семен, и тяжелая суковатая палка зашибла со-скользом руку Иванову.
А тайга загоготала:
"... Эгей...го-о!.."
– А-а... – как от ожога скривился Иванов. – Так вы вот как?
"...Так вот... так вот..." – торжествующе зашелестели заросли.
"...Эгей... го-о!" – выкатилось обратно из-за Баксы.
Кинулся Иванов на Семена – там уж налетают остальные двое. Нет в руках ничего у Иванова.
Горячее что-то потекло по лбу...
Если чего-то не сделает – скоро он свалится.
Бросился в глаза кустик березовый – так в аршин, – схватился обеими руками за него. Рванул. Взлетела кверху березка совсем с накоренной землей, осыпалась.
А Семен озлился пуще. Сызнова со свистом взнеслась палка, но опуститься не успела: поднырнул Иванов и тушей тяжкой насел, подмял Семена и сразмаху ткнул кулаком в зубы.
Палка-корняк, шишковатая, уже в руках у техника. Вскочил, размахивает и сам наступает. Звизданул новобранца по башке – завизжал тот.
Не выдержали оба и побежали.
Вынул кисет Иванов и погрозил в спины:
– Я вас, сволочи, перестреляю вдругорядь... псы!
"...Вдругорядь – цыть!" – перешли враз на сторону техника кусты.
Левую руку и лоб здорово саднило, а спина ныла в нескольких местах (помолотили ее!), но внутри Иванова гремел веселый смех и ликованье.
А палку взял с собой – память.
На утро по деревне все разузнали. Семка и двое призванных исчезли из поселка, разъяснив домашним, что техник мстить будет. Они уйдут на время. Куда – их дело.
– Варьку Королеву с техником застали.
Однако, когда о ночном происшествии спросили техника Иванова и о том, почему у него покарябаны лоб и рука – он со смехом рассказал:
– Вышел ночью до-ветру и спросонья с крыльца свалился. Руку ссадил и лбом кокнулся.
Никто этой басне не поверил, но желанье скрыть историю молчаливо одобрили.
Днем к дяде Михайлу, где жил техник Иванов, зашла Варя. Оглядывается, взволнованная. Заделье нашла:
– К хресному на выселок собралась. Дочери, поди, есь чо передать, Прасковья Егоровна.
А сама выискивает глазами. Кого?
Слышала, как в летняке*1 зашагал и вышел на крыльцо, а потом проплыл под окнами в улицу Иванов с повязанной головой.
А Прасковья Егоровна зашептала:
– Ну, девка, цапаться из-за тя зачали. Лешая.
– Срам-от какой, тетенька, Прасковья Егоровна. Шибко повредили техника-то?
– Нну-у. Чо ему сделатся, медведю? Царапины на ем. А Семену-то, сказывают, он полрта вынес.
– И чо этто пристал ко мне Семен этот? Проклятый! Шишига бы его в тайге-то задрала.
– А промежду вами ничо эдакова не было с эттим-то?
Варя до слез скраснела и – пробормотав:
– Штой-то вы, тетенька... – поспешила распрощаться.
– Скажи Степаниде-то: холсты-те, мол, готовы. Пущай придет, возьмет! – крикнула хозяйка уж вслед Варваре.
В кедровнике на тропе встретил ее Иванов. Он обошел кругом избы, перебросился через прясла и задами вышел.
– Феденька! Что они, зимогоры, с тобой сделали?
– Да ничего, Варюшка. Ей-ей, ничего: оцарапали только свистуны...
– Тяжко мне будет жить на деревне... – вздохнула, отворачиваясь, Варя. – Прославят меня теперь.
– Да – ну их к чорту. Пусть славят. В город я тебя увезу. Люба моя... Варенька... жена моя...
– Не про то я. И не надо мне эттого. Бросишь, ай еще чего – затяжелею, – сама и взрощу, и выкормлю. Смотри-ка, руки-то какие. Как корни во все вцепятся. Ну, только любил бы ты меня. Ласки охота мне. Не на издевки, дескать, я себя бросила. А взял потому, что мила была... _______________
*1 Летняк – пристройка к избе, неотапливаемая.
7.
Тоя кипела изнутри. Но пуще всего проглядывала наивная хозяйственная дума.
– Э-эх! До страды бы управиться с эттим.
А Петров день – вот он.
Накануне – воскресенье было – все затихло, о пакете только каком-то (который вершник, промчавшийся ночью, завез) дядя Михайло шопотом два слова технику обронил. На вопрос о содержании пакета отрезал:
– Большевицкой, должно.
Повстанческий или от властей – не мог допытаться Иванов. Михайло сам больше ничего не знал.
Мирно по виду полегла спать Тоя, понижая голоса до молитвенных шопотков в углах, как в ночь, окрыляемую вспышками дальних молний. Игр воскресных никаких не было. Варя до заката ушла к крестному в заболотье, и техник, провожавший ее за Баксу, рано лег спать, осиянный и пропитанный весь долгим расставаньем в лесу...
Спал он крепко и комаров, набившихся в летняк и жучивших его, не слышал...
Вдруг – надоедливо засвиристел в его ушах встревоженный шопот. Отдых был короток – тело не верило, что надо вставать... С усильем открыл глаза Иванов...
Прасковья Егоровна трясла за плечо и шипела:
– Федор Палыч... А, Федор Палыч. Беда у нас... эти... отряды наехали... с орудьями...
Вскочил Иванов, в низиках подбежал к окошку.
В предутреннем холодном и молочном тумане мельтешили люди. Больше всего скакали вершники, иногда с болтавшимся за плечами ружьем.
– Чо буот-то... чо буот? – боязливо вытягивала в трубку рот растерявшаяся Прасковья Егоровна. – Михайло-то на двор убег глядеть. О-ох! сокрушат нашу деревнюшку.
Иванов – не решая, что будет делать дальше – начал все-таки одеваться. Потом позапрятал в разные щели и под отъехавшую половицу бинокли и планы местности.
Вышел в хозяйскую половину.
– Всее, как есь, деревню запрудили. Несметно мужиков-то... и Семка с ими – охала баба.
Последние слова как дернули Иванова и заставили его подтянуться. Мысль лихорадочно заработала, и по коже и кнутри побежали острые колючки, предвещавшие близкую опасность.
– Ты вот что, Прасковья Егоровна: чаем меня напой-ка пока.
– Давно готов самовар-от. И сала принесу – пожуешь маленько. Хто е знат. Как дале-то. Чо буот, чо буот?
И Иванов – как перед дорогой – основательно набузонился.
Солнце с красными веками и глазами выползло из-за согр. Заскрипело крыльцо. Властно зашаркали ноги.
– Идут...
И вместе с дядей Михайлом вошел человек с винтовкой. Кинул Иванову:
– Собирайся. В штаб тебя требуют.
По улице – человек с сотню, а то и больше – на конях. Кто с дробовиком, кто с топором, кто с вилами, у коих выломаны крайние зубья. Редкие с винтовками и шашками. Летают и орут:
– Долой камунистов!
– Да здрастват Совецка власть!
В окошках – выпученные глаза и серые лица баб и сплюснутые стеклами носы ребятишек.
А в штабе сидят два брата кожзаводчика из села в 60-ти верстах от Тои – в рубахах, но важные и один в пиджаке – писарь, должно быть. Штаб в дому у Рублева. И Семен тут же подсевает. А губы у него в болячках, и немного присвистывает.
На столе – мясо жареное кусками в тарелках и самосядка мутная в графине и по столу в лужицах.
Штабные впились в вошедшего.
– Вот. Привел, – сказал мужик с винтовкой и опустился на скамью у двери. – Ну-ко... закурить дай-ка.
– Как фамилия? – спросил в пиджаке и, подумав, добавил. – Ваша?
– Иванов.
– Откуда? Какое в Томске настроение масс? Что вы тут делаете? А изыскания-то эти кому пользу дадут? Коммунистам?
– Населению, конечно, вообще. Какая бы власть ни была. Просушатся болота – удобная земля получится.
– Коммунист?.. Вы-то партийный?
– Нет.
– Как же начальством служите?
– Как специалист.
– Врет он, господа-товарищи, – вмешался Семен. – Он тут всех заверял: восстание, грит, от кулаков токо может поттить. Не вступайте, грит.
– Тэ-эк. Постой-ка... Жалашь нам послужить? – подвинулся к технику кожзаводчик Гаврила Сапожков. – Нам, то-ись народу. В армею нашу встать?
– Народу я и так служу... А в армию вашу пойти не могу.
– Почему этта? Ну?
– Не могу, граждане, народ обманывать.
– Омманывать?! – удивился смелости техника Гаврила. – Стало мы, по-твоему, народ омманывам? А-а?
– Да вот вы, к примеру, за Советскую власть идете и против коммунистов. Несуразно...
– Э-э... сволочь, – оборвал Сапожков. – Ты, я вижу, в одну дудку с имя дудишь.
Он зарычал было и сжал кулаки, но Иванов слишком прямо и светло смотрел ему в глаза.
– Уведите в сарай эттого... к протчим...
Повел Иванова тот же с винтовкой, и Семен за ними вышел. А в сенцах развернулся и с размаху по скуле и глазу хватил техника. Глаз мигом побагровел и запух.
Взревел диким зверем Иванов, чует, что не будет ему пощады, что вот сейчас кончать его будут. И одна только режущая животная сила задвигала его мозгом, его мускулами: бороться, до конца бороться. Зубами рвать до последнего вздоха.
Обернулся с ревом и мигом сгребся за ствол и приклад изо всей силы рванул к себе. Лопнул ремень у антабки, и винтовка со свистом взлетела над Ивановым.
Одно мгновение это было.
Вместе с Семеном, обхватившим, как клещами, техника сзаду у пояса, соскользнул он по трем ступеням за порог во двор и тут тяжелым вихрем-вьюном завертелся. Не мог удержаться на нем Семен, проехался носками и коленками по земле и руки опустил, а в следующий момент череп его разлетелся от удара прикладом – остервенел Иванов.
С распухшим сизым глазом, со сшибленной на бок повязкой на лбу и в разорванной на пласты гимнастерке, плечистый и мычащий – был он страшен.
Кругом уже: из избы, с улицы, от ворот орали и сбегались мужики, и сопровождающий козлом прыгал около. От сарая, где караульный стоял, грохнул выстрел, и пуля ожгла-пробила плечо Иванову.
Толкнуло его. Сверлящий и сверкающий инстинкт подсказывал ему: вот как, вот как...
Может быть!
Кинулся он в задний двор, в калитку.
На огороды... через прясла-горотьбу... через речку Тою в вытоптанные скотом кусты, где не различить следов... И в ту сторону, откуда не ждут нападения бандиты, и посты не выставлены – в тайгу.
Колотящийся в теле ужас – быть растоптанным озверелой толпой – надбавлял силы и бегу. Как ветер свистевший, тут же рядом с ним несся Иванов саженными прыжками по воде. Сзади грохали, улюлюкали, топотали. Несколько дробинок на излете ущипнули ему спину.
Ага! Стихает барабанная дробь ног. Далеко, будто сзади крики...
Шагах в ста за речкой Тоей оглянулся Иванов.
Только один тоинский новобранец и тот, у которого он отнял винтовку, выбрались за ним на берег, подымаются. А вся толпа на том берегу осталась и разноголосит:
– Вали! Вали!
– Бросай, робя! Куды он денется?
– Сдохнет в тайге-то.
– Сам выйдет.
– А винтовка-то, винтовка-то с ем.
– Винтовку-то упер... ну-у!
– Ничо... с раной. Куды удет?
Многие уже ворочались улицей в деревню...
Приложился он и выстрелил. Мужичонка всплеснул руками и упал обратно навзничь в реку. А новобранец сразу прилип к земле и пополз, как змея, по обрыву назад.
Но задерживаться некогда было. Вершники могли еще нагнать, и надо было бежать и бежать и путать следы. Поэтому, скрывшись в одном направлении – видном всем – в согры, там он круто повернул вправо и почти опушкой краснолесья, выбирая бестравные плешины, понесся к Баксе.
По ней прошел вверх с версту, обходя камыши и осоку и увязая в илу.
Полный покой и молчание. Никого не слышно.
Ни звука человеческого.
Одни комары и пауты гудят и ослепляют.
Вышел Иванов на берег, ударился немного в таежную чащу и перевел дух – упал.
Плечо пробитое жгло и болело; теперь он это ощущал так, что порой зубы стискивал – стреляло по руке и к шее.
Что же делать дальше?
Положение было безнадежное: Куда итти? Когда это кончится? Сколько дней блудить ему по чаще?
А рану его может разбарабанить, и сдохнет он тут в тайге, изъеденный гнусом, а то, может, еще на зверя напорется.
Платок со лба он снял. К чему? – весь и так разрисованный теперь. Подвязался им по-бабьи: все меньше есть будет проклятый овод.
Пить!
Спустился опять к Баксе и долго и жадно пил в пустых зарослях, а после того в тайге лег в высокой траве и предался раздумью. Первое чувство радости от минования смертельной опасности и ощущения свободы потемнело...
Винтовку он осмотрел: "N-ского завода N 71203" и в магазинной коробке еще четыре патрона.
Хорошо! Пригодилось-таки колчаковское обученье, когда интеллигенцию в войска забирали.
Теперь: итти!
Итти надо к жилью – так или иначе. И непременно глушью, – не по дороге, не то изловят – не помилуют уж.
Итти туда – где бы хоть немного знали. А то как куренка прирежут: коммунист-де или выдадут.
Одно такое место есть и довольно близкое – заплутаться трудно: выселок Заболотье.
Шесть верст по чаще, по трясинам... Но там и перевязку хоть какую сделают у Вариного крестного и не донесут.
Тряхнул Иванов головой, поднялся-покривился от боли в плече и двинулся осторожно, стараясь не хрустеть, не шуметь, в лесную гущу да мокрые заросли на топь, что между Баксой и выселком.
А солнце уж прямо бьет.
8.
Целый день гоняли взад-вперед по деревне вершники. Была объявлена всеобщая мобилизация, и председатель Сельсовета в пене и мыле бегал от штаба по избам и обратно, собирал ратных и хлеб, и мяса на варево банде, и наряжал косить траву лошадям.
Отказаться и думать нельзя было: до 45 лет все – не калеки – должны были садиться на-конь и двигаться с бандой сначала на поселок Чигин, а потом и на волость Елгай.
С теми, которых засадили в сарай, – два милиционера, четверо из ячейки и двое техников – было покончено. Милиционеров и ячейковцев били каждого долго нестерпимо мужицким боем. Исколотые вилами, разбитые ружейными прикладами, растоптанные сапогами – они представляли из себя огромные смятые битки, мясо, перемешанное с лоскутьями лопатины*1, особенно Василий-партийный – около него постарались Хряпов и Рублев. ________________
*1 Лопатина – одежда.
Бабам убитых тоже досталось: Рублихой и Хряпихой они были исцарапаны в ручьи, и платье на них висело клочьями.
Вот-то хохотали мужики!
Одного техника зарубили топором, а другого, Кольку Круткина, тоже искровянили, – но он выползал на коленях пощаду и ехал теперь вместе с прочим диким ополчением в наступление.
За Ивановым порыскали вершники, порыскали и плюнули: все равно – либо сдохнет, либо им в руки выйдет. Тайга ведь – не что-нибудь.
Разведка по дорогам вперед проехала, понюхала, донесла:
– Неприятелев слыху нет.
После того Гаврила-кожзаводчик на вороном – а тот ржет, урусит слегка – речь держал:
– Граждане-товаришшы! Которы ждали большевиков... Хто пришел? Халиганы... Тпру-у, ты – чорт! Грабители. Бога ругают и дела нарушают. Все идем противу их! Весь народ поднялси. Чо делают с народом – хозяйство рушат. У меня добро отняли, у еттого отобрали, у того разорили. Дочиста обирают... Эка ты... стой!.. Ну, не стерпела земля надругания – повсеместно, кто с чем попало, противу грабителев идет. Чо дают – от богатых отбирают – ничо. Али и дают – кому? Подзаборникам, зимогорам – в провал. Камуна! Она – кому-то – на! выходит, а кому – нет! Сулят все токо – омманщики. Потому сами мы должны в свое мозолистые руки власть взять... Э-э, ты, – дура!.. Граждане товаришшы! Не устоят шалаберники перед миром хресьянским. Не дадимса-а-а! Едем бить камунистов! Бей их – живоглотов! Да здрастват Совецка власть! Ура-а-а!
– Урра-а-а!
– Бей их! Будя!
– Бе-ей! Ура-а! – перекатилось, заклокотало по пестрой толпе, нестройно, однако, и несогласно.
С площади перед школой галдящая армия кричит, ржет, шумит, спорит, бабы тут же причитают-всхлипывают. Солнце уж к западу поглядывало, – повалила на Чигин.
Впереди на вороных игрунах – братья, кожзаводчики Сапожковы, с наганами у поясов; за ними писарь в пиджаке на худой, уназменной, сивой кобыле; а там взводы ополченцев.
Набор каждой деревни составлял отдельный взвод: павловцы, воробьевские, гнилоярцы, боровинские... Тоинскими командовал Рублев, который тоже откуда-то выкопал две винтовки и ящик с патронами, живо по запазухам рассовали тысячу.
Всего бандитов было до двухсот. Близ ста, сказывал Гаврила, должны были присоединиться от поскотины – с охраны сняться. Вооруженных винтовками – человек двадцать. У остальных: вилы, топоры, колья, а то и проземленные пятерни одни. Все на-вершнях: без седел – на пестриках*1, азямах, чапанах и полушубках.
– Разобьем камуницкай отряд-от, – все будет! – обнадеживал сподвижников Гаврила Сапожков.
Но мужики (большая, пожалуй, часть) – хоть и зевали: бей! – ехали, опустив голову, а нутро дрожало, как холодное.
Дядя Михайло из годов вышел – дома остался. Поглядел вслед, головой покрутил:
– Ничо не выйдет у их. Одно – што в землю произведут их. Сомустили народ-от здря кулачье: видать теперь, хто таки. И техника-то, Федор Палыча, извели. О-хо-хо! – душевнай человек был...
А баба его, подпирая черной сморщенной рукой подбородок, как больным зубом мучась, – раскачивалась:
– Народу сколь унистожили, о, господи... Чо буот? Чо буот?
Томительно и жутко было ждать оставшимся в деревне событий? а они уж быстро и четко отбивали: раз-два, раз-два!
Было все так. В Колывани бывшие офицеры, заключенные в концентрационный лагерь, ночью перебили стражу и власть в городе захватили. Два дня держались, порядки свои наводили, – но на третий накрыли их подошедшие революционные части, и восстание было подавлено.
Отголоски его, однако, прокатились по окружным волостям. Кулаки воспользовались этим.
Велики сибирские пространства, и широко разбросаны поселки. Пока-то милицейский район в Воронове стягивал свои силы и помаленьку двигался. Тут рассеется, – там, глядишь, опять. _______________
*1 Пестрик – домотканный коврик.
Но не успела пестрая и гулкая толпа допереть до речки Кочегай, откуда оставалось версты три до Чигина, – как вдруг из-за речки с правого берега отчетливо прозвучало:
– Пли! – и вслед за этим громовый залп.
Два-три человека свалились с лошадей.
Неожиданная, суровая действительность глянула прямо в глаза пьяным своими криками и жарким днем мужикам. Сразу подрубила все постромки.
Безумный ужас обуял банду. Вздыбились лошади. Рев, неукротимый вопль вырвался и понесся в леса. Давя друг друга, бросились врассыпную люди назад – по дороге, вправо, влево, в кусты... А из-за Кочегая уже трещали одиночные крепкие взгрохи, и тонкие, меткие пули сверлили душный воздух.
Сапожков Гаврила что-то орал, махал наганом, пытался остановить сподвижников, но и сам мчался за ними, раненый в ногу.
Шайка рассеялась вмиг. Пешая милиция, числом около семидесяти человек, сначала бегом, а потом шагом пустилась вслед, в Тою.
Тоинские, кроме Хряпова и Рублева, прискакали домой, бросили лошадей на руки бабам и попрятались по сеновалам, в бурьянах таежных, а кто и на поля угнал.
Деревня, – как вымерла.
–
Левое плечо Иванова горело и ныло и больно уже было не только им шевелить, но и самому шевелиться.
Солнце давно уж покатилось под гору, и духотная жарынь висла в лесу. Овод жужжал над ним и ел его, как на пиру. Усталый – он плохо оборонялся. Паутины слепили глаза, вязали веки и слепляли пальцы.
Несколько раз он сбивался с пути и возвращался обратно. Винтовка нестерпимо оттягивала плечо и грудь ломило. Несчетно раз он выходил к Баксе и мочил пересохшее горло и треснутые губы.
Наконец решил он итти по Баксе, берегом, не показываясь на реку до самой тропки на Заболотье. С час, как издалека слышались частые горошистые выстрелы, но потом все смолкло, а помутившейся головой, в которой как гарь стояла, Иванов, конечно, не мог представить в чем дело.
После того обочиной тропы шел он долго, заплетаясь ногами спотыкаясь, хлюпая в мочежинах, путаясь в зарослях, подпираясь винтовкой, и, – наконец, – упал боком меж кочек в сограх в ржавую воду...
Обросшие лишаями и зеленой щетью, лапы шумно раздвинули листву. Он еще увидел в ней: широкоскулое, прорезанное морщинами, как плугом, лицо с выпуклыми, обтянутыми клочковатой шерстью и зеленым мхом, надбровными дугами, черную усмешку, завязшую в желтых клыках, – и услышал хриплый шопот:
– ...Ну и назюзюкался ты, гостенек дорогой... Сынок названный...
– Тайга!..
–
Перед заходом солнца он был подобран милицейской разведкой. С раздутым плечом, с руками и лицом, которые были одной сплошной раной, разъеденной торжествующим гнусом.
Отрядный фельдшер промыл и перевязал раны, а с рассветом отправил Иванова в Вороновскую больницу. С ним выпросилась и Варя:
– Хушь довезу, тятенька... А потом уж косить...
– У, язви вас. Любвя тожа...