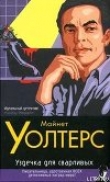Текст книги "Кедровый дух"
Автор книги: Владимир Ветров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 3 страниц)
Во бору сосеночка...
Ох! Не сполюбит ли меня
Кака-нибудь девченочка-а!..
Понесся его крик по таежной дреме, и сразу смолкло пенье за рекой, за пихтовой стеной. Но зато показалась по тропке на берег и сама Варя. В холщевой кофте и красной с белыми разводами-цветами юбке; коты тяжелые у нее в руках с ромашкой и пуговником-цветком, а ноги босые, и смотрит она к Иванову. А тот как ни в чем не бывало – будто не он – не видит, сидит, удит.
Раздумчиво остановилась Варя у жердей – не спроста. Потом пробуя за каждым разом, – горбом стоят жерди, хлипкие – перешла Баксу.
А итти ей мимо техника – не миновать.
– Здрастуй, Федор Палыч.
– Здраствуй, Варвара Дмитревна. В гости ходила? – смотрит он в нее, как в глубокую воду, а сам не может рта закрыть, улыбается. – Рыбу вот ужу.
– К хресному ходила... – утверждает она.
– Удишь, удишь – а ужинать чо будешь? – прыскает девушка вслед за тем, быстро минуя рыбака.
Но тонкое удилище просовывается по траве меж поспешных крутых ступней. Конец его с громким хрустом ломается, но и Варя кренится, пробует удержать равновесие, а тут Иванов подхватывает ее и, жарко прижимаясь, силком усаживает рядом.
– Ты смотри. Не на такую напал ведь... – задыхается Варя.
– А что? Мне вот одному скучно удить – ты и посиди рядом.
– Чо мне с тобой сидеть, леший? Пу-уусти. Ты ведь образованной.
– Это не проказа, поди-ка... Сто-ой – ишь ты! Ты, ведь, славная, Варенька: пожалей меня... Ну, сама подумай. Сижу я один да рыбу ужу. А мне охота чать поглядеть вот в такие ясные глаза и любиться охота. Кровь, как у всех – не рыбья.
– Ох, ты, язва, куды гнешь! Ай – да пусти... ну, пусти ли чо-ли! полусердито-полужалобно просит Варя. – Ты чо думашь?..
И, срываясь пальцами, пытается рознять цепкую руку от талии. Выворачивается, как налим, всем телом, и красная с цветами юбка заголяется, обнажая стройное, сильное колено с чуть темной чашечкой. Как тайну!
Но где же!
– Ты чо же это, язви-те, – блещет она испуганно серыми глазами, сдвигая жгутовые брови. – Видал, как я Семку-то восет спровадила?
– Варя... родная... Ей-ей вот, ничего я не думаю... ничего не сделаю тебе. Попросту я... Пела вот ты сейчас про рябину, а сама ты – ярый черемуховый цвет... Белотал медовый... Вишь, ты какая... радостная... так и брызжет от тебя... Жалко тебе. Все равно в воздух уходит.
– Ох, ты, леший... ласый какой. Пусти, однако – некода мне.
– Праздник сегодня – куда спешить?
– С тобой вот сидеть! Пп-а-а-ра – кулик да гагара...
Давясь смехом, вывернулась все-таки она и, тяжело дыша, встала в двух шагах, – оправляясь, залитая вся темным румянцем. А Иванов откинулся на спину и закрыл глаза от солнца или чего другого.
Тысячи бы часов лежать так и чуять там за головой вешнее земное счастье!
– Варенька! – с закрытыми глазами медленно, как черемушник начал пригибаться он. – Ты только взгляни вокруг. Как земля разубрана, разукрашена. Небо – голубое, глубокое – опрокинуто. И Бакса течет-журчует по травяному дну – тихая, ласковая... Дышишь, как над брагой стоишь...
Тут он повернулся на живот и глянул на нее снизу вверх, а она лепестки теребила-обрывала, и видно было, по нраву ей стоять так и слушать.
– Давеча, как запела ты – брага эта запенилась вся... сразу... А вышла к мосткам – в сердце и в голову духом ударила мне.
– Ай, больно ты липуч на речи, леший. Подластиться хошь.
– Ничего я не хочу и ничего не думаю. А вникнуть – так и правда: от тебя радость-то вся густая... Пожалуй, что и у мостков-то то для тебя присел. Ждал – вот, мол, ты обратно в деревню пройдешь...
– Ишь, леший!..
– ...посмотреть хоть, пригубить хоть у ковша-то: ты, ведь, что ковшик золотой. Брага-то кругом, да как ее выпить? Гляжу, – а ты несешь ковшик-то.
– Темно и несуразно баешь ты, как спишь... – прошептала вдруг девушка, почему-то оглянувшись. – И ни к чему все это. Ты-то и в-сам-деле, может, спроста, а люди-то живо на что свернут?.. Ну тя...
Отступила несколько шагов, повернулась и быстро-неровно пошла к деревне.
Вы, березовые дрожки
Крашены, окованы.
Пристает ко мне, подружки,
Техник образованна-ай... насмешливо донеслось до Иванова уже из кедровника. А он лежал и – верно что – ни о чем не думал, чуя только: мерцает темная кровь, и сердце вытягивается в звонкую, тонкую струну за уходящей девушкой...
–
Целый день он после того из окна видит, как она сидит с пестро-разряженными девками на бревнах против школы. Девки, как белки, грызут кедровые, каленые орехи. Немного поодаль ломятся парни в черных пиджаках, яростно-цветных рубахах и в густо смазанных дегтем сапогах. Болезненный, бледный парень-гармонист без перерыву оглашает деревню переливчатой таежной частушкой.
Парни отдельно – девки отдельно: согласно этикета. Один Семен его частенько не выдерживает, зубатит с девками, балует: скорлупу ореховую за шиворот спустит, либо платок расписной с головы сорвет и подвяжет старый пенек на поляне.
Хохот и гуд толкаются по ней. Больше всего льнет Семен к Варваре Королевой, будто невзначай – с намереньем – на коленки к ней садится и мгновенно слетает оттуда под общий визг и смех девок.
Самостоятельно держатся от прочих и три новобранца – они "гуляют".
Выходит и Иванов на поляну и подсаживается к гурьбе мужиков, беседующих чинно, степенно и вразумительно.
Одна и та же тягучая, темная, как сусло, тема:
– Оно бы, собственно ничаво... и мы к тому подписуемся, значит, под Совецкую влась. Крови сколь за ее пролили. Противу белой банды стражались. Ну, а как теперь – камунисты – это не для хресьян.
– Верно это ты, Егор Проклыч. Взять хушь бы: опять вот агент наежжал, в Сельсовет наказывал. "Товариш, грит, председатель. Распублика, грит, в разрухе погрязла – помогти надо". А я яму: разумется, говорю. Горя, тольки вот, необнаковенныи народу были. Обядняли. "Мда-а, грит, это мы смекаем. Ну, а промежду прочим, с вас, грит, доводится вот эстолько яиц, масла, шерсти". А рази столь есь курей, штоб эстолько высносили.
– А шерсь-то: сам вот в одних варегах зиму промотался, а им выложи за здорово живешь. А теперь и овца-то не та...
– Мда-а. С ей боле как двух хвунтов не сострижешь. А он себе в книжечку смотрит. "Вот, грит, у вас сколько овец, и с каждой овцы, грит, по хвунту". А на кой ее ляд ростить-то тады, овцу-то, – ныл председатель Сельсовета. Ни рыба, ни мясо – мужик. Выбрали его так, что таскаться никому неохота было.
– А мясо-то: сами хозява заколоть не смей. Вот они времена-те.
– Они тте сровняют, – запел опять Рублев, – чисто буот, хушь де. Город-от всем нашинским лакомствуется, а мы, значит, на хвунту. Па-ма-гчи надо. Шалыганы.
– А чо, язви их. Не помогали мы, как зашли те, красные? Близ тыщи пудов хлеба собрали, внесли.
– Чо говорить! Ты приедь, расскажи толком. Может, последнюю рубаху сымем... Атто – на! С тебя, грит, столько-то пудов, а тебе – адин хвунт. Куды? Зачем? Про что? – не моги! Так глазами и сверлить.
– Идееты вы, – не выдержал Василий, давно уж у него губа дрожала. Брюхами-то отяжелели. Ими и добро-то покрываете. Жисти не жалели, а теперь какой малой доли жаль. Кому? Свому правительству. Тут всем нужно жретвовать, потому сами себя на копытки ставим.
– Знам, милый, знам. Ты нас не учи, а сопли допрежь подотри. Тебе-то чо жалеть. Окромя, как на себе – ни шиша. Кабы владал – не то пел ба.
– Не мене тя роблю. Токо што народ не обдувал. Ничо, мы и про тебя осведомлены: знам, где ты кладь-ту притиснул. Вывезем, друг.
– Во, во. К этому вы сызмала, мать вашу... Слышь-те, чо отваливат. Разбойник.
– Мда-а. Белы грабили и этти... Э-эх, мужик – што куст таловый...
– Ничо-о. Дай срок – подавятся, – протянул Хряпов. – Кровушкой поплатят.
– Дыть доведут. Все, грит, бует у опчества... Опчесвенное..: и хлеб. Ну, сколь не сдаем – нет у нас в амбаре опчесвенном ни зернушка. А надысь Петр Михалыч...
– Который этта?
– Павловскай... Купил пять пудов у свояка. Дык чо ты думашь – загребли и муку, и яво. Он взвыл: товаришшы! Как же мне без хлеба теперь и без сресвов?.. – ть у меня семьиша.
– Мда-а... сам-девят.
– То-то и есь. А в волосте яму: пыжжай, грит, в Вороново; там ссыпной пунк, – там те и выдадут. А тут неча спискуляцию организовывать. А Вороновска-то пристань, сами сведомы, старики, 75 верст!
– За пятью-то пудами. Ох-хо-хо! Вези, значит, свой хлеб туды, а потом оттедова получай. При-идумали.
– Зерно-то вот из-за эттого смешано ноне. А ведь земля-то, матушка, не везде однакое и однако принимат.
– Недолго эдак поцарствуют, – прошипел Хряпов. – Все развалють и народ воздымут. Восет был у меня один человек, так сказывал: Лубков*1, грит, противу их пошел уж и хресьян скликат.
– Спекулянт это был у тебя, Хряпов; знаю я его, – вдруг вмешался Иванов. – Из тюрьмы беглый. А насчет Лубкова – сомнительно. Мужик он башковатый и к Советам приверженный. _______________
*1 Лубков – известный по Сибири командир партизан при Колчаке, оперировал главным образом в районе Мариинского уезда.
– Нн-о, ты, Федор Палыч, известнай их защитник, – тишая, сверкнул исподлобья на техника Хряпов. – А наше дело чо? Гнут тя – сгибайся; ломают – хрусти да ни мыркай...
Так все разговоры протекали. Партийные тоинские почти что бессловесны. Когда приезжал кто из города либо волости, – они еще храбрились и светлели, а то ходили с озиркой и ночь спали с тревогой. Как грачи мартовские, загаркивали их противники.
День меркнет. Ближе подсаживается к деревне тайга – глухая и пытливая. Сумеречная тьма полонит сначала речку Тою и надвигается на замшенные черные с прозеленью избы. Но вверху изжелта-светло, и над тайгой повязкой на лбу – малиновая тесьма зари. Оконные стекла коробятся и переливаются жарким блеском.
Пастушата в материных кацавейках и отцовских шапках выгоняют скот на пасьбу. Мычанье, блеянье, ржанье и лай карабкаются друг по другу. А у школы пестрит толпа девушек и парней, сцепившись за руки.
Гори, гори ясно,
Чтобы не погасло...
"Некрутье" в обнимку бродят вдоль улицы, и итальянка выкрикивает:
Завари-ка, мамка, брагу
Серце рвет кручина-волк,
В Сельсовет пришла бумага:
Д-собирайся, Ваня, в полк.
Мужики расходятся по-маленьку ко дворам, и техник, Федор Палыч, выдвигается из сумерок и тихонько отталкивает парнишку лет 12:
– Дай-ка я встану, поголю.
В парах смех и перешептыванье: Варьке и Семену бежать. Технику и неловко как будто, но тело размяться просит, и весь он, как ястреб, нахохлился, ждет наброситься на разлетающиеся жертвы. Тут и другие техники ломятся и смеются.
Шурша, как летучие мыши, разбегаются парень и девушка, перед тем поменявшись местами. Что-то крича, бежит Варя, жесткие коты дробью скользят по земле, а техник – и не глядя в сторону Семена – который тут же петушится, – преследует девушку. И вот уж он играет с ней, загоняя в кедровник.
Тайга – вечерняя, морщинистая, старая – шаль-туман серую распахивает и укрывает, и пришепетывает над ними:
"...Нынче – как и летось по весне, как и десять, сто лет назад – горницы мои я зорями и потоками вешними вымыла, багульником и травой богородской выдушила и мягкие подстилки исподтишка выткала: много гостей я жду пиры-свадьбы пировать... Что же вы, гости мои, – не шибко веселитесь, не сладко радуетесь"...
Ежится сердце у Вари: хорошо от чего-то и жутко. Дятлом сердце в груди стучит – одна она. Кто – никто, Семен – все свой, деревенский, и отстал давно уж, а этот, городской, настигает.
А тайга, вечерняя, шепотит-хворостит:
"...Что же вы, гости мои, плохо подчуетесь? Всего я для вас припасла-призаготовила: наморила я, ребятушки, ржаного солоду красного, хмелю по чигинам-берегам вырастила, высушила, меду дуплового пахучего соты-пласты вынула... Пейте же брагу мою пенистую, душистую... Сотни, тысячи лет было так. Помню ли я, древняя, сколько лет было так"...
Опаляя, дышит таежная смуть в лицо и ловится за руки и ноги цепко. Мимобегом сорвала Варя вицу, запыхалась, остановилась, обернулась круто, взмахнула-ударила свежими прутьями и листвой голельщика по лицу: тут как тут он уж. С налету охватил, навалился на нее, и упали они на-земь оба. Руки рознял, которыми закрывалась, и – как ни отворачивала, ни мотала головой – словно шоршень в венчик борца, втиснул в ее свои раскаленные губы.
Гулко отдалось у ней во всем теле и будто что надрубило. А он пьет и пьет без отрыву и силу последнюю отымает и стыд, и кажется ей: как мак она трепещет – покачивается под полуденным ветром и растворяется в сладкий мед.
Руки высвободила и наложила на покорные глаза:
– Пусти меня... Федя... Увидят ведь... Семен увидит...
Одумался Иванов. Поднялся и ее поднял тоже на руках с земли. Тихо-тихонько, жалея, спросил, как кедр вершиной нагнулся:
– Варенька... обидел я тебя? Скажи – чем?
Молчит.
Опустил, поставил ее бережно.
– Обидел... Так стою вот я, открыт перед тобой. Ударь, хоть убей как за ласку, за дар удар твой приму.
Молча оправила платье, платок на лоб сдвинула. И глянула ему прямо в глаза, осторожненько так, испытывая. Прямо в черные отуманенные нежностью глаза, в которых зрачки что светляки в оночелой траве.
– Ну тебя, леший... еще отвечать за тя будешь. А то – тронь, так облапишь опять, как жену – медведь. И то измял всю.
Ласково толкнула в грудь и отпрянула. Засмеялась – рассыпалась по кедрам, как бурундуки*1 запрыгали. Но Иванов нагнал ее снова и, обмякший весь к ней, поймал за левую руку и пошел рядом – как полагается в горелках.
А земля вздыхала и обволакивала их влажными испарениями, скользким шелестом росной травы и легким, пугливым хрустом палых игол и шишек:
"...Лето минет, – сверну я скатерти-самобранки и пуховики свои вытрясу. На промыслы уйду, в города перекинусь, а то в скиты – разбои замаливать. А по-за-зимой снова раскину – да только другим уж. Ничего назад не ворочается... А ноги на то и выросли, чтобы счастье по земле искать; а руки даны – подымать его; а губы – милого целовать. На что бы иначе эти, алые, как зори, и нежные, как свет заревый, – губы. И они не вечны ведь"...
– Семка-то, должно, совсем не побег, – протянула девушка, чтобы что-нибудь сказать.
"... Нету радости без горя и счастья без борьбы. И всегда кто-нибудь поперек стоит. Испокон за всякую долю бьются люди, внуки мои, и круче всех гуляет облитый чужой кровью"...
– Пристает он к тебе, Варенька. Скажи только – я его отважу, – озлобился внезапно и стиснул ее руку Иванов.
– Ишь ты. Заступник какой выискался. Мотри, кабы тебе парни бока не намяли за свою девку. _______________
*1 Бурундук – зверек из породы белок.
– Ну, это, пожалуй, сорвется, – усмехнулся Иванов, в надежде на узловатую силу свою.
А потом вновь проникла к его сердцу змея, и пригнулся он к глазам Вари:
– Лаком он до тебя, Семен-то... Уж не любишься ли ты с ним?
– Столь же лаком, как и ты, – вдруг рассердилась Варя. – И ни с кем не люблюсь я. – И, выдернув руку, пошла вперед.
– Штой-то вы там? Венчались ли чо-ли? – встретили их играющие и засмеялись.
– Ой, загнал, подруженьки. Измаял, леший, язви его. Чуть что не до поскотины гнал.
Семен, проходя, намеренно крепко задел техника плечом, а тот подозрительно и недобро проследил ему.
– Не гнал он ее, а в кустах мял, – выязвил Семен в сторону.
– Одни у те пакости на уме, Семка, – вспыхнула Варя. – Льнешь ты ко мне всю весну. Как муха к меду пристаешь. А срам я от тея только терплю. Охальник ты. И не указ мне.
– Ишь ты – фря-недотрога.
– Чо же не становитесь-то?
– Чо ей бегать-то больше? – ревниво и с натяжным смехом процедил Семен. – Достукалась: с царевичем-то неохота разлучаться... Рада кобыла овсу – на што ей трава в лесу?
– Ох, и ботало же ты коровье, Семка. И стыда у тебя на мизинец нет, кинула ему девушка, уходя с поляны.
– А ты думашь с техником-то шуры-муры завела, дык и в павы попала... Ты это брось, голуба, брось... – угрожающе протянул он ей вслед. – Мы и технику-то твому ребра пощитам.
– Что-то ты, дружок, больно крылья распускать начинаешь да клоктать, что индюк, – скривился в усмешку Иванов. – Ты бы, знаешь, скорей попробовал.
– Ниччо... попробуем... дай срок.
Иванов хотел что-то в ответ добавить, но промолчал, а, свернув цыгарку, отчетливо плюнул в сторону и запалил крицалом*1 огонь.
На работы с партией с той поры не ходил Семен. _______________
*1 Крицало – кусок стали; ударяя в кремень, высекает искру, зажигающую трут.
4.
На другой день партия техника Иванова ушла на болота – еще туманы белые курились в выси.
Кончала она сегодня по этой линии разбивку, и последний пикет N 115+30 был забит в самую речку Черемшанку в болотном устье как раз против полудня. На берегу тут и Королева сторожка: полднить партия вышла к ней.
Король с семьей, оказывается, был на поле и вокурат только что отполдничал и Соловка в телегу впрягал.
– Здравствуйте-ка. И мы вам на помочь.
– Милости просим, Федор Палыч, – возвратил Король. Мужик росту невысокого, с широкой улыбкой и спокойными движениями – тихий и углубленный, по фамилии – Плотников, по прозвищу – Король. Фамилию-то его, однако, в Сельсовете разве только знали.
А Варвара, осветленная, только головой мотнула и прошептала:
– Здрастуйте, Федор Палыч.
– Косите, что ли? – спросил Иванов, вешая сумку с абрисами*1 на костыль в простенке и садясь на корявый сутунок*2 у сторожки. – Рано что-то: до Петрова дня неделя не дошла еще.
– Дыть нады-ть. Разряшенье специяльно в поселке брал. Вышло сено бяда. И то уж я впоследях у дороги займовался.
– Ну, как травка? Радует?
– Трава – у-ух! Один пырей кошу – в пояс. Литовок вот нет: у меня допрежь какой запас был, а теперь поизносились. Трава да время пообкусали. Низашто все-те луга не выкосить. Да и работники-то у меня – сам знашь: девка да мальчонка. Баба с домом да огородом покедова: некода.
– Хочешь меня нанять?
– Ай-да! Чо? Ты сколь получашь – хвунт? Ну, я тебе два положу и харчи.
– А не дешево? Чать по пуду кладут за косьбу-то. Австрийцы и те по двадцать получают. _______________
*1 Абрис – черновой набросок плана местности с натуры.
*2 Сутунок – короткое, толстое бревно.
– Дак ты, поди – несвычен. Литовки ломать буошь. Хе-хе-хе! – легонько пошучивал Король.
– Кашивал я раньше, Митрий Лукьяныч. – Раньше, в мальчишках. Но теперь, пожалуй, мне и против Варвары не выдержать: силы-то уйма, выносливости не хватит.
– Да уж Варя у меня за парня сходит-правит. Митька чо? Несмыслен и жидок ишо. Велико ли дело десять годов? А ты что – владенья мои мерять хошь?
– Да вот: вышли в конец линии, в речку уперлись. Теперь уж до завтра. Нивелировать с последнего пикета буду.
– Домой, значит, сичас. Айда – подвезу. Мне кой-каки дела справить в деревне. Аген, сказывали, должон седни примчать из Елгая. Проезжий в Павловское сказывал: у нас, грит, разверстыват и на вашу целит. Ай-да?!
– Спасибо. Пожалуй что. На ночь едешь?
– Да уж не ране, как завтре к утру. А то и пожже.
Сели, поехали.
– Прощай, Варя!
За версту уж вспомнил Иванов, что оставил сумку на костыле, у сторожки. Тьфу! Хотел-было сказать Королю, но прикусил язык:
"Вот хорошо-то: вечером нарочно верхом съезжу".
Багровым нарывом пухла любовь в его сердце, и рад он был каждому случаю повидать Варю.
Только перед поскотиной тоинской сказал отцу-Королю про сумку.
– Эка ты. И Варька не приметила. Как же теперь?
– А-а... Отдохну и сгоняю вершнем, – особенно равнодушно протянул техник. – Далеко ли тут? Верст восемь прямиком-то, не по болотам.
– Возле того.
"И пешком бы сбегал..." – мысленно добавил Иванов.
Забытую сумку Варя увидела взадолге, когда к чугунному рукомойнику подошла. А как увидела – похолодела, и сердце остановилось.
– Как же это так?.. Бежать – не догонишь уж. А ему, поди, надо... О-ох! и не надо, так вернется...
На покосе крепкий и клейкий запах – дыханье колосящихся и цветущих трав (пырейный – хлебный, душицы – девичий нежный, подмаренника – грубоватый мужской) – клейкий и влажный, касается ласковыми взмывами разгоряченных щек и медленно целует глаза, закрывающиеся в истоме: от тяжелой работы, летнего тепла и отравленного вчерашним тела.
Днем, когда косила, часто застилало глаза. Что это? Падает-ложится скошенным рядом трава, а издали вздымается марево, тенью накатывается и вместе со вздохом падает в грудь, в самую глубь ее, а оттуда разносится струйками болькими, томительными, и руки немеют.
Ветер ли это тенью, теплой, удушливой, набегает по земле и захлестывает незримой сетью?
Тихо она остановится и обопрется на литовку:
"Бежать ли? Уехать и мне домой? Тятька осерчает, – дело бросила... Митьку послать с сумкой... Мамынька! Рази оставит он?.."
А с ближних согр на ветляные кусты речи бегут:
"...Девонька, девонька! Вырастила-вытянула я тебя до осьмнадцати лет. И в самой поре ты – ладная. Семену – другому ли кому – добро я, бесценное, копила-готовила. Смелому да вольному... Кому посулишься"...
– Ой! И сама я не знаю... ничо не знаю...
Косила я, косила,
Литовочку забросила.
Литовочку под елочку
Сама пошла к миленочку...
"Тебе, Феденька... ненаглядный, ласковый мой"...
Кровь ли это стучит эдак или по дороге стукоток копыт? Нет, рано еще – под вечер он, окаянный, приедет.
Горько смеется девушка сама над собой: какой же он окаянный, коли бродни его косой девичьей вытереть, ноги его обнять и целовать готова...
–
Тяжело ворочается тишина во сне. Захряпает коростель, захрустит падаль-хворост, хай-птица в луга кликнет, – а потом снова все затишеет. Одни кузнецы стрекочут на весь белый свет.
Тяжело вздыхают согры, но они не спят: согры дремлют только на заре. А тут они тихонько перешептываются, – как засыпающие перед сном, который морит их. Тише... тише...
Тяжело ворочается и вздыхает Варвара: душно в сторожке ей – ровно уголья под нарами. Братишка давно уж спит, разметался. Журавлями, поди, бредит, которые днем курлыкали на болоте. День-деньской косьбы только натомил девушку: неугомонно токает молодое тело.
Вот он, – вдали, четкий с цоканьем копыт топот лошади.
Ближе... ближе...
Остановился, спрыгнул человек и что-то коню говорит. Легонько перетаптывается конь. А сердце стучит все громче и громче.
Вот уже у избушки осторожное шарканье, и сил нет унять бой крови, встать и закрыть – завязать дверь...
Скрипнула дверца, через порог заползает шорох. Страшно! А тень над ней заслоняет остатний свет сумеречного неба.
Знает она, кто это, и нету силы велеть уйти: тайга, кажись, вся кинулась сюда. Гордые кедры клонятся ей в ноги. Серебряный белотал свежею листвой трогает дрожащие ступни. Колючие мурашки бегут по телу от ног и, добежав, срываются с губ пересохшим, умоляющим шопотом:
– Чо ты делашь-то?.. Митьку, ведь, разбудишь...
А он обнимает и молча растапливает последний девичий стыд. Не говорит будто, а она слышит:
– Варюша, напой ты меня...
Стонет она протяжно:
– О-ох... уйди ты... пожалуйста... ради Христа... Выйду... Ну – выйду я к тебе...
Тихонько дверь закрыла и встала с трепещущими, как осиновые листья, бескровными губами у порога, у притолоки. В наплечи кинутом овчинном полушубке, в одной исподней рубахе и юбке.
– Ну, – чо... те надо?.. Гумаги те...
А он берет в могучие – рвет их теперь сила – руки. Словно струи речные, водоросль обвивает всю ее. Испивает сопротивление ее до дна.
Побледнела она, как месяц в небе, а в глазах – полузакрытых, приманных – боязнь чуть теплится, а любовь гормя-горит, и что говорить?
Поможет?
Нет!
– Тише, Феденька, желанный мой...
Бережно, как черемушник, придолил он ее на землю, – сам широкий, могутный мир за него.
Тайга-сообщница зашумела над их головами, заглушая стук сердец и крик сладостной боли...
Покрывая все – так нужно...
– Кровь ли это стучит? Ах, все равно!.. Тише, Феденька, заревый мой...
5.
В ночь приехал на деревню агент по разверстке скота. Смуглый весь, сухой и в кожаном – Степан Стеннов, а с ним два милиционера с винтовками. Остановились приезжие у председателя Сельсовета – отдельной въезжей не было.
Много товарищ Степан пережил-перебродил на своем веку. Токарь по специальности из выучеников, добровольцем три года болтался на германском фронте: раз ранен был и раз контужен.
После того, как Красная армия рассеяла сибирскую беломуть – он, только что вставший от сыпняка, поступил в Томский губпродком агентом.
Как для отдыха.
Однако в тысячу раз было лучше на фронте: легче было!
Чем теперь вот, чуть не одному, въезжать в тихие, и по виду добродушные, поселки и случайно ловить недоверчивые, угрюмые взгляды и самому видеть тупое и страшное лицо тайги за дикой и осторожной неуклюжестью зверя. Выкормила их глухонемая могучая земля, неколебимая тьма их питала и вековая, замшенная жизнь – где каждому зверю было свое место и доля, и каждому зерну нужны были лета и годы, чтобы стать широковейным кедром жизнь эта насыщала их бессмысленным упорством.
За внешней покорностью стояли ничем не колебимый противодух и звериная хитрость.
Поэтому Степан Стеннов, – весь захваченный пламенем рабочей революции, сгоравший, как береста, в ее костре, не мог понять движения мутных и глубоких, и холодных вод таежной деревни, заботливо и слепо вылизывающих каждую пядь земли! Воды – глубокие и холодные, напояющие и поймы, и солонцы.
Мучился и гневался Степан Стеннов. Тут клали свои головы за пустяк, за неправильно захваченный кедр во время сборки орехов, и в то же время жалели ломоть хлеба для людей, умиравших за их долю.
И все это было соединено с показной покорностью и добродушием – это звериное нежеланье поделиться костью или перейти с места на место.
Все это будоражило и хватало за сердце Степана, и он уже начинал терять всякую меру.
Ехал как-то он от одного поселка к другому и встретил мужика. Мужик обыкновенный, и встреча – дело тоже самое обыкновенное. И то, что мужик поклонился ему – тоже полагается тут при встрече.
Но у Степана внутри без остатка всколыхнулось: в глаза сроду не видал мужика этого и он его; а видит вот – фуражка со знаком – и шапку сорвал, и шею вытянул – согнул, и что-то прожевал.
"Кому кровь свою он по капле расходует? У-у, раб проклятый!.."
И не только не поклонился ответно, но даже привстал и плюнул вслед мужику запыленному и дико закричал, потрясая кулаком:
– У, падаль! Я тебе покланяюсь вдругорядь...
А у мужика глаза даже выкатились от испуга и изумленья.
– Господи Исусе! Ноне и поклоном не угодишь... Вот жись.
И, втянув голову, поплелся разбитой походкой дальше.
А тут еще перед Тоей у тарантаса колесо рассыпалось, и в деревню он въехал на боку, на оси – смешно и неловко перед народом. И совсем озлился-потемнел весь Стеннов на хитрую жизнь.
Председатель Сельсовета живо смекнул, чем, так сказать, начальство успокоить, и предложил сбегать за самосядкой.
– Никако дело без того начинать незля.
– Что-о?.. А, впрочем, давай, – махнул рукой агент Стеннов.
За первой бутылкой, – другая. Потом корчага целая и солдатка Акулька со своими прелестями... До третьих петухов песни и гомон был. Что там было, не все известно, но только даже Акулька вскрикивала и пьяно стонала.
– Чо буошь делать? Акулька на што уж – чем роботит, и то не вытерпливат, – ворочались шабры.
А по-утру, солнце высоко уж встало, председатель, опухший и оморщившийся, обегал поселок, собрал мужиков в школьный сруб и побежал агенту докладывать: готовы, мол, ждут.
Шумно-матерно галдят поселковые и о фортелях агента, ночных, рассказывают, мотают сокрушенно головами.
– Вот и он.
– Ш-ш-ш!
Стихло все – мертво.
Не глядя ни на кого, прошел он к столу в глубине. С темными припухлыми подглазицами и мрачным взглядом. Мутно ему и стыдно настороженных мужиков – и от этого еще больше он ожесточается.
Сбоку болтается наган-револьвер, а сзади протискиваются оба милиционера, тоже опитых: вместе гулянку правили.
– Так что, товаришши, почтенное собрание, – замотался председатель у стола, – человек из города приехамши, агент. Насчет скота. Сам он все по-порядку доложит.
– Товарищи и друзья, – хрипло заговорил Стеннов. Хрипло, – и тяжелым взглядом уперся в Фильку, а тот заелозил и заморгал. – Республика Советов в оченно тяжелом положеньи. Наследство царизма осталось нам – война и разруха во всех областях. А от неистовой колчаковщины еще хуже стало. Поэтому Советская власть в невиданно тяжелом положеньи. И еще тяжелей ей от войны, которую нам навязала Антанта с поляками... – Остановился Стеннов, мутит его похмелье. Рыгнул он, и перегаром напахнул на ближних. Все мы должны итти на поддержку нашей власти. Потому – это наша власть. Исконная – от нас завязалась. Республике теперь нужна конница – лошади, стало быть. Мясо ей нужно для армии. Стало, надо каждому понять. Новый хомут на нас буржуазия одеть хотит. И все силы мы должны употребить власть свою и себя защитить. На вас, друзья, приходится – 60 лошадей, 40 коров и 30 овец. На вашу Тою. Так что раскладывайте. С кулака, с мироеда, конешно, поболе: все равно – не его трудами нажито. У кого помене с того помене и взять. На голытьбу безлошадную совсем нечего накладывать. Прошу приступить.
Председатель Совета, рыжий, недалекий и опасливый, встал-заметался:
– Ну, как же, старики, почтенное собранье?..
А по собранию гуд пошел. Кряхтят мужики, скребут затылки – в спинах даже дрожит. И с ними тайга кряхтит – старая, темная, кондовая, замшелая.
– Кормильцев-поильцев сдавать, значит.
– С голодухи помирать.
– Решить хотите люд чесной?
– Режьте лучше так!..
"...Так лучше режьте уж!.." доносится обратно из гущи, из лесу.
Бабы и ребята малые в проемы сруба влипли, губами шевелят, а тетка Евленья крестится. По щекам, как по тине пересохшей, слезы текут.
– Налоги-те, орали, отменяются. Вот те и отменили...
Подобрался к столу, к агенту, Филька и сверлит из-под клочковатых бровей:
– Ты нам объясни, значит, по-порядку господин-товариш...
– Ну-у, – буркнул тот. Нудно ему от истекшей ночи и от того, что этот мужичонко липнет, и от того, что за ним, за этим, тысячеглазая злобная темь притулилась, морем колышется.
– Я к тому, например, – слезливо моргает Филька под острым и чужим взглядом агента. – В нашей деревне шиисят дворов и всего-то. Как же это?.. Стало – пошти што по три скотины враз со двора сводить?
– Чо ты понимашь! – крикнул Василий-коммунист. – С тебя, обалдуя, и вовсе, может, ничо не возмут.
Мужики перекинули на миг глаза на Василья, загудели:
– Ишь застаиват.
– Лыжник. Забегат.
– Ты мне пуговку-то не крути, – мельком только скользнув по Василью, воззрился Стеннов на Фильку. – Шестьдесят дворов. В волости-то лучше про то знают – сколь у вас дворов. Вам только распределить, – у кого сколько свести. – А наложили, значит, верно...
– А хто наложил-то?
– Таки же, как ты!
– Наложили... наложили...
– Нас-то не позвали, – орали Рублев и Хряпов со своими подголосками.
– А... а... а... – заклокотало, заворочалось в срубе, и сотни глаз налились тяжелым гневом.