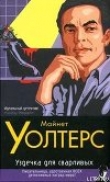Текст книги "Кедровый дух"
Автор книги: Владимир Ветров
Жанр:
Научная фантастика
сообщить о нарушении
Текущая страница: 1 (всего у книги 3 страниц)
Ветров Владимир
Кедровый дух
Владимир Ветров
КЕДРОВЫЙ ДУХ
1.
Трава по болотам – резучка: не балуйся, не хватайся – живо до кости прохватишь. Резучка – жирная и высокая, а у дерев – корни, заскорузлые, как у старого землероба руки, и седые замшенные ветви-веки.
А люди – рослые, прямые и крепкие: кедры!..
В мае наехали техники по просушке болот – и по зубам согр*1, по огромным, по-пояс, кочкам, сверкая, лязгая и звеня, прыгает стальная мерная тесьма: 10 сажен... еще 10... еще... 50!
– Сто-ой! Забивай пикет и колышек!
71 – сочным синим карандашом на затесанном лице кола. Это от устья речки Тулузы – семь верст пятьдесят сажен. Бурая с волоконцами, цвета железной руды, кровь выпучивает из пробитой земли, растворяясь в воде, а пикет, березовый, белый, веселый, высматривает из-за вешек вслед другим, таким же, уходящим по ярко-зеленому с желтыми крапинами полю в голубое небо, – как оглядывается!
Вперед да вперед, разведчики-вешки, с клочьями мха на верхушках для приметы, тянутся по фарватеру болота. Все дальше, все выше, все ближе к разлому: его-то и надо! Оттуда уклон в разные стороны – в речку Черемшанку, в Кочегай, в Баксу.
Болота, болота, болота...
Согры, согры, согры... _______________
*1 Согр – березовый и пр., словом, – лиственный, – лес по болоту.
Гнуса – видимо-невидимо: паутов, черно-желтых, гудящих, с перламутровыми глазами. Кишат на холщевых рубахах, на обутках. Это – когда солнце. Наползет туча, посереет все, зашелестит поросль, и с травы хором подымаются комары. Плачут да жалят: а насосется крови, тут же – не улетит, валится, что добрый верующий в престольный праздник.
Едят здорово – однако, не обидно: уж очень зелена и душиста высокая трава, голубо широкое небо и лениво мрежит необъятное солнце, виснет над головой.
– Полднить пора уж.
Вот и елань излучивается, поближе. Партия оставляет тесьму и гониометр*1 с кольями на линии, обозначенной вешками и вымятой травой, – выходит, хлюпая, полднить. Из листьев, прошлогодних и высохших, и из пня, проеденного двухвостками и древоточицами, сгнилого, раскладывается курево. Закидываются на фуражки сетки, которые придают такой таинственный вид рабочим: ровно чародеи какие расхаживают. Убогий "запас" вынимается из мешечков, а то просто из карманов – что там: пучок лука, ломоть хлеба, щепоть соли в тряпочке от пестрядиновых штанов.
Между жевками, как меж кочками вода, теплая и густая – струятся ленивые слова...
– Слыхать, опять войнишка зачалась... А?.. товарищ Иванов?..
Техник Иванов – на спине с полузакрытыми глазами – цедит:
– Да-а... с поляками...
Под плечами и к ягодицам ласково промокает от влажной земли.
– Ох, робя. Надысь мне Софроныч стрелся и таку загадку заганул... Быдто Англея, грит, Японция, Хранция и Америка, грит, – во их сколь пушку выдумали, Анатной прозвали. Черезо всю землю палит... а снаряду в ей – тыща пудов. Ох, ты, сволочь! Как типнул, – прихлопнул Матюшка паута. – Сговор у их: народ расейскай уничтожить и землей завладать. Ну грит – как нацелют, ахнут, – так снарядина тучей прет. Упадет – и нет губерни. Была, _______________
*1 Гониометр – угломерный геодезический (землемерный) инструмент с буссолью без трубы. впример, вот, наша Томская: сколь тыщ населу – мелеен. А тут, однораз – ямина.
– Дура ты... Я где был – землю произошел. Чемоданы – это двистительно. Кака Ерманска-то была. Этто брехня...
– А кто это у вас, товарищи, Софроныч-то?
– Софроныч? Это, браток, мужик-от... боле трех сажен у землю видит.
– А э... так это... старик завалящий – пыль в шары им тут пущать, сплюнул фронтовик Семен. – Серось.
– А сам-от трухишь ево... Он все знат... От наговора там, от раны-косовицы, от кисты лечит. На воде могет видать.
– Ну так врет ваш Софроныч.
– Вре-от, – криво усмехнулись мужики. – А ты, браток, не очень того... его охаивай. Он тебе живо кисту-то поставит. Он-те, язви-те...
Согры шепчут осиновыми, трепетными листьями и гуторят, легонько так, березовой листвой, а пьяный широтой, таежный бродяга-ветер чуть пошевеливает таловыми по болоту кустами, как челками на плешине, и дышит в горящие от укусов и жары лица.
– Не верю я, товарищи, в этаких Софронычей: сколько ни видел их – одного такого колдунка побил даже, до сей поры никакой кисты не имею. Сказки древние это.
– Ну, он, Софроныч-то, боле по-насерку*1 действует.
– Мда-а. Летось-то: эдак же Васька Хрущ облаял его – ну и пострадал. Во-о с какой брюквой ходит.
Иванов подымается с земли, выплевывает окурок и делает два шага к болоту. Удавливает ногой ямку – заливается вода: он зачерпывает ее берестом и пьет тяжело и шумно.
Не вода, а настой на травах и букашках.
– Вы вот передайте-ка, ребята, Софронычу вашему: дурак ты, мол, старый. Ан-тан-та – это не пушка, а союз государств буржуйских. А, кроме того, скажите: если ты, чортов дядя, технику Иванову кисту не поставишь, – он тебе фонарь, мол, на морде поставит. Не смущай сказками народ.
– Ужли не трухишь, Федор Палыч? _______________
*1 По-насерку – осердившись.
– Тьфу ты, язви вас. Слушать тошно. Киста, иначе грыжа, ведь. И получается от подъема тяжестей, телу слабому непосильных. Вот и все колдовство тут.
Мужики, недоверчиво ухмыляясь, идут за техником на болото. Снова сверкает и лязгает тесьма и зубасто ляскает топор по кустам, которые застят щель гониометра.
Когда солнце скатывается на запад, партия – усталая, наломанными по кочкам ногами – тянется в деревню Тою. А закат раскрашивает коричневые от загара лица в малиновые и лиловые цвета.
Все идут пошатываясь: упоила их четырнадцатичасовая работа, рябое солнышко медовой жарой и гулящий ветерок пенистой брагой расцветающих трав. Комары пискливо и жалостливо липнут и вьются: отсталые пауты гудят, как бородатые мужики на сходке; а подслепый туман встает сзади и тупо зорит вслед...
–
Тайга...
Темная, костоломная, каторжная.
Полная неуемных сил. Неповоротливая, тугая на мозги...
Вешечник Михайло, старый, но вникающий, рядом с техником Ивановым идет и боли, деревенские, таежные, рассказывает. Языком, густым и шершавым – как измозоленными руками по шелку водит.
– Кто не бил ее, тайгу-то? Царские стражники скулы выворачивали, зубы вышибали, секли и вешали...
"Выла тайга и злобилась. До 17-го году ничего бы, сошло, а тут воли понюхали:
"– Человек, говорят, ты такой, как и все.
"Выла тайга и злобу копила, а она в глаза – волчьи уж – вылезала и колола:
"– Растерзать!..
"Бросали избы и хозяйства: в зиму – когда до сорока морозу доходило теплый насиженный угол бросали и шли голыми руками давить Колчаковскую свору и рвать буржуев.
"Молили:
"– Господи! Вскуе оставил... Ужли не возворотишь большевиков...
"Молились их имени, как святому Пантелеймону, о скоте, доме...
"Спроворили, наконец, Колчака, и первое время, когда алые банты просто и весело прошли деревню – возликовали.
"Вздохнули мужики и принялись налаживать хозяйство. И тут же жертвовали последним на Красную армию, на то, на се... Портки с себя сбрасывали, собирали хлебом, яйцами – кто чем мог. Слали, сдавали – куда, почти что не спрашивали:
"– Веровали!
"Коммуну образовали – ну и помоги себе ждали: усадьбы, нарушенные, поправлять – топоров, гвоздей; снасть хозяйственную восстановлять – воровины, шпагату, железа: землю обихаживать – плугов, литовок, машин...
"– Нет ничего.
"Обутки пообдрипались – ни сапогов, ни котов...
"Далеко очень – глушь. 75 верст от пристани и путей.
"Газет даже не слали – не слыхивали. А и слали – так в волости где-то затеривались: до нее тоже 30 верст.
"Комячейка своя была – ну, слабая: четыре человека и с одним только желанием что-то сделать, а приступить, – не знали как.
"А из города помощи не было: некогда, некогда, некогда.
"И – некого.
"Там – Чекатиф, Грамчека и просто Чека. Людей на себя не хватало, не то чтобы еще на край света посылать.
"Истинно край света. До Баксы еще кое-как видать... А там уж о-хо-хо-хо!.. Одно слово – темь.
"Интеллигенция, верно что, пужливая, разбежавшаяся, по своясям повсюду возвращалась; да и в деревню не шибко охота – больше в городе пристраивалась бумагу марать.
"Словом, город сам покуда выправлялся и про деревню таежную забыл. А в ней все по-своему шло. Была потуга к искровой правде, выношенная рабским и звериным житьем, – так она туго и слепо шла вперед, хватаясь и шаря. Ничего не давал город деревне, а тянул с нее все, все как есть – тянул.
"Приедет какой-не-на-будь, поет, поет – и чо-не-на-будь да попросит: сена, хлеба, того-сего...
"А чуть што супротив скажи, – чичас:
"– А-а, ты буржуй... к Колчаку хотится?
"Прогонами, вывозом, сдачей – тоже маяли. А тебе – обратно – нет ничего. Школа стоит недостроенная, загнивает. Сами бы в момент возвели клич некому гаркнуть...
"Где они? Мы даем, а они – хушь бы чо...
"И обида жечь зачала, как жигало.
"В город делегаты ездили на хресьянской съезд... Ласо там наговаривали камунисты-те. И горы сулили. Однако – наконец – шиш еловый...
"Омманули нас сызнова... Э-эх, простота-темнота.
"А Хряпову, лавошнику, этто на-руку. Во всяко место пальцем тычет:
"– Вот. Вот. Вот... Они-те – товаришши: с тебя-то все, а тебе-то кукиш в сухомятку.
"По первоначалу сцеплялись из ячейки с прочими, но без толку. Эти за словом в голбец*1 не спускались – бывалые; а те – настояще не уразумели, хоть нутром – вот как чуют, а – кроме матерных – слов нет высказать.
"– Свобода? Кака свобода? На кой хрен? Ты нам лобогрейку предоставь.
"– Свобода ветру нужна. А мы – с земли, трудящие.
"– Как ты судить могешь, ежли вкруг себя обиходить сметки нету?
"А тут весна нагрянула... Распорухались окружные согры, затопило мочежины, и дороги стали. И совсем стихла ячейка: у самих никакого справу нет – голыши; из города и волости – одни бумажки (и то – когда, когда!) – сам царапайся. Ну, и совсем сдали. Редко когда прорвет, а больше смалчивают.
"Вы-то вот приехали – радость у нас большая была. Как же? С 13 году, перед ерманской еще, сулились высушить болоты-те. Ну, тольки мы рукой махнули уж. А земля-то кака. Перва земля... В тако время – на тебе! вспомянули... Вот оно: наша-то влась. А чо? Вправду теперь влась-то большевицка?
– Чудак ты, дядя Михайло... Конечно. Да у меня мандат с собой.
– Мандат-то... Х-м. Эко слово... Не при нас писано... – а сам в глаза технику зорко засматривает – ты так зверь. _______________
*1 Голбец – подполье в избе.
Иванов – техник, сначала самоуком, а потом сторожем при училище был, среднюю школу кончил и по землемерству пошел. С русыми волосами – здоровенный; глаза черные, а сам светлый. Видать – правдивый.
– Что заглядываешь-то? Настоящая, брат, Советская власть. Я, хоть беспартийный, а насчет этого одно скажу: настоящая, крепкая, бедняцкая власть. Это уж верно. Ну, только трудно ей сейчас приходится: шесть лет без отдыху воевали и все кончили.
– Я тоже так мекаю. Но забывать-то не след. К смуте идет эдак-то.
Тропка, на которую выходит партия, ведет из деревни Тои в выселок Заболотье: там у чигина*1 она переползает по жердям через Баксу и – по пихтовнику и кедровому лесу, и трясинам – уходит к выселку. За поскотиной, Тоинской, начинается кедровник – густеющие темно-серые стволы с размашистыми сучьями и в курчавых шапках.
Иванов крутыми шагами в развалку идет впереди, с сумкой и опустив голову, а думы его упорные и простые:
"Притти домой, переобуться-переодеться, портянки выполоскать от болотной ржавчины и повечерить, – квас с крошеными яйцами и молоко, – а потом пойти посидеть с парнями на бревнах. Ах, да – чорт побери! Муки еще надо на квашню натолочь".
(Мука казенная из учреждения – затхлая и комьями.)
Тут, сзади него в обгон, слышится топот, и мимо пробегает Семен, молодой парень, ефрейтор с германской. Хожалый парень, ширококостный, но с нездорово-серым прыщеватым лицом.
– Ишь, ефлетур к Варьке побег...
Меж кедровыми стволами мельтешит белая крапчатая юбка навстречу. Семен налетает с намерением задать "щупку", и видно – как это он растопыривает руки: охватить, повалить, помять. Но женщина быстро поворачивается; рука парня, срываясь, скользит вниз и прочь, а женская – налитая, полная, с куском холста, скоро опускается и стукает по голове Семена. Тот, запнувшись раз-два, валится с ног. _______________
*1 Чигин – полуостров, образуемый излучиной реки.
– О-ох! сте-рва... трафить-те...
– Ловко. Вот те гирой... Го-го-го!
Женщина спугнутой перепелкой несется по траве мимо партии, а ребята загораживают ей дорогу. Свистят:
– Лови! Держи!
– Санька – язви вас. Не замай... Вот те крест, так смажу по морде-то.
– Да ты чо, язва... мамзель ли чо ли? Поиграть с тобой нельзя?
– Знам мы ваши-то игры: лапаетесь за все, охальники... С Дунькой своей играй.
Девушка стоит крепкая (теперь видать, что девушка – цвет еще набирает), платок съехал, а коса что канат просмоленный. Чалдонка – скуластая слегка, с радостными нежными губами, а за ними целая рота зубов, белых-белых. Она и не серчает; с лукавым любопытством глядит колючими серыми глазами в глаза технику и, заревея, отбивается от парней: непристойно при чужом-то.
Грудь под холщевой рубахой ходуном ходит, а затронутая в ногах трава покачивается, мотает головками.
Смотрит Иванов, улыбается во встревоженное лицо, и оно поражает его чистотою, таежным неведеньем греха, огненной жизнью.
– Ты, Варвара, девка хорошая, плотная, как ржаная кладь... Зря боишься только – разве сомнешь тебя!..
– Небось, сомнут: у них руки-то, что цепы. Не как у тебя, буржуя.
– Но-о. Во она как тебя, Федор Палыч... Ишь ты, змеиный род.
– А я сейчас вот дам ей попробовать своих рук...
Идет к Варваре, руки широкие протягивает, вымазанные в травной зелени, в крови и прилипших крылышках насекомых...
Но тут Семен, оправившийся и горящий отмщением, наконец, облапливает ее сзаду, сочно чмокает в призывные губы. И вскрикивает, хватаясь руками между ног – а девушка уж далеко. С визгом хохочет, а с нею тайга, заслоняя мохнатыми ветвями, загораживая темными стволами.
– Ишь стерва в како место пинат. Погоди ужо...
– Варвара – девка правильная, – цедит Михайло, кряжистый, почесывая пальцем в бороде под губой. – Назрела она, как шишка кедровая, и семениться пора, ну только отскакивают от ее.
А Иванову тепло и радостно почему-то в сердце, где стоят серые искровые глаза, матовый загар щек смугляных и налитые полные руки...
В вечереющем воздухе – синем, с черной порхающей мрежью – шопотные речи текут:
"...С самого нового году, только что сдадут холода, сила, полыхающая полевым паром-туманом, подымается из глубин земли. Незримо расходится-растекается она и наплывает томными валами во все живое: в коренья, в зверье, в людей – во все живое. Волки по-иному воют и визжат, нюхают следы волчиц, скулят и распяливают пасти в неодолимой жажде. Багровые зори сочатся ядными каплями в неутомную кровь людского молодняка. Жадным потоком плещется кровь в тугих мускулах, жжет кожу и кости крепкие ломит"...
2.
До Петрова дня настоящей работы в деревне нет. Пахота? – здесь мало пашут: из-за гнуса пашут вночевую и ранним утром. Растет только рожь, а из яровых – овес. Главное занятие: скот, зверь, рыба и орехи кедровые. Но нынче и рыбу ловят только для себя на потребу – хоть ее и много. Соли нет. Вниз по Оби ломают соль, а доставки нет – не налажена. В декабре только заняла Советская власть эту землю – не до соли, не до мелочей тут. Сами бы мужики съездили – милиция отбирает: спекуляция, говорит.
Так и живут, преснушки пекут, а соль – какие там пустяки у кого сохранились – пуще глаза берегут. Солдатка Акулька полакомиться вздумала, так технику Круткину Кольке – так себе: сосунку – за два фунта соли продалась.
И работы до Петрова, настоящей, в деревне нет.
Некоторые долбят дуб-корье для дубления кож: такое корыто и немудрая машина долбления (журавлик, а под ним вырубленное корытце) – торчат общими, чуть что не у каждого двора.
На ветру, на солнце вялится медвежатина; это с того медведя, который чуть не задавил дядю Марковея: рогатина, видишь, соскользом пришлась, а бурый тут и насел. Ладно еще Степан, что с ним был и на кедр сперва со страху залез, одумался и топором зверя зарубил, а то бы задрал леший дядю Марковея. Месяц он провалялся: а теперь сидит на берегу, шеей жилистой покручивает и невод платает, и молодуха с ним (свадьбу перед Масляной только справлял – крепок старик!).
Переметы раскиданы там и сям по заводям и заливам Тои и Баксы, а в них морды расставлены. Недавно одну морду снесло: неделю не знали где взять, и мальчонка Решетов ногой ущупал случайно, в воде брыкаясь. Стали тащить – тяжелая и рассыпаться начала, а в дырья лини поперли. Тридцать фунтов вытянули, да, пожалуй, столь же – как не больше – ушло. Жирные такие, ленивые лини. Одно слово – "лень".
Иные по болотам мох сымают, сушат, на продажу свозят или срубы новые проконопачивают.
Теперь вот, недели две будет, техники вчетвером наехали – по осушке болот, и каждый день человек 12 – 16 поселковых на работах. Кто с лентой, кто с рейками.
Бабы же с утра до ночи ковыряются, как курицы, на огородах. Ровняют, садят, – одной воды сколько нужно из Тои перетаскать. А из мужиков, кто дома, снасти хозяйственные заправляют, собирают-гоношат.
Но настоящей работы до Петрова нет. После уж пойдет-повалит страда: покос, сбор орехов, уборка хлебов, сеновоз в город. До нового году, а то и январь прихватывает.
А пока – кони бродят по поскотине, тут, в кедровом бору; коровы и овцы тоже по выгону, – но днем редко: гнус заедает, кормиться не дает. Больше в стайках стоят, поматывают головами, помахивают хвостами и бьют себя копытами по огромному животу.
Иногда вдруг, дико храпя и вращая красными глазами, примчится лошадь с травы к воротам – нажарили, значит. Над городом где-нибудь сейчас серыми космами волочатся облака мутной пыли, а здесь в дрожаще-чистом, голубом – жужжат целые тучи паутов и комаров. Немного позже народятся слепни и песьи мухи, а еще позже – мошкара, от которой и сетка не спасает. Неприметными глазу сверлами разъедает она кожу, и прикидывается опухоль.
Так вот живут тут.
По праздникам, по утрам, тише еще чем в будни. Только к полудню люди начинают вылазить из разных холодняков, темных горниц и из голбцев всклокоченные, жаркие, потные. Спросонок долго скребут затылок заскорузлой пятерней и чешут о притолку или городьбу спину, щурясь на солнце. А потом плетутся на полянку под три хиреющих кедра.
Тут и напротив через дорогу, где лежат бревна у школы, – клуб. Тут все вопросы разбираются и решаются всякие дела.
– И как это тебя угораздило, Филька: таких конев стравить?
Филька – малорослый мужичонко, с реденькой бородкой и наболевшей мукой в слезящих глазах – притискивает оба кулака к хрипливой груди и кряхтит, как зубами скричагает:
– Да-ить чо ты сделашь!.. Рок на мою жись, проклятый!..
Упавшей, подгнилой березой третеводни задавило у него две лошади в плугу.
– Рок тебе. Садовая голова. Сколь годов пласташь ты это поле – ужли не видал, не дотяпал.
– О-ох! – вздыхает Филька, тряся кудлатой головой. На щеке до уха подсохшая царапина и черный сгусток у брови.
– Тебе бы загодя подпилить – одна польза была бы: дров до двух сажен выгнал бы. Ы-ых вы, хозява...
– По-одпи-илить... Сам с усам – тоже не пальцем деланы. Чужу-то беду руками разведу. И што вы, братцы мои. Иду этто я на плуг-от налегаю... а она – хряс-сь!.. Еле сам ускочил, а коней враз завалило: тольки што дрыгнули раз ай два... И самого-то вицей садануло.
– Эх, ты... тюря. Голову бы те отпилить – по-крайности животны-те живы были бы.
– Все равно теперь, старики, пропадать мне. Куды я с одной кобылой да еще жеребой?..
– Да уж нонеча не укупишь конев-то.
– Ку-уды те. 20-25 пудов ржи просють за одер... а пуды-то нонеча...
– Ноне не пуды, друг, а хвунты. Хлеб-от весь выкачали в момент.
– Прошлый раз очередь отводил я: военкома Елгайского возил. Дык в волости мне отрезали: тридцать хвунтов, грит, на душу.
– 30?!.
– 30. А мне чо этот хвунт-от их на день. На экой пайке посидишь, и с бабой спать прекратишь...
В густой пластовый разговор, как под лемех корень ядреный, вплетается высокий молодой мужик. Партийный.
– Тут и есь, што не до баб. Сколь размотали за империстическу войну-то. Все с мужика тянули. А Колчак-от сколь позабрал, пораскидал, попережег, па-адлюга. А теперь Совецка влась повинна? Знамо – вам не по нутру. Потому она всех ровнят. Чижало ей – а она ровнят.
– Ково она ровнят-то? Чо ты от мамки отвалился только што, лешман. Ро-овнят. Тебя да меня – деревню. А город-от, брат, живе-от. Комиссары-те почище урядников орудуют.
– Ну, это уж неправда, – говорит Иванов, – вам хоть по фунту на день, а в городе и того нет: 25 фунтов – самый большой паек, ответственный, а больше – по 10 получают. У меня знакомый – заведывающий отделом народного образования, старый коммунист, на всю губернию человек, – а дома форменный голод.
– Ой, чо-то сладка-складка, да жись – горька, – ввернул мужик, гладкий с быстрыми светлыми глазами. До трех-четырех работников раньше держал – Егор Рублев.
– А вот – верно. Да вы вот нас за начальство почитаете, – а ну-ка, какая у нас мука-то. Задохнулась, говоришь? Порченая? Сам же приценялся к ней: продай говорит, Федор Палыч, на мешанину скоту. А?
– Чо ты сказывашь нам, Федор Палыч. Кабы сами не спытали. Приедет милицеришка поганый, ничто ведь – тьфу! А ты ему ковригу накроши. Сам-от на хвунту, а ему – ковригу, вишь, да мясца, да самосядочки. Так не-так, говорит, – живо в буржуя оборотню.
– Начальник милиции ко мне заезжал восет, – поддержал Рублева лавочник Хряпов. – В обед вокурат. Ну я ему, конешно, отвалил: садись, грю, господин-товарищ, с нами полдничать. Однако, говорю, как на меня самого фунт, – то хлеба, грю, взять негде. Не обессудьте уж, милай... Без хлебца. Ха! ха! ха!
– Го-го-го! – повеселели мужики.
– Дык што ты. Позеленел аж весь. Грозится теперича: я, грит, у тебя ишо пошарю в голбце-то. Романовски, грит, у тя там припрятаны, злое семя.
– Ну, это отдельные случаи, – вставил Иванов. – Мы, ведь, должны понять, что пока еще все налаживается. Советская власть тут не при чем.
– Да она кабы Совецка-то. А то камунисты правят. И кто это таки – камунисты?
– Неужели до сих пор еще не разобрались? Да вот вам товарищ Василий скажет. Он в ячейке состоит – должен знать.
– А хто ему поверит-та? Он в своем антересе. Вопче – в ячейке у нас одна голытьба да сволота. Безлошадны. Один дурак Петрунин в камуну-то эту влез, из домовитых, – заязвил опять Хряпов. – Знам мы их.
– А ты не забегал? – взъярился партийный Василий. – Да тебя, кровососа, мы и не припустим.
– Да нихто и не идет к вам, жиганам.
– Ну, а сами-то вы почто не вступаете? – спросил Иванов прочих мужиков.
– Ну, нет, брат. Мы за большевиков. А камунисты нам ни к чему. За большевиков мы и муки принимали, и супротив Колчака стражались, с кольями шли. Кто у нас тут не порот-то! А сколько в борах позакопано. А в острогах посгноено... И-и-и! Все за большевиков.
– Да, ведь, большевики – это и есть коммунисты.
Но мужики только в бороды ухмыльнулись: не обманешь-де.
– Мы за большевиков-то, браток, всей деревней семь месяцев бегали по тайге. Ужли не разбирам?
– Чо тут.
– Мы ту партею досконально знам. А эта – друга.
Так и не убедил их Иванов.
– Ты, говорят, пожалуй, и сам-от не камунист-ли?
–
Вчера всей деревней ходили поскотину поправлять: кой-где нарушена была, жерди новые вырубали, кустами и вицами переплетали.
И техник Иванов не ходил на болота – дома остался: инструменты выверять, а прочие техники план наносили. Вокруг Иванова ребятишки сгрудились, а он в трубу на рейку пеструю посматривает да винтики подвертывает. Мимо, гремя ведрами, Варя Королева ходит, огород поливает и девичьи песни распевает малиновкой красногрудой.
Ребятишки дивятся:
– Дядинька, а дядинька, ужли ты столь далеко видишь цифры-то?
– А как же: стекло в трубе увеличивает и приближает.
– Дядинька, а мне можно поглядеть?
– Валяй. Да один-то глаз прищурь.
Мальчонка закрыл веком глаз и пальцем, как камнем, придавил.
– Ох, как близко... Вот, язви-те. Ну, вот пальцем дотронуть, – протягивает он руку вперед.
– Петька, постой я...
– Ух! Красны, черны метки... ох, леший.
– Серя, и мне хоцца, – тянется девчонка Аксютка.
– Куды те. Чо ты понимашь!
А Варя опять с ведрами мимо идет: юбка высоко подоткнута, босая, и белые круглые икры чуть подрагивают.
Косится на инструмент.
– Может, ты, Варя, хочешь взглянуть? – обращается техник к девушке: "Чем бы ее задержать, ближе побыть и слова ее, молодостью и здоровьем обволокнутые, послушать? Слова – как медовые пряники, вяземские".
Та ведра на-земь поставила и коромысло возле уронила.
– Ай и в-сам-деле позволь поглядеть, Федор Палыч, – нагнулась и, немного погодя: – Ничо я не разберу че-то.
– Да ты оба глаза таращишь. Стой-ка, я один тебе закрою.
Встал слева, одну руку положил на ее плечо, как обнял, а другую – левую – приложил к глазу. Потом чуть выдвинул объектив – переднее стекло: лучше у ней, поди, зренье-то.
– Ну, что? Видишь что-нибудь?
Сам почему-то нагибается к ее голове и голос понижает. От волос ее аромат, теплый и расслабляющий, бьет ему в ноздри, и оба молодые тела в мгновенном касаньи бурливо радуются и замирают.
– Не-ет... ааа... вон... Глико – близко как. И ярко, лучше, чем так...
Дыханья их уже смешиваются, и лицо Вари начинает пылать.
– Ну, еще что видно?
– А вон кедровина... чуть эдак поводит иглами... И тонюсенькие нитки там вперекрест...
Потом она тихонько подымает голову и, уже смущенная неясными прибоями крови и сладким томленьем, берется за коромысло и мельком из-под него вскидывает влажные глаза на Иванова, а тот неверными руками зачем-то ослабляет винты штатива.
– А почему это, Федор Палыч, кверху ногами кедровину видать?
– В трубе отраженья перекрещиваются: с корня-то сюда, а с ветвей сюда падает; и ломаются на стекле-то – первое вверх идет, а второе вниз, дрогнувшим голосом радостно отвечает он, а в потемневших зрачках колышется просьба:
"Варенька, милая, ну постой, побудь еще маленько"...
Но она уже вздевает ведра и, медленно повернувшись, покачиваясь, уходит, – только у калитки бросая косой, осторожный взгляд назад.
А Иванов сызнова инструмент устанавливает: ни к чему поверка вышла не те винты крутил он.
3.
Буйно цветет тайга под голубыми небесами. Коричнево-серые кедры распластали темно-зеленые лапы, а в них – как в горсти – торчат мягкие, желтоватые свечечки. Лиственница, пушистая и нежная, тихонько-молодо тулится за другие дерева, но парная нежность ее звездистых побегов, кажется, липнет к губам.
В свеже-зеленых болтливых сограх, смешливых и ветреных, как в ушах молодух, болтаются праздничные хризолитовые сережки, а боярка кудрявится, что невеста, засыпанная белыми цветами. Веселый сладкий сок бьет от корней к верхушкам.
Не ведая ни минуты покоя, как хорошая "шаберка", шумит-шелестит шелестун-трава, и ехидная осока то-и-дело облизывает резучий язычок.
А там вон, по елани*1, побежал-повысыпал ракитник-золотой дождь, и кровохлебка радостно, как девчонка, вытягивая шею, покручивается тепло-бордовыми головками и задевает ладони. Будто девушка-огородница жестковатыми, горячими от работы пальцами водит по ней:
Сорока-белобока
На пороге скакала...
Вон по мочежинам, по кочкам болотным, не моргая венчиками глазастыми – вымытые цветы курослепа и красоцвета болотного; курятся тонкие стройные хвощи. Голубенькие цветики-незабудки, как ребята, бегают и резвятся у таловых кустов с бело-розовыми бессмертниками.
А там по полянам, опять неугасимо пылают страстные огоньки, которые по-другому зовутся еще горицветами: пламенно-пышен их цвет и тлезвонно-силен их телесный запах, как запах пота. А в густенной тайге медовят разноцветные колокольчики, сизые и желтые борцы, и по рямам*2 таежным кадит светло-сиреневый багульник-болиголов.
Полна тайга и без того запаха, света и шума, мается сожитием плодоносным, ломится мятежным ростом она, – а как прибежит ветер-ветреный без умолку загуторят лесины курчавые, зарукоплещут еще могутнее травы, и зверино-нежный дух всего этого дикого пиршества облаком заклубится, заволокет, ширится и ломит сердце человека, кружит голову заботную, а жаркая кровь гонит по жилам и стучит в каждой точке тела, как озноб.
Вспенивается, шумотит-шепечет и вспучивает тайга, как медовая на дрожжах брага в корчаге – ароматное, густое, одуряющее питье – и емкими жбанами разносит его земля по пиршественным столам своим.
Невидный, на солнце скрытный, огонек полизывает сырые и отиненные палки вперемежку с сушняком – курится. Над осокой повисла жерлица, а Иванов с удилищем в руках над самым куревом _______________
*1 Елань – места, лежащие выше уровня болота и потому сухие.
*2 Рям – лесное болото. рыбачит тут, у перехода через Баксу. Ворот расстегнут и фуражка сброшена. С чащи волос спущен платок носовой – от комаров и прочего.
Не жил еще, можно сказать, Иванов. Политикой не интересовался: нечего тут – все само-собой дойдет. Крепок и здоров – он. Никому и не в чем завидки ему ростить. Неловкий и не больно речистый – успеха у вертлявых городских барышень не имел: стулья корежил, занавески локтями обрывал и на юбки наступал.
Как есть – сын тайги, блудящий. Сейчас вот только чует: бродит в нем сила с полыхающими знаменами, и терпкие запахи мутят голову.
"Земля моя! Мать и возлюбленная до конца моих дней. Корнем цепким и мясистым вновь прирастаю. Люблю я тебя навеки за широкую грудь с черными сосками, в которых не иссякает кормящая сила".
Тут, у жердин через Баксу, уселся рыбачить Иванов. Почему? Кто его знает! Не потому ли, что Варя Королева – это ему известно – вчера под вечер ушла к крестному в заболотье?
А сегодня воскресенье – игры в Тое будут.
В аире-траве полоснулась щука. За кем она? За серебряно-чешуйным чебаком, или за розоватой сорошкой?
Клюет...
Тихонько этак дернулся-нырнул поплавок и затих. А спустя немного повело-повело его по воде в сторону.
– У-гу. Окунь зацепился.
Тянет Иванов, тяжело гнется черемуховое удилище... Раз! Пузырьком всплюнула речная гладь, и затрепыхал в воздухе, шлепнулся о тинистый берег в траву красноперый окунь, зашуршал.
– О-го! Фунта полтора вывесит, пожалуй...
А с того берега, из-за пихтовой стены подходит звенячий девичий голос, и верхушки трав перебрасывают шорох далеких еще шагов:
Вырастала, вырастала
Белоталом у Баксы.
Никому не расплетала
На две косы волосы.
Распалось что-то, застонало в груди у Иванова. Полыхнула огнем кровь, и весело затрещало сердце. Или это курево разгорается, и пламя лижет подсохшую траву?
Задорно в ответ закричал он через струистую речку, перебивая:
Бор горит, сырой горит