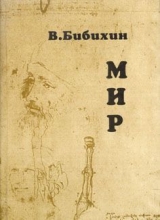
Текст книги "Мир"
Автор книги: Владимир Бибихин
Жанр:
Философия
сообщить о нарушении
Текущая страница: 2 (всего у книги 9 страниц)
Ну вот, недоставало вставать в тупик перед старинным парадоксом. Возможно, он уже давно благополучно разъяснен. Существует же для чего– нибудь дисциплина истории философии. Или еще проще: хотя бы и не разъяснен, все равно ведь известно, что Платон – это метафизика, а метафизика преодолена. Хайдеггер разрушил метафизику. Разве не так у него поставлена задача – деструкция метафизики? Какое после этого еще может быть, серьезно говоря, единое, взаимообратимое с бытием? Может быть, еще «умопостигаемое единое»? Что-то из мира идей? Мы давно успокоились, что никакого потустороннего мира идей нет, и когда мы сейчас говорим «идейный мир», то имеем в виду, наверное, не трансцендентные сферы. Надо, подумают про нас, иметь праздный ум, чтобы на досуге разбирать, что такое единое, что такое тождество и почему бытие даже не «тождественно» единому, а просто естьединое. У древних, наверное, был – они же рабовладельцы – этот досуг, схоле, их философская «школа». А у нас схоле нет, нам недосуг. В конце концов, у нас нет настроения входить в эти единые, иные, тождества.
Между прочим, «нет настроения» вовсе не значит, что в нас вообще нет никакого настроения, как раз наоборот. «Нет настроения» – т. е. нет настроения для этого вот, а именно потому, что мы настроены делать что-то другое. Настроение как раз есть, мы только не знаем точно, какое, хотя знаем определенно, что это не настроение разбираться, единое иное ли другому или неиное ему и бытию. Настроению нет дела до единого и его иного. Правда, настроению, честно говоря, нет дела и до «целостной формы». Настроение – это настроение.
Настроение – это когда за суетой и ненужными встречами, за раздергивающими заботами неведомо откуда, может быть, из детства просится не музыка, не сама музыка, а словно только один ее неслышный тон, он заглушён шумом, но будет яснее слышен, когда мы останемся наконец наедине с собой и пойдем по людной вечерней улице. Настроение захватит нас, и не только нас, а всё вокруг склонит в свою сторону, и мы словно завороженные будем бояться, что его что-то спугнет. Такое настроение может превратиться в стихи, которые не нарушат настроения, а наоборот, дадут ему быть собой и остаться навсегда и стать настроением других людей, может быть, очень многих, может быть, настроением времени; или настроение превратится в музыку – оно ведь и так с самого начала было неслышным тоном; или ни во что не превратится, а развеется, когда чей-то голос проницательно спросит со стороны: «Что это ты сегодня такой задумчивый?» – и мы к собственному стыду поспешим заверить, что вовсе нет, что все это так, ничего.
Почему настроение так заметно? Почему, еще только издали видя человека, с которым у нас деловое общение, мы спешно и старательно стираем с лица следы задумчивости, расстройства, печали? Никогда на самом деле стереть до конца не удается, люди догадываются, расспрашивают, иногда тактично, и только под защитой чужого участия мы перестаем стыдиться. Настроение мгновенно задевает: «Что с тобой?» Его каким-то неведомым путем замечают раньше, чем особенности костюма, состояние здоровья. Придите в странной одежде, могут не заметить. Придите без одежды. В некоторых местах это разрешается и уже привычно. Но необычное настроение никогда не будет оставлено без внимания. Настроение чувствуют, даже если отвернешься. Есть общепринятые настроения. «Я не в настроении» говорится, когда настроение необщепринятое. «Я не в форме» – значит не в силах придать себе требуемую в обществе форму, настроение сильнее меня. С настроениями борются. Ни с чем никогда не борются так, как с настроениями. Вторгаясь в общество со своим особенным настроением, я могу быть уверен, что иду на конфликт: озадачу, расстрою, настрою и уж во всяком случае обращу на себя внимание. Почему так?
Значительность общения детей с взрослыми и друг с другом в немалой мере происходит оттого, что дети не прячут своего настроения и при общении с ребенком имеешь дело не с его взглядами на мир, а с самим миром, каким его делает для ребенка настроение. У взрослых мы почти никогда с открытым настроением дела не имеем, а обычно только со скрытым, подавленным настроением. Нам кажется, что, общаясь, мы обмениваемся мнениями и говорим о делах. Однако прежде всего мы в любых условиях общения общаемся между собой своими настроениями. Не случайно власть интересуют не мнения общества, – если интересуют, то не очень серьезно, – а настроения. Настроения могут овладевать миллионами. Они перекидываются мгновенно, и преградой им может встать только новое настроение. Настроения, охватившего массу, достаточно, чтобы изменилось сразу всё. «Значение настроений в истории нельзя достаточно оценить: все великое в ней произведено ими. Религии и революции, искусство и литература, жизнь и философия одинаково получают свой особый характер в настроении тех, кто создает их» (В. В. Розанов, «О понимании»).
Что такое настроение? Почти с тем же успехом можно было бы спросить: что такое человек? Боже мой, что такое человек! Человек это человек.
Попробуем сказать не что такое человек, – человек это очень много, – а что такое человек в своем простом существе. Назовем существо человека присутствием. Вещи существуют. Животные живут. Человек существует как вещь, живет как живое существо, присутствует как может присутствовать только человек и все человеческое. Стол не присутствует в комнате, он просто стоит там. Кошка не присутствует, разве что мы шутливо возведем ее в человеческое достоинство; кошка спит, наблюдает, мурлычет. Человек присутствует, и не его вещественное телесное наличие, как наличие шкафа, и не его живая природа, как у черепахи или кота, а прежде всего и главным образом его присутствие касается нас – в буквальном смысле касается как задевает, касается как задействует, обращено к нам как безусловное требование участия.
Присутствие, существо человека, не приковано пространственно к его телу. Человек ушел из дома или из жизни, а все еще полно его присутствием. Пушкин умер сто пятьдесят два года назад, но присутствует среди нас, и его присутствие ощутимее, чем присутствие многих живых людей. На полке стоит собрание сочинений Пушкина, но книги не совсем неживые предметы, в своих сочинениях поэт неким образом присутствует. Он присутствует в своих памятниках. Он присутствует, когда читают его стихи, когда пишут о нем книгу.
Присутствие никогда не где-то там, оно всегда близко ко мне, касается меня благодаря моему собственному присутствию и через него. Другой присутствует для меня как проникающий в мое собственное присутствие; он задевает меня тем безусловнее, что не телесно. Присутствие не поделено перегородками, другой присутствует для меня вдали иногда интенсивнее, чем рядом. Чтобы уйти от чужого присутствия, обычно мало заслониться стеной.
Присутствие непосредственно задевает меня потому, что когда я хочу не просто вглядеться в облик человека (у него приятный вид, у нее скованная походка) и не просто отождествляю его с должностью и мнениями (она секретарь такой-то кафедры, он либерал), а допускаю до себя то, что есть этот вот человек в его сути, то я вижу, вернее, ощущаю, встречаю настроение – не условную форму, скажем, любезность, а то настроение, которое всего вернее владеет человеком, когда он «не в настроении».
2
Мы должны спросить себя, чем мы здесь заняты, собираясь уже во второй раз, – я, который говорю, вернее, читаю; вы, которые меня слушаете. Мы говорим о мире. Мир это как будто бы самое простое: всё. Но ubique – nusquam, везде – значит нигде. Говорим обо всем – значит ни о чем. А мы не хотим говорить так, для проведения времени, – немного о городах, немного о равнинах, немного о прошлом, немного об экологической катастрофе. Мы хотим говорить строго. Строго говоря, мы сразу спотыкаемся. Говорить обо всёмтрудно. В самом деле, и наш разговор, и то, что мы собрались здесь в Московском университете, и наши мысли о мире – это тоже мир. Тогда, выходит, мы должны говорить и о себе, и о том, что мы говорим о себе, и так далее. С самого начала мир ускользает в том смысле, что, оказывается, от него нельзя оттолкнуться, мы собирались о немговорить, а получается, говорим о себе. Это сбивает с толку. О невозможности отодвинуться и посмотреть со стороны на всёговорит логика. Наше отношение к логике теперь, однако, такое, что мы ей верим и не верим. Вдаваться в подробности логических антиномий, показывающих, что мир невидим, у нас нет настроения.
Настроение не прихоть. Подлинное, не устроенное, не подавленное настроение – это сам человек. Подойти ближе к существу человека, чем в его настроении, я не могу. За настроением мы увидим опять настроение, более «сырое», более настоящее. Настроение принадлежит к существу человека. Существо человека мы назвали присутствием. Мы сделали это не только потому, что так сказал Хайдеггер. Впасть в хайдеггеровский догматизм, недостаток собственной мысли прятать за его удивительными формулами было бы занятием, не дотягивающим даже до подражания Хайдеггеру. Один из его американских учеников вспоминает: «В ответ на мои частые просьбы изложить ту или иную путаную терминологию его работ на более простом немецком он обычно застывал в неподвижности, целиком поглощенный предложенным ему предметом. Я сидел рядом с ним за его столом, делая временами записи его разъяснений. Ни разу не удалось мне предугадать, что сорвется с его уст после таких минут сосредоточенности; мои предположительные интерпретации часто оказывались на ложном пути. Он сам нередко с горечью замечал, что надо было бы изложить все иначе. В одном из таких случаев я вдруг воскликнул, сам почти не понимая, что говорю: «В вашей философии, герр Хайдеггер, я всегда ощущаю себя жалким новичком!» На что он ответил так же вдруг: «Точно то же я чувствую каждое утро» [1]1
Gray J. G. Heidegger on remembering and remembering Heidegger. – «Man and world», X, 1977, n. I, p. 75-76.
[Закрыть]. Мы называем существо человека присутствием не только потому, что Хайдеггер назвал существо человека присутствием, Dasein, но и потому, что не видно лучшего названия этому неизвестному. Назвав существо человека присутствием, мы не обязаны отныне понимать его исходя из нашего представления о том, что такое присутствие. Наоборот, мы должны думать о присутствии как о существе человека, помня, что всякое имя ему будет условным. Можно было бы назвать существование человека бытиём, пользуясь тем, что в русском кроме ученого «бытие» есть поэтическое «бытиё?» Определение человека «разумное живое существо» – это целых три определения вместе, а мы хотим думать о том одном, что делает человека не суммой функций, а целым. Мы пытаемся назвать существо человека так, чтобы не наделать ему вреда, не сузить, не исказить его и все-таки определить его в том первом, по отношению к чему все другое при нем. Когда мы говорим «присутствие», мы хотим найти путь к тому неуловимому единственному, что Дунc Скот назвал haecceitas, «вот-этость».
Говоря «настроение», мы тоже хотим иметь в уме не дефиницию настроения в философском словаре и не § 29 «Бытия и времени» Хайдеггера, а настроение, как мы с ним встречаемся и как с ним еще встретимся, думая о мире. Нас не будет при этом волновать вопрос, останемся ли мы целиком в пределах хайдеггеровской мысли или выйдем из нее по сути или в частностях. Единственным интересом должно оставаться само дело.
Настроение – это не настроение присутствия, словно есть человеческое присутствие и у него есть настроение. Присутствие, пока оно остается собой, и есть настроение. Настроением человек присутствует. Die Stimmung... ist... die Grundweise, wie das Dasein als Dasein ist [2]2
Heidegger Μ. Gesamtausgabe, 29/30, S. 101.
[Закрыть]. «Настроение есть основная мелодия того, как присутствие в качестве присутствия есть», вот хайдеггеровское определение настроения. Основная мелодия, Grundweise здесь не в смысле «главная», когда есть дополнительные, а в смысле «лежащая в основе», «основная» мелодия, – не так, как у шарманки есть разные мелодии, но шарманка остается шарманкой даже когда не играет, а так, как музыка – это мелодия и иначе как мелодией быть не может: мелодия не «акциденция» музыки как «субстанции»; музыка не бывает иначе как мелодией, хотя одна мелодия – еще не вся музыка.
Ближе к человеческому присутствию, чем настроение, ничего нет. Мы можем разобрать наше настроение и увидеть бездну, но и бездна будет настроением, да еще каким, – таким, что мы, скорее всего, умолкнем от изумления, захваченные тем, что испытаем, и потеряем способность не то, что «оперировать концепциями», но и перестанем узнавать себя в том, кого считали собой. Человек может изумиться, т. е. «выйти из ума», но из настроения не выйдет, наоборот, в настроение войдет. Настроение – не «выражение» человеческого присутствия, не его форма, не способ, не акциденция. Человек присутствует как настроение.
Присутствие, конечно, мое. Но оно мое не в том смысле, что я им распоряжаюсь, владею им как телом и способностями. Мое присутствие не в моей власти; хотя оно мое в более полном смысле, чем тело и способности, оно – мое, скорее, в том совсем другом смысле, что я ему принадлежу. Не я создал мое присутствие: я присутствовал раньше, чем сказал «я». Новорожденный ребенок, мало владеющий телом, способностями, разумом, – это уже полноценное присутствие в мире, ничуть не в меньшей мере присутствие, чем присутствие взрослого.
Я не могу отменить мое присутствие. Если я сейчас предприму, скажем, от неловкости и от незнания, что дальше говорить, отчаянные усилия скрыться от ваших глаз, например, заберусь под стол, мое присутствие в этом помещении станет не менее, а более кричащим. Пожалуй, единственный способ как-то скрыть мое присутствие от вас – это говорить такое, чтобы вы задумались о деле и забыли обо мне. Но опять же мое забытое вами присутствие не прекратится, оно только станет незамечаемым, каким обычно и чаще всего бывает человеческое присутствие, вовсе не уменьшаясь от этого. Оно никуда не денется, оно просто станет еще более общим достоянием. Если человек настолько захочет отделаться от своего присутствия, что покончит с собой, его присутствие не кончится: покончивший с собой будет продолжать присутствовать как уже не живой человек, но как именно он, этот вот человек, не кто-то другой. Присутствие длится дольше, чем жизнь.
Человек, конечно, сам может не вместить собственного присутствия. Он может отсутствовать от самого себя. Он может быть в подавленном настроении. Он может не хотеть слышать своего настроения, своего присутствия, и не давать другим услышать его, как чаще всего и бывает. Ему это никогда не удастся так, как он хочет. Люди только и могут отсутствовать потому, что заранее уже есть присутствие, от которого они отсутствуют, которое они упускают. Когда они умолкают, их молчание все равно говорит и истолковывается чаще всего неудобным для них образом.
Присутствие – мое, но не так, как пальто мое, а так, как имя мое. Это сравнение хромает. Присутствие, в отличие от имен, меньше поделено между носителями. Чужое присутствие касается меня, принадлежит мне немногим меньше, чем мое собственное.
Что такое присутствие? Это само мое бытиё. К присутствию нельзя быть ближе, чем в мелодии настроения; к бытию нельзя быть ближе, чем в опыте присутствия.
Вот это вы нам еще сначала докажите, возразят нам. Бытиё, наверное, все-таки что-то более основательное, чем настроение. Не хотите ли вы с нами шутить. Бытие и по определению есть объективная реальность, существующая вне и независимо от сознания человека. Бытие – скажем, вот эти стены, такие прочные; фундамент, еще прочнее, еще основательнее. – Впрочем, тут же сами признают возразившие, стены и фундамент здания пока еще правда не бытие. Ведь стены могли бы тут и не стоять, а то, что можно поставить или не поставить или потом снова разобрать, – наверное, не бытие или по крайней мере не само по себе первичное бытие. Строители подняли подъемным краном железобетонные плиты, сварили электросваркой арматуру, а могли бы поставить те стены в другом месте или совсем что-то другое поставить, не железобетонное и не в этой форме, а может, в какой-то другой форме. Здесь вообще вполне могло бы быть чистое поле. Стены тут, пользуясь старым философским словом, «контингентны», случайны; а то, что случайно, требует другого, сущностного, неслучайного в качестве своей основы. Здание намеренно создано, потому оно действительно все-таки не бытие, несмотря на фундаментальную основательность своей громады, убедительно символизирующей бытие, но не больше, чем символизирующей. Зато уж верно бытие – те общественные силы, которые двигали постройкой здания, которые некогда создали на середине восточноевропейской равнины город Москву и разными способами сделали этот город одной из мировых столиц. Эти общественные силы действуют не из воздуха и даже не в первую очередь из географического расположения и природных условий. Эти силы – люди, собранные в общество. Что такое эти «люди»? Люди не в своей биологии, не в своей физической силе, – звери сильнее людей, – и даже не в своем разуме, – по разуму, мы видим, ничто на самом деле в истории не устраивается, – а люди в том, что раньше и прочнее и убедительнее, чем разум: люди в своем непосредственном присутствии на земле, люди в своем существе, люди в настроении удали у первопроходцев и освоителей просторов, потом в настроении упорства, может быть энтузиазма, может быть, мрачной решимости, может быть, ожесточенного отчаяния, – так могуществом человеческого присутствия, настроенного утверждать себя, на земле был создан этот город, Москва, а не был бы создан иначе. В стенах здания главное, выходит, не бетон. Сам по себе выбор строительных материалов – уже довольно случайное и позднее производное истории человеческого присутствия на восточноевропейской равнине. В том, что эти стены есть, дает о себе знать присутствие человека, и именно такое вот.
Если бытие – не вещи, которые там и здесь, а само по себе есть, то мы имеем его опыт прежде всего в нашем собственном человеческом присутствии, которое открывается нам в нашем настроении, даже в подавленном.
А вдруг более настоящее бытие – это природа? Ведь сам человек создание природы. Он вершина биологического развития.
Что такое природа? Природа, например, это лес. Лиственный лес летом зеленый, зимой серый. Какой лес природа – зеленый или серый? И летний, и зимний лес одинаково природа. Лес – природа как лес вообще, как единство своей зимней и летней формы. Следовательно, лес увидеть нельзя: ведь мы видим или летний лес, или зимний, а лес сам по себе, летний-и-зимний, т. е. не летний и не зимний, – такой лес мы нигде не видим и никогда глазами не увидим. Тем более природу видеть, в смысле разглядывать глазами, нельзя: мы наблюдаем то, что переходит в другое, и природа – в этом переходе. Мы видим саму природу постольку, поскольку видим то, чего видеть не можем: единство противоположных вещей.
Что зимний лес и летний лес – одно, т. е. лес, этого перелетные птицы, например, не видят. Они вообще не видят зимнего леса зимой, видят только летний. Увидеть, что летний лес и зимний – одно, мог только человек. Человек взял летний лес и зимний лес в их единстве, в том, что оба – один и тот же лес.
Опять единство? Единство объясняет собой все, его не объяснит никто. Никакой природы без единства нет. Природа воды одна во льде и в паре, вода есть единство льда и пара. Вся природа («весь мир») оказывается как единство неуловимой, в единой природе нет ни камней, ни магмы, ни огня, ни холода, она «единство» всего, единство невидимо, но без этого неосязаемого единства нет ни огня, ни холода как природы, есть только одноразовые ощущения.
Охватить природу не легче, чем охватить единство, скорее наоборот. Мы знаем, что такое единство, не больше, чем что такое целое. Мы познаём с помощью единства.
Мы как будто ходим по кругу. Мир – единство, цельность. Единое, говорили древние, есть бытие. Мы так уже не говорим. Бытие, говорим мы, – это, скорее всего, природа. Природа, однако, в своем существе есть единство противоположных вещей. Или бытие есть общество, история. Но человек, чтобы стать общественным, историческим существом, должен найти себя, вернуться к простой цельности своего присутствия, раздвоенный и расстроенный не делает историю.
Тупик? Здравый смысл говорит нам, что наш «предмет», мир как целое, надо «конкретизировать», иначе он ускользает. Здравый смысл велит: вернитесь к определенным задачам. То, что мы не знаем, что такое цельность, что такое мир, ведь не мешает нам их решать.
Например, Александру Македонскому не мешало покорять мир то, что в его времена расплывались в неизвестности не то что границы мира вообще, но и края обитаемой земли. Между тем забота Александра была вовсе не выяснить сперва в точности границы земли и получить ее карту, после чего идти в поход, чтобы захватить всюземлю. Логика Александра другая: мы не сначала узнаем, какая вся земля, потом ее захватим, а сначала захватим всю землю, а потом уж узнаем, какая она. Наполеон тоже говорил: on s'engage, et puis on voit, сначала ввяжемся в дело, потом посмотрим.
В той своей речи, в которой Александр призывал «мужей македонских и союзников» [3]3
Flavius Arrianus, Alexandri anabasis V 26, 4.
[Закрыть] двигаться дальше, а они уже устали и, честно говоря, боялись, Александр, собственно, говорито границах земли, о границах «всей Азии, которые Бог сделал также и границами земли», но границы земли определяются у него обратным образом исходя из его собственного – и его армии – необходимого последнего усилия: посколькувот-вот уже совсем немножечко осталось, чтобы совершить решающий подвиг добродетели (доблести), постольку пределы всей земли должны быть уже близки. В основе убеждение: не может быть, чтобы предельному человеческому усилию не дались пределы всего. Предел усилий и предел мира – одно и то же. Как-то само собой получалось, что эти две вещи – мера сил эллинов и вся земля целиком – совпадают.
«Пределов же усилий благородному мужу я, что касается меня, не полагаю, кроме как самих же трудов, сколько их надо, чтобы совершить прекрасные деяния» [4]4
Там же, V 26, 1.
[Закрыть]. Прекрасное деяние номер один – как раз покорение всего, «всей земли» до ее конца. Александр говорит дальше: «Если же кто желает услышать, каков будет конец самой войне, то пусть знает, что немного ведь нам уже и осталось до реки Ганга и до восточного моря; а оно, говорю вам, по-видимому, явно примыкает к Гирканскому [т. е. Каспийскому или, может быть, Аральскому] морю: ибо всю землю вокруг охватывает то великое море... Так что... вся Ливия [т. е. Африка] будет наша, и точно так же вся Азия наша, и пределы ее области (ἀρχῆς), которые Бог сделал пределами также и всей земли» [5]5
V 26, 1-2.
[Закрыть]. Последний край земли – его поможет очертить море, океан. Еще совсем, совсем немножко дотянуться, и вдруг сработает волшебная защелка, будет достигнут предел, в руках будет всё. Всё, собственно, с самого начала и манило Александра: сперва относительное «всё» Эллады, потом безотносительное «всё» земли. Какой желчью для Александра было бы, если бы кто-то стал задавать ему сократические вопросы, заставляя его прояснить для самого себя, что он понимает под «всё». Но всё – это же просто всё!
Об этом мы уже говорили. Мы топчемся на месте. Мы хотели знать, что такое мир. Мир есть целое, единство всего: просто всё, взятое в целом, без исключения. Что такое единство, единое, мы не знаем, мы с его помощью всё знаем. Единство мы безошибочно опознаем. Так же мы, например, уверенно опознаем живое, в отличие от неживого. Но опознать не то же, что знать. Мы не знаем, что такое живое. Над этим бьется биология. Ясно, как мы отнеслись бы к человеку, который захотел бы вот непременно сейчас же на месте объяснить жизнь. Такая же или еще большая загадка, чем жизнь, – единство всего, мир. Единство мы опознаем еще легче, чем жизнь. На каждом шагу мы, собственно, только и заняты прежде всего опознанием единств, единства для нас – та первая ясность, в свете которой приходит всякая другая ясность. Единство легче опознать, чем жизнь, – и труднее, чем, что такое жизнь, знать, что такое единство. Даже не обязательно безусловное. Единства, например, – слова, которыми мы говорим. Но определения слова не существует, способа выделить слово как единицу из речи не найдено, для этого не удалось выработать однозначных критериев, хотя мы без труда говорим и опознаём слова, и не зная, что есть слово. В «Логико-философском трактате», в позиции 4.002 Людвиг Витгенштейн говорит: «Человек обладает способностью строить язык, в котором можно выразить любой смысл, не имея представления о том, как и что означает каждое слово, – так же как люди говорят, не зная, как образовались отдельные звуки». Человек живетв миреи говорит, не зная, как это делает. Жизнь, мир, язык – вещи неприступные. За что же мы взялись?
Легкая, все опережающая опознаваемость единства, – может быть, это она подвела нас, соблазнила спросить, что такое весь мир в его единстве? Теперь мы в наказание растерянно ходим по кругу. Ну и что, что мы повторили, что мир как единство целого невидим, что мы всё в нем видим, а его нет? Это люди знали или чувствовали всегда.
Нам остается, выходит, действительно «конкретизировать» свою тему, чтобы прийти к какому-то определенному результату, т. е. ввести ее в круг принятых тем, иначе мы остаемся в положении человека, говорящего себе «Пойди туда, не знаю куда, принеси то, не знаю что». Или, может быть, еще раз попробовать пройти по кругу, по которому мы уже раз или два прошли? Попытаться увидеть что-то кроме того, что мы до сих пор видели, пусть даже рискуя вместо этого глупо провалиться и замолчать, наконец, чтобы дать говорить другим, умеющим мыслить «концептуально»?
Еще раз присмотримся к науке. Увидим ли мы в ее основании только неспособность задуматься о единстве, которым она на каждом шагу оперирует, неспособность понять это основание всех своих понятий?
Математика. Древняя математика, похоже, потому не могла подняться до высшей новоевропейской математики, которая началась с исчисления бесконечно малых, с операций над бесконечностями как единицами, что древняя математика не могла перестать всерьез задумываться о единице и не расставалась с пониманиемединицы, никак не научилась просто оперировать с ней, не достигала тут блестящей бездумности.
Ямвлих, неоплатонический философ и математик (ок. 283 – ок. 330), определяет единицу (монаду) как «начало числа». С этим всякий согласится, так мы и сейчас бы определили. Но Ямвлих продолжает: «Единица – начало числа, существующее до всякого полагания», т. е. не только человеческого полагания, установления, назначения (мы хотели бы выставить в качестве тезиса, аксиомы, что единица есть то-то и то-то, но так сделать не можем, потому что единица всегда уже есть до всякого нашего полагания, т. е. мы ее можем разве уже только принять, встретить как нечто готовое до нас, заранее существующее), но, говорит Ямвлих, единица существует до всякогополагания, включая божественное. Т. е. единица даже не богом сотворена, она равновечна с богом, она сам бог и есть.
«В сторону уменьшения она (единица) кладет предел делению непрерывного до бесконечности, а в сторону увеличения – подобному же (т. е. бесконечному) приращению непрерывных». Т. е. не то что есть какая-то кем-то назначенная единица, меньше которой ничего не может быть, так что на ней дробление надо прекратить, – дескать, дальше почему-то уже нельзя, – а в совсем другом смысле: как бы мы ни дробили число, в результате дробления у нас на руках все равно оказывается некая единица, и сделать так, чтобы малая единица не маячила там, в конце всякого дробления, мы не можем. То же с увеличением числа: не то что кем-то назначено крайне большое число, скажем, десятка в огромной степени, выше которого уже нельзя ничего иметь, а как бы мы ни увеличивали число, все равно окажется, что самое большое число – все равно некое единство, т. е. опять своего рода единица. И падай хоть вниз, в бесконечно малые, хоть вверх, в бесконечно большие, хоть в «элементы», начала, хоть в последние бесконечности, все равно упадешь в одну и ту же единицу, из которой никогда не выпадешь. И не мы так установили, повторяет Ямвлих, но божественная природа такова.
«И всякая совокупность множества, равно как и всякая часть деления, образуется через единицу: десятка – это единство, тысяча – это тоже некое единство, и тысячная часть – опять единство, и так все части до бесконечности. В каждом из этих чисел единица по своему виду (эйдосу, εἴδει) одна и та же, по величине же все новая и новая. Порождая саму себя из самой себя, подобно вселенскому логосу и природе сущего, все сохраняя и не давая распасться ничему из того, что ею соединяется, единица одна среди всего прочего наилучшим образом способная являть, уподобляясь всеобщему спасительному промыслу, даже и божественный логос, и полнее всего отождествляться с ним, поскольку она наиболее близка к нему. И она является идеей идей (εἶδος εἰδῶν), пребывая в художнике как некое художество (τέχνη), а в мыслящем – как мышление... Божественная единица (монада) охватывает своей потенцией вещи, актуально кажущиеся противоположными по любому способу противоположения, равно как единица в силу особенной своей неизреченной природы выступает... во всех видах [т. е. во всех идеях, эйдосах, сущностных формах; сейчас, наверное, сказали бы, во всех структурах всех вещей]... Единица порождает сама себя и от самой себя рождается как самосовершенная, безначальная и бесконечная, представляясь причиною постоянства, подобно тому как и бог в своих природных энергиях мыслится сохраняющим и соблюдающим разные природы. Единицу называют не только богом, но и умом, и мужеженским началом... Единицу именуют демиургом и ваятельницей... ее... отождествляют с Прометеем».
Это Ямвлих, математик начала 4 века. Мы из всего этого почти ничего не понимаем. Какая идея идей, εἶδος εἰδῶν, какой божественный логос, какое еще порождение единицей самой же себя? Почему вдруг мужеженское начало? Какая ваятельница? С другой стороны, сказать, что мы совершенно этого не понимаем, мы не можем. По крайней мере одну вещь мы понимаем очень хорошо: что ничего этого мы не должны знать и ничем этим не должны заниматься, разве побочно, между прочим, в порядке гуманитарного хобби, если хотим честно заниматься современной математикой, а не просто рассуждать о ней и о том, как она, современная математика, отличается от античной. Есть какая-то измена строгости науки, нецеломудренность, когда философия некстати подмешивается к математике.






